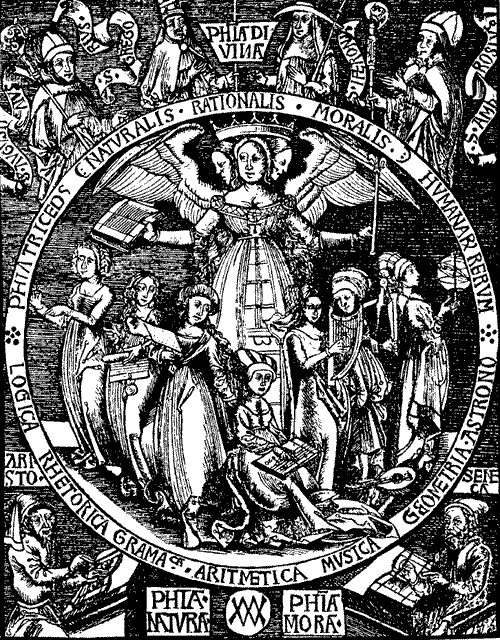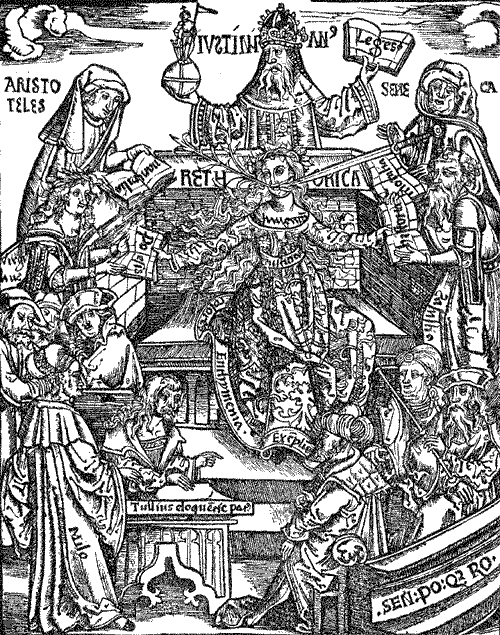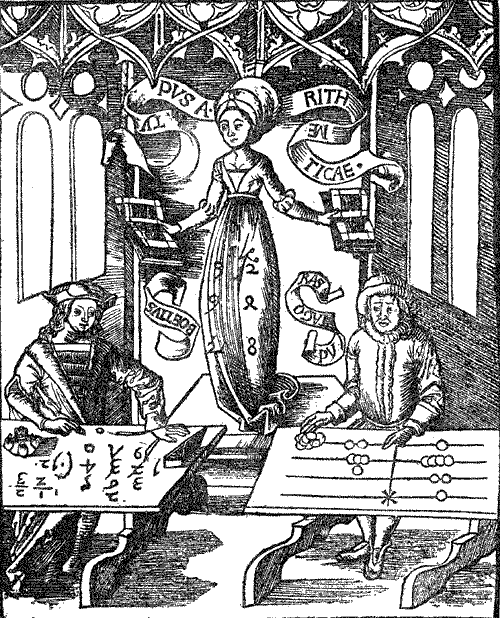Беседа Модеста Колерова с Михаилом Сперанским
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 7, 2002
| Модест Колеров. Кажется, что проблема науки в России — так, как она освещается в прессе и представляется в разговорах деятелей науки, — состоит из следующих узловых пунктов: ВПКашная наука, ее состояние и перспективы; фундаментальная наука и ее обветшавшая лабораторно-экспериментальная база; утечка мозгов; судьба научных технологий, которые могут дать экономический эффект и выживают в новых условиях; государственная академическая бюрократия. Академия наук, до сих пор самозванно выступает в качестве монопольного лоббиста интересов науки (и здесь же — проблема академических гуманитарных наук, более всего вызывающих общественную ненависть, как наименее близких к реальным интересам науки и общества). Правильно ли я говорю? Михаил Сперанский. Эти вопросы несколько тривиальны и возникают при определенной — скорее обыденно-политизированной — позиции внутри самой науки. Часть проблем просто исчезнет, если отойти от обыденной точки зрения. Например, нет и не может быть российской фундаментальной науки. Если наука фундаментальная, то она мировая. В мировой науке бывшие советские ученые, а ныне — российские, вполне адекватны. Причем, может быть, и гораздо адекватнее, чем при Советской власти. Индексы цитирования показывают, что российские — по гражданству или по происхождению — ученые занимают вполне нормальные позиции. Представители практически всех реально работающих научных школ адаптировались в иностранных исследовательских центрах и в российских вузах. При этом подкармливают фундаментальные исследования в России, обеспечивая зарубежные командировки своим ученикам и учителям, гранты и — тем самым — воспроизводство научных школ. Всем известна математическая школа Арнольда, которая действует так, как будто мало что изменилось за эти годы: отбирает детей с математическими способностями, учит их, как-то обеспечивает и аспирантуру за рубежом, и в последующем — занятие кафедр. Проблемы утечки мозгов занимают — в основном — наших академиков, оставшихся без дармовой рабочей силы. Академики же не пишут сами и по большей части не занимаются исследованиями, только подписываются под статьями, которые готовят аспиранты, кандидаты, доктора. Многие содержательные люди, чьи работы интересны и цитируемы, уехали, потеряли интерес к академической карьере и вообще — видели этих академиков… Есть проблема государственной организации науки, переживающей переход от советского типа к какому-то новому, собственно российскому. Естественно, и у чиновников, и у многих организаторов науки есть тоска по той определенности, которая, как кажется сейчас, была в советские времена. Относиться серьезно к этой ностальгии нет, мне кажется, никакого резона.. Теперь по конкретным вещам. ВПК — была такая закрытая наука. Жила она, естественно, не только и не столько за счет советской фундаментальной науки, аза счет симбиоза отраслевой и академической науки с разведкой. Частично схема этого симбиоза описана нашими выдающимися разведчиками, обеспечившими, например, получение всей технической документации и чертежей «изделий»— первых образцов ядерного оружия в США. В дальнейшем эта схема была распространена на все области знания, имеющие реальное или потенциальное значение для военного сектора. Наука была заточена под выполнение определенного заказа. Сейчас военные приоритеты определены не так уж точно, чтобы ученые могли давать заказы разведке на поиск знания, образцов изделий или технической документации У нас были ВИНИТИ, Институт межотраслевой информации и ИНИОН. Эти институты собирали и обрабатывали информацию из открытых и закрытых источников и распределяли ее среди потребителей. Сейчас информационная система советской науки распалась. И появился Интернет, где за минуты можно получить информацию о том, кто, чем и в каком направлении работает. М. К. Хорошо: с точки зрения демографической советские проблемы науки скоро исчезнут. Но мы все-таки хотим смотреть на вещи менее стратегически, а более актуалистически. Допустим, из двух миллионов научных сотрудников, зафиксированных в переписи 1979 года в СССР, на территории России осталось полтора миллиона. Из них, наверное, восемьдесят процентов можно отбросить, учитывая раздутые штаты и непрофессиональную оценку «научности». Но что такое эти триста тысяч оставшихся, из которых, по данным серьезных исследователей, уехало не больше тридцати тысяч — деклассированная преемственная среда? Или это тупиковая ветвь развития, как неандертальцы? Все гордятся советскими достижениями в области точных наук, в области среднего образования и так далее. Но эпоха прошла, и эти триста тысяч человек — только демографическая проблема? М. С. У меня другие данные. В академии около пятидесяти тысяч остепененных ученых. Из них, по экспертной оценке, пятнадцать тысяч работающих. Это ученые, на которых ссылаются, которые имеют научную репутацию. Увеличим их число в два раза за счет отраслевой и вузовской науки. Получим тридцать тысяч продуктивных людей. Все остальные — балласт, люди, которые имеют возможность, например, по Интернету или в бумажном виде получать иностранные научные журналы, переводить статьи и впервые публиковать повторенные ими научные результаты в России. Ведь именно так жило большинство советских ученых. Проблема-то в получении нового знания, а не в демографической базе для получения знания. М. К. Проблема все-таки и в преемственной среде, которая задает стандарты знаний. М. С. Где у нас были результаты в советское время? У нас была математика, унас была некоторая физика, у нас практически не было химии, за исключением военной. У нас было несколько очень хороших биологических школ. Не было гуманитарного знания в принципе, за некоторыми исключениями: история, лингвистика. Вся остальная наука была имитационной и не выдерживала никакой научной конкуренции. И компенсировала научную импотенцию статусной конкуренцией. Выборы в АН СССР, как, впрочем, и в АН РФ — это ведь песня. В самом начале перестройки были где-то опубликованы доносы кандидатов в академики друг на друга в ЦК и КГБ. И ничего у них не изменилось с тех пор.
М. К. А почему они, даже успешные и цитируемые ученые, жалуются на свою жизнь так, словно они не успешны и не цитируемы? М. С. Для поддержания институциональной организации науки нужны деньги из бюджета. Кроме того, академикам полагаются по статусу машины, дачи и квартиры. То, что в остатке, если есть хорошие отношения с начальством, можно выбить на реактивы, приборы, командировки. Поэтому работающему человеку, может, проще выехать в Америку или Европу в специализированную лабораторию и провести эксперимент. Кроме того, вне России существует огромный рынок аренды техники и разной научной аппаратуры. Мало кто может себе позволить покупать приборы для одной серии экспериментов за сотни тысяч и миллионы долларов. Их берут в лизинг. У нас же не развита рыночная инфраструктура обеспечения научной деятельности. М. К. А следующие пункты, преподносимые обществу прессой и жалующимися учеными, тоже вызывают протест? Научные технологии, например? Есть научные технологии, вполне встроенные в рынок… М. С. В СССР была разработана архитектура процессора иного, не интелевского типа — знаменитый «Эльбрус». Разработчик архитектуры уехал в начале 90-х в Штаты и, по слухам, частично реализовал свои идеи в Pentium 4 и в Crossover. М. К. В начале 2000 года в России было объявлено об инвестиционной сделке по «Эльбрусу». М. С. Но разработчик ушел вместе с идеей. М. К. Нет, разработчик вернулся через офшоры и завершил сделку с инвестиционным банком «Флемингс». Впрочем, ничего не знаю о ее реальных результатах. Может быть, и это утечка мозгов? М. С. Мне кажется, что даже если разработчик бы и остался в России, то все равно не смог бы реализоваться. Потому что у нас нет необходимого субмикронного кремниевого производства и нет индустрии программного обеспечения. М. К. Когда объявлялась сделка по «Эльбрусу», отдельно говорилось о том, что в Зеленограде нужно будет создавать возможности для такого производства. М. С. Есть специфика нашей организации науки, советской я имею в виду и последующей. В ней рождается множество идей, научных фактов, обобщений, описывающих теорий, часть которых ученые транслируют в очень узком — кафедрально-лабораторном кругу. Или «на коленке» реализовывали и реализуют в какое-то изобретение, прибор. Чем и ограничиваются. Проблема современной науки — отсутствие технологий. В том числе и трансляции знания. Например, есть два вида технического творчества: сделать оригинальную табуретку — скорее предмет искусства, пусть и примитивного, и наладить производство табуреток, создать технологию производства. Совершенно разные процедуры— мастерство и технология. Аналогично — можно создать идею, и вокруг нее сформировать людей, ее воспроизводящую и применяющую. Так вот, мастерить мы умели. У нас были прекрасные идеи, локальные коллективы и отдельные великолепные изделия, которые запускались иногда в ограниченную серию в условиях, приближенных к зоне (крайний случай — закрытые города). Но такое производство знаний и изделий неотделимо от самого мастерового, от его искусства, навыков. И поэтому во многих отраслях науки и технологии от СССР в России остались тупиковые ветки. Были гениальные для своего времени достижения, но они не технологизируются. Их невозможно продать. Сколько было в середине 90-х годов разговоров о том, что мы продадим наши военные разработки? Банкиры начали заниматься этим делом. И не продали ничего. Есть такая знаменитая история. На одном так называемом мотоциклетном заводе изобрели аккумулятор фантастической емкости. В 92 году, по-моему, туда пришли японцы и сразу всё на корню купили. Попытались наладить производство. Не получилось. Наши умельцы как-то на коленке эти штучные аккумуляторы делали, какие-то секреты у них были — может быть, и не осознаваемые.
М. К. Два года назад широко известный теперь в России инвестиционный банкир придумал заниматься продвижением российских разработок и технологий на западный рынок. С самого начала в цикл предпродажной подготовки было заложено создание модельных образцов. Но прошло два года — и о подвигах на этом поле ничего не слышно. М. С. Действительно, был замкнутый мир — СССР, где было все свое. Делали удивительные вещи, доводили их до штучного совершенства, но выпустить их в большой мир было невозможно. Даже если крали, то для воспроизведения приходилось вкладывать очень много денег. М. К. Поэтому западникам дешевле было «украсть» мозги — как прежде мозги изобретателя телевизора, вертолета и так далее (уехавших, впрочем, от большевиков по политическим соображениям). М. С. Ну, не дешевле. Это уже другая логика. Люди сами ехали. От невозможности реализоваться. Но что-то прорастает между и вовне. Например, наша математика проросла. Программисты проросли. Вот известные примеры — Институт катализа СО РАН, за разработками катализаторов крекинга нефти которого западные корпорации в очередь выстраиваются. Институт ядерной физики СО РАН — очень успешно позиционировавшийся на рынке промышленных ускорителей. Однако опять российская специфика — самые экономически успешные люди и институты не заинтересованы в публичности. В общем, паниковать по поводу состояния отечественной науки мне кажется странным. М. К. Я ставлю себя на место практического бизнесмена. Он от бандитов ушел, с пожарниками договорился, с санэпидемстанцией договорился, с местной властью договорился. Платит «в черную», оплачивает отпуска, детские сады, подарки, церковь содержит, несет на себе колоссальную политическую и социально-экономическую нагрузку. Но по действующим правилам остается вне закона и будет оставаться еще очень долго, потому что как только он перейдет грань из тени в свет, его издержки станут абсолютно несовместимыми с бизнесом, с жизнью, он просто исчезнет как рыночный агент. Точно так же живые зоны выживших технологий и науки предпочитают оставаться в тени. А в это время вся вертикаль государственного регулирования науки, включая Академию наук, стоит, как титан, на трех, с экономической точки зрения, основаниях. Первое: это сдача в аренду своих огромных площадей «в черную», в карман. Второе: фальшивые гранты, за получение которых отчитываются отпиской. С них кормятся все легендарные бездельники еще советских времен. Вфондах сидит старая советская бюрократия, выдает сама себе гранты, осваивает средства и поддерживает очковтирательство. И третье, может быть, самое важное,— это полное ничтожество системы преподавания в вузах: взятки, приписки, полное отсутствие систематического образования, которым так гордилась советская власть. В вузовской науке давно все стандарты утеряны. М. С. Их и не было. М. К. Нет, вузовская наука была. И в университетах она была. Сегодня вся сфера, которая в наибольшей степени относится к легальному регулированию государства, по большому счету порочна и позорна и к нормально выживающим зонам полноценной науки никакого отношения не имеет. Люди, которые вчера писали кандидатскую «Ленин и Вятский край», а докторскую— «Вятский край и Ленин», сейчас издают многотомные труды по евразийству и русской духовности, оставаясь статусными представителями и регулировщиками науки. То есть реальная наука и тот предмет, который выбирает себе для регулирования государство, подобны разбегающимся прямым. Система научных журналов умерла. В гуманитарных науках самый простой способ избежать цитирования — это опубликовать свою статью в бывшем научном журнале, действующем в системе Академии наук. Никто его не прочтет. Инфраструктуры для самодеятельной, самостоятельной, свободной науки — в такой единственно замечаемой государством среде — нет. М. С. Но она помимо государства существует. М. К. Вся огромная инфраструктура со всеми ставками, статусами, престижами, наградами, премиями, с представителями общественности, которые вошли в Комиссии по помилованию, и так далее — все, что имеет очень отдаленное отношение к науке, — поддерживается всей силой государства. Ведь Академия наук — это государственная организация… М. С. По статусу — нет. Здесь проблема периода полураспада. Не надо ничего стимулировать. Само умрет. Это вроде хосписа, понимаешь? М. К. Как же они помрут, если они воспроизводятся? М. С. Нет, они пополняются людьми совсем другого класса. Новое поколение академиков. Они на рынок работают, деньги делают, в науку вкладывают и в обучение. М. К. В гуманитарной части науки — рынка нет. И рынок весь целиком — это гранты, государственная поддержка и госзаказы. М. С. Есть наука и есть рынок. И люди умеют получать деньги, если хотят получить их от государства. Например, Александр Ослон. На Фонде «Общественное мнение» висит сейчас огромная научная программа. Ослон отвечает на какой-нибудь политический запрос, как бы коммерческий, за что получает достаточно денег для того, чтобы содержать институт и оплачивать исследования. М. К. А на какой политический запрос отвечает система Академии наук, которой позволяют безбедно умирать в течение десятилетий? Почему эта академия до сих пор в нетленном виде? Или ты думаешь, что государству стоит только хоронить своих мертвецов и не обращать внимания на реально выживающую в тени науку, поскольку это повредит ей. М. С. Правильно. Ведь что такое реально действующий научный коллектив? Он работает на площадях Академии. Трудовые книжки его членов лежат в отделе кадров академического института, как правило. Он использует оборудование и марку своего института. Он отдает 15–20 процентов от грантов и от своих доходов руководству института. И там мир и согласие. Если мы разрушаем базовую структуру Академии наук, где окажутся эти люди? М. К. Возникает до смешного глобальный вопрос: куда положить трудовую книжку? Или кому отстегнуть? М. С. Нет. Через какие счета проводить легальные деньги, как арендовать помещения. Вот сложились такие хрупкие отношения между академической системой и реально работающей наукой. И не дай бог нам туда лезть, разрушать их. Эффективность мы за счет целенаправленного разрушения никогда поднять не сможем. Как только государство направляет свои «конструктивные», «позитивные» усилия на какую-то отрасль, там сразу что начинается? Так что здесь нет предмета для государственной политики и озабоченности. Есть предмет деятельности: слабая система коммуникаций (все концы коммуникационные замыкаются через личные отношения отдельных ученых и чиновников), отсутствие технологий и того, что называлось в советское время внедрением отечественных и зарубежных новаций. М. К. А государство захочет этим заняться? М. С. Не дай бог. Вот ЮКОСу понадобилось с законсервированными скважинами разобраться, нанял западную фирму. Если государство попробует затолкать в такую рыночную щель свою науку, какой пойдет откат, какой бардак начнется! М. К. То есть государство в принципе не должно регулировать научную сферу, потому что если, не дай бог, оно начнет регулировать, то получится еще одна Академия наук. Так? М. С. Не одна, а много. М. К. Понятно, деятели науки, если хотят выживать, вольны использовать интернациональный контекст и ездить туда-сюда. Куда и когда хотят. Другой вопрос: почему тогда государство выбирает себе собеседников на темы науки, духовности, культуры и образования из заведомо патологоанатомической среды? Почему не говорит с теми, кто добился успеха? М. С. Все твои вопросы основываются на том, что государство что-то кому-то должно. М. К. Государство посылает нас в Красную армию, учит жить и еще кое-где пытается взять наши деньги. Поэтому оно должно. М. С. Не должно. Когда оно пытается учить, его не слушают. Когда оно в армию забирает, то 70 процентов косит. Когда требует денег, то ему показывают что? Так вот поэтому такие отношения и строятся с государством. Что требовать от государства, когда ты ему показываешь… М. К. Твой анархокоммунизм, конечно, очень последователен. Но неверен сам посыл. В таком случае вообще нет проблем, которые хотя бы отчасти затрагивали бы государство в экономической политике, в образовании и так далее. То есть — выживай как хочешь. М. С. Сегодня — да. Некоторые выживают, потому что договариваются с государством, прибедняются, и им что-то дают на нищету. Некоторые обходятся без этого. Но все понимают: что с государства возьмешь? Если хочешь делать дело, нужно обходиться без государства. Реальное состояние сегодняшнего государства таково, что оно не может этим заниматься. М. К. «Жить отдельно». Мы и так живем отдельно. Но это кажется неприемлемым, потому что огромный кусок советской научной системы благодаря монопольной защите государства не введен в рыночный оборот. А ведь еще некоторое время назад казалось, что эту банду можно разогнать. Что изменилось? М. С. В результате некоторых усилий власти, минимальных, в Академии начались внутренние процессы, которые через какое-то время, я надеюсь небольшое, приведут к ее обновлению. Первые шаги они сделали уже сами. Они были поставлены в ситуацию, когда им нужно было имитировать модернизацию. И входе имитации модернизации она случайно началась. Актуализировалось сразу несколько конфликтов. Конфликт между гуманитариями и технарями, между старыми и молодыми, между провинцией и президиумом Академии. И эти конфликты имеют шанс стать конструктивными. М. К. Суть-то не меняется. Система-то преемственная. Воровская. М. С. Люди другие, помоложе и коммерчески ориентированные. М. К. Просто они делают из Академии наук олигархический РСПП. М. С. Да, что-то вроде РСПП. М. К. Хорошо. А от РСПП лучше нам стало жить?
М. С. Да не завидуй ты, что они дешевые деньги имеют. Это плата за отсутствие взрыва. Знаешь, сколько выльется от этих академиков, если лишить их всего. Ты не представляешь их лоббистских возможностей. М. К. А откуда, какова природа? Вот скажи об этом. М. С. В 97 году, например, Счетная палата Российской Федерации провела ревизию Академии наук. И никто, ни один из известных мне людей не видел результатов этой ревизии… Или, например, несколько лет назад в момент получения взятки арестовали член-корреспондента РАН, математика, директора НИИ. Сообщение об этом прошло в газетах и по телевидению. Его почти сразу освободили, сняли обвинение, хотя взятка была документирована. Мне не известно ни одно уголовное дело по РАН, доведенное до конца. Сотни НИИ у нас. У них десятки тысяч помещений, которые сдаются в аренду, в основном в черную. Просто по теории вероятности кого-то должны были взять. Даже олигархов иногда арестовывают. А ученых — нет. Почему? Вот вопрос, на который хотелось бы получить ответ. М. К. Поддержать борьбу государства с академической мафией? Да она сама себя съест, если чуть ткнуть пальцем. М. С. Был такой министр науки Борис Салтыков. Пытался национализировать деньги на науку, отняв право распоряжаться ими у РАН. Он после этого продержался на своем посту несколько месяцев. М. К. Чем специфичен академический откат? В чем отличие этой сферы от других сфер нашей серой экономики? Почему в других сферах что-то получается, как-то удается диверсифицировать, а здесь ничего? М. С. Особый статус. М. К. Этих статусов было миллион. М. С. Понимаешь, они все время жалуются, что их третируют, что власть обделяет их вниманием и денег не дает. У них такая позиция — прибедняться и юродствовать. И научились свою копеечку с такого образа — бедные, умные, гордые, ущербные — иметь. Хотя на самом деле они — богатые, хитрые, бесхребетные, здоровые. И все это понимают, но как-то брезгуют. Ну пока неприлично, неполиткорректно у нас ставить на место таких нахалов. М. К. И наше любимое государство, вместо того чтобы прийти и всех построить, говорит: «Ой, они старые, больные, нехай хоспис населяют». А они, собаки, не мрут. Они в этом хосписе научились размножаться. Их туда умирать послали, а они размножаются и строят этажи, этажи. М. С. Нет, они ничего не строят. Только дачи. М. К. В общем, понятно, что не следует связываться с государством, потому что государство все опять испортит. И не следует связываться с Академией, потому что она всех победила. Кроме того, проблемы науки нет, а если у кого-то есть проблема, пусть уезжает. Вот три тезиса нашего государственного анонима. Если мы отказываемся думать, что проблема общественной жизни, общественной самоорганизации должна хоть как-то заботить государство… М. С. Государство должно дозреть до состояния, когда оно сможет заботиться. В оперативном режиме забота вредна. Все, к чему прикасается государство, превращается в имитацию деятельности. Так устроено любое государство, и наше в том числе. Как только оно берется за что-то, оно тут же это унифицирует и формализует. В результате содержание, реальность, ради которой все создавалось, исчезает. М. К. Я говорю о создании равных условий. М. С. Не понимаю. Что значит равные условия? М. К. Не давать преференции Академии наук. Не позволять им воровать, сдавать в аренду то, что им не принадлежит, и так далее. Провести ревизию…
М. С. Тогда государство должно не давать преференции никому. Скажем, в сфере образования — перестать дотировать школы. М. К. Но государству нужны граждане, которые хотя бы могут дважды два посчитать. Школа — интерес государства. М. С. У государства другая функция. Применение насилия, а вовсе не образование граждан. У государства есть функция защиты границы от внутреннего и внешнего врага деструктивного. Оно должно определиться с врагами и с границами хотя бы. М. К. Хорошо, лишь бы не заниматься реформой научной инфраструктуры, государство готово скукожиться до насилия и отказаться даже от экономической политики? М. С. Если государство начинает определять предмет экспорта и квотировать его, то нарушается общая структура экономики. Этим оно может не заниматься вообще-то. Что значит «государство занимается этим»? Это значит, что есть министерство, ведомство, какая-то структура, на которую расписываются некоторые деньги. Эти деньги идут, прежде всего, на обеспечение жизнедеятельности самого министерства и ведомства. Что мы имеем в результате, совершенно понятно. Несомненно позитивный момент в таком случае — это некоторая социальная стабильность. М. К. То есть если бы наши министерства были хорошими и эффективными, то и государство в целом могло эффективно тратить деньги на научные технологии, передовые отрасли, и в перспективе получать хорошие деньги? М. С. Для этого нужен прогноз по рынку. Если он невозможен, то нечего этим и заниматься, поскольку все остальное — неизбежные издержки и потери. Корпорации занимаются этим весьма успешно. И имитируют из себя государство. То есть если организовано это квазигосударство, функции-то к ним переходят. И образовательная функция переходит, и научная. Оборотная сторона государственных усилий — это всегда коррупция. Если мы даем государству возможность заниматься некоторой политикой — экономической, научной или образовательной, — мы предполагаем, что будут большие издержки на коррупцию. Академия— это коррупция. И мы идем на нее и не боремся с нею, потому что это обеспечивает социальную стабильность высокомобильных, социально активных людей. М. К. Разве нельзя снижать коррупционные издержки? М. С. Скажите, где они снижаются, где были снижены коррупционные издержки в результате политики государства? Есть одна область. Большая политика. Равноудаление олигархов, я не знаю, уменьшило коррупцию или нет, но оно изменило ее формы — сделало их менее социально опасными. М. К. Почему бы не равноудалить академию. М. С. Как технологически? Ты возьмешь на себя все риски? Во-первых, есть документ, устав академии, утвержденный Минюстом и зарегистрированный несколько месяцев назад, в котором сняты некоторые противоречия предыдущего устава. Во-вторых, есть много нормативных актов, начиная от закона о науке и кончая госбюджетом. Конечно, они могут быть переписаны, но для этого нужно оценить последствия. Если в 94 году Ельцин мог подписать указ о даровании РАН всяческих привилегий, то сейчас наша власть наобум какой-нибудь масштабный акт подписывать не будет. Проблема не назрела. Вот когда эта проблема назреет, тогда она и будет решаться. Пока нет конструктивного решения. М. К. Из этого следует, что государство явочным порядком отказывается от присущего ему регулирования целых сфер жизни и готово согласиться с хотя бы частичным, но корпоративным устройством. Государство само себе придумало поле регулирования вне корпораций — будь то бизнес или Академия наук. Но если в экономической сфере государство остается активным игроком, то в научной и вузовской — отказывается регулировать даже стандарты. М. С. Нам в наследство от СССР досталась система представительства. Постепенно она отмирает. Она везде есть в той или иной форме. У нас была в крайней форме. Она эволюционирует постепенно в нормальную лоббистскую. Мы пережили период социально-учетной представительности. Уже нет представительства колхозников, трудового крестьянства. Но есть олигархи и журналисты. А науку пока формально представляют академики. И если ученых это не устраивает, пусть разберутся сами. М. К. Но разве это нормально? М. С. Нормально или не нормально, я не говорю про «нормально». Я говорю, что так сейчас происходит. Я не знаю, как нормально. То, как наука организована в США, тоже не нормально. Гранты давят научную мысль и всячески стимулируют рыночную гигантоманию. М. К. Ты говоришь: чтобы государство получило шанс стать эффективным, нужно иметь централизованный прогноз по рынку. Но ведь создание такого прогноза — как раз задача государства, предмет для аккумулирования данных отраслевой, фундаментальных, военных, гуманитарной наук. Вместо этого государство выращивает академического представительского урода, неспособного представлять даже зады современной науки, и говорит: «На, дружочек, воруй. Пусть будет мир. Мы не ждем от тебя прогноза, ибо знаем, что ты неспособен его даже придумать». Вот дело-то в чем. Реальная государственная потребность в данных науки, а не в академическом хосписе — есть! Кто аккумулирует данные по газу, по нефти? М. С. Да, может быть, аккумулируют, в частном порядке. М. К. О чем и речь. Есть реальный предмет для взаимодействия государства инауки, диверсифицированной науки, разнообразной, не монопольной. Вместо этого государство… М. С. Надо учиться решать вопросы помимо существующей инфраструктуры. М. К. А не иллюзия ли это? |