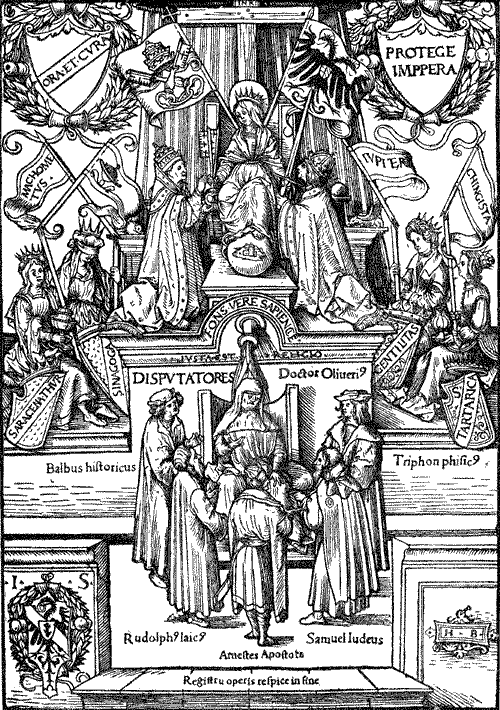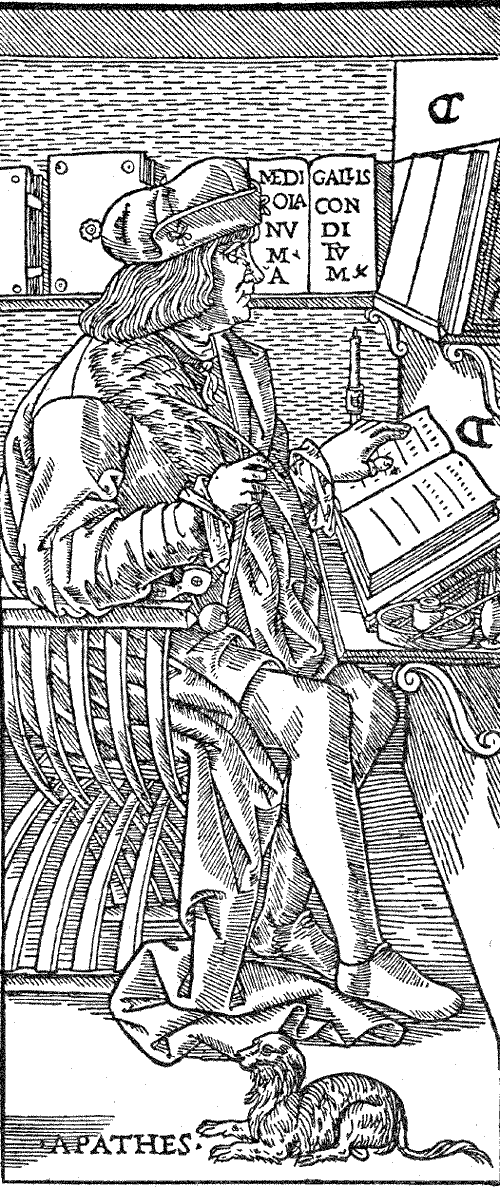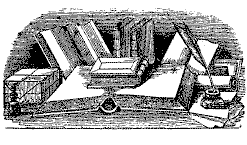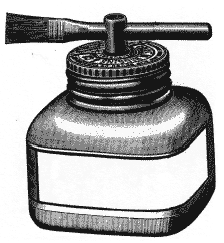Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 7, 2002
| Понятие «научно-техническая политика» вошло в научный обиход из политико-административного языка советской эпохи. Сегодня его место готова занять «инновационная политика». Оба термина, употребляемые в самом широком и размытом контексте, счастливо ускользают от проблематизации. В какой форме «научно-техническое» функционирует и мыслится слитно? Какие эффекты господства скрываются за теми или иными научными проектами? Каковы действительные механизмы сцепления научных и политических практик? Эти вопросы растворяются в зыбкой тверди термина-полиморфа. Впрочем, проблема заключена не столько в термине, сколько в точке зрения и точке отсчета, которую он собой воплощает. Представление о научной политике становится той формой, в которой предъявляет себя государство, проводящее эту политику, и в которой само оно, предлагая мыслить себя именно так, остается почти невидимым. Первое, с чем нам нужно определиться — это угол зрения, под которым следует рассматривать связь между научным производством и функционированием государственного аппарата. В этом нам помогает правило Декарта: «сведем запутанные и темные положения к более простым, а затем попытаемся, исходя из усмотрения самых простых, подняться по тем же ступеням к познанию всех прочих»[1]. Прежде чем изучать механизм, связывающий все разнообразие научного производства с работой государственного аппарата, нужно понять, в каком качестве государство присутствует в организации науки, или чем является государство в государственной научной политике. При всей кажущейся простоте именно ответ на этот вопрос позволяет понять смысл разнонаправленных и противоречивых попыток государственного регулирования российской науки в последнее десятилетие — тот смысл, который нелегко разглядеть в малопонятной лавине цифр и частных мнений. «Самые простые» положения, с которых следует начать — это первостепенные и сохраняющие значение для нашего случая черты государства. Согласно веберовской характеристике современное государство является монополией на легитимное физическое насилие, действующей на данной территории[2]. Работы Пьера Бурдье решающим образом дополняют эту характеристику: монополия распространяется не только на физическое, но и на символическое насилие, т. е. на превращение ряда частных точек зрения в универсальную перспективу и всеобщий здравый смысл[3]. В этих характеристиках государства нас интересует прежде всего монополия. Речь идет о том, что современное государство, располагая полным набором силовых и символических инструментов принуждения, претендует на абсолютный приоритет в формировании устройства социального мира. Применительно к нашей теме, ответить на вопрос, чем является государство в научной политике — значит, во многом, прояснить, в какой форме государственная монополия реализуется в устройстве научного мира и как, в свою очередь, наука способствует поддержанию этой монополии. Старый порядок и революция Прежде всего, следует помнить, что монополия не является неизменным в неисторическим признаком государства. Она остается материальным фактом, вытекающим из постоянной борьбы, сложных и слаженных маневров, тактических неудач и реваншей. Массивное и непланомерное изменение социального порядка в России, начавшееся в середине 1980-х годов, заново обнаружило, с одной стороны, исторический произвол, с другой стороны, уязвимость государственной монополии. Став источником изменений, государственный аппарат, в полном соответствии с элиасовской моделью[4], сам превратился в предмет ожесточенной борьбы между конкурирующими центрами власти, которые боролись не только за место в новой государственной иерархии, но и за определение самих ее критериев. В результате, как и во многих других сферах, за прошедшие 17 лет (как, впрочем, и за все 84) мы имели дело не с непрерывной монополией государства на установление порядка функционирования научных институтов и реализацию научных проектов, а с разнообразными — более или менее успешными — попытками монопольно определять этот порядок, причем, каждый раз в той форме, которая зависела от успеха различных политических фракций и сил в борьбе за государственный аппарат.
Сетования на слабость государства, которое «ушло из науки», присутствуют в большинстве публикаций по научной политике 1990-х и выглядят трюизмом. И именно это не позволяет увидеть принципиального политического и доктринального разрыва с прежним порядком — разрыва, столь явственного в других сферах, например, в экономике. Эти сетования основаны на веровании: если бы либеральные политические фракции, занявшие центральные позиции в государственном аппарате, распоряжались достаточными финансами, они бы, несомненно, «оставили» государство в науке в границах 1970-х годов. Но эта посылка противоречит основам либеральной доктрины: будучи экономически не окупаемым, научное производство должно было подвергнуться тем же «рыночным реформам», что и промышленное производство или сфера услуг. Иными словами, видимый «уход» государства из науки, вернее, отказ нового аппарата поддерживать прежнюю форму научной организации, был не проявлением его слабости, но результатом пересмотра условий государственной монополии в терминах экономической эффективности. Изменение схемы контроля над научным производством со стороны государства можно проследить по изменению функций его центрального профильного ведомства. В 1960–80-е Государственный комитет по науке и технике совместно с Госпланом обеспечивали монополию в форме планирования всех научных результатов, но также, например, и полезных свойств промышленной продукции. На протяжении 1990-х овладевшие аппаратом либеральные фракции попытались реализовать государственную монополию в форме непрямой экономической прибыли со всех окупаемых научных технологий. В рамках этих двух периодов можно обнаружить и более тонкие сдвиги и разрывы, однако сейчас нас интересует основной вектор. Доктрине науки, обеспечивающей военное могущество, оказалась противопоставлена доктрина экономической конкурентоспособности научных результатов. Это хорошо видно по смене взгляда на государственные вложения в производство оружия: акценты переносятся с обеспечения национальной безопасности на обеспечение достойного места России на внешнем рынке вооружений[5]. «Как и во всем цивилизованном мире», наука, вслед за войной, все более открыто признается предприятием, которое должно приносить доход. При этом, новая монополия предполагает не прямой доход в государственный бюджет с каждого исследования, а совокупный эффект от доходных разработок, который усиливал бы позиции государства не столько на внутреннем национальном, сколько на международном рынке. Первоначально эта идеология поддержки научных направлений, конкурентоспособных на «мировом уровне», воплотилась в основных юридических актах о науке 1990-х годов, а также в проведенных экспертизах конкурентоспособности технологий и в публикациях, поясняющих официальную доктрину[6]. Она же воспроизводится в недавних проектах инновационной политики. Мышление в категориях либерального рынка превращает науку — если воспользоваться понятием Макса Вебера в его полном значении — в предприятие государственного капитализма: поскольку укрепление монополии на рынке обеспечивается только «передовыми», т. е. экономически выгодными технологиями, только в них монополист и расположен делать инвестиции. В этом случае финансирование приоритетных научных направлений в национальном пространстве оказывается превращенной формой ожидаемого дохода с разработок, так или иначе реализуемых на международном экономическом рынке и обеспечивающих пресловутый «потенциал» государства, т. е. его место в международном балансе сил. Монополия на непрямую экономическую прибыль составляет центральный, хотя и не всегда очевидный элемент в доктрине научной политики. На протяжении 1990-х активность Министерства науки и технологий определяется через такой термин-ориентир, как «инновация», с которым соседствуют более ранние «экспертиза» (начало 1990-х), «конкурентоспособность», «инвестиции», «рынок технологий» (середина 1990-х). В идеологии инновационного развития можно усмотреть прямую преемственость проектам научно-технических комплексов конца 1980-х, а также еще более ранней (1970-е) идеологии союза науки и производства. Однако если советская система координат превращала в самостоятельный предмет заботы прикладной эффект научных исследований, т. е. вовлечение научного знания в промышленный оборот, то действующая сегодня, несмотря на ряд официальных ревизий, либеральная доктрина рассчитывает на рост экономической доходности всего научного предприятия, основные затраты на содержание которого, в любом случае, пока приходятся на государство. Инновационные центры конца 1990-х — образец таких акционированных предприятий государственного капитализма, которые, в рамках доктрины, уже не должны отличаться от иных экономических предприятий. Недавний проект создания национальной инновационной системы — плод совместных усилий Совета Безопасности, Госсовета, комиссии по инновационной политике и Совета по науке при президенте —следующий шаг в восстановлении государственной монополии. В рамках этого сдвига закон «О науке и государственной научно-технической политике» 1996 года оказывается продуктом мышления периода смены форм монополии. Он особенно интересен амбивалентным образом науки как объекта государственного контроля. С одной стороны, закон фиксирует самостоятельное существование научного производства и почти признает рынок научных разработок, тогда как в советский период закон о науке отсутствовал — наука не выделялась из прочих производственных сфер, изнутри гарантируя их рациональное развитие. С другой стороны, государство (его федеральные органы) фигурирует здесь как монополист-владелец, который сам устанавливает приоритеты, финансирует основные научные организации, дает им прямые заказы. Закон регламентирует отношения между научными организациями и государством, учеными и государством, одними государственными органами и другими… Иначе говоря, государство в государственном законе остается центральной фигурой научной организации, но, вместе с тем, нуждаясь в законе и приняв его, тем самым неявно признает исторический произвол своей монополии и ее неокончательность в новых условиях.
Последующее превращение (в 1998–99 годах) инновационной активности в ключевой пункт ведомственной идеологии Миннауки свидетельствует о фиксации той формы монополии, которая действительна и сегодня. Концепция инновационной политики на 1998–2000 годы (утверждена в 1998 году), Концепция межгосударственной инновационной политики СНГ до 2005 года (утверждена в2001 году) и недавний Проект закона об инновационной деятельности и государственной инновационной политике регламентируют отношения между агентами экономического рынка, в числе которых оказываются научные организации. Государство здесь выступает прежде всего крупным инвестором и, отчасти, гарантом рисков — инвестором, монополия которого обеспечивается не полным контролем над производством, но стратегическим положением в различных секторах рынка[7]. Преобразование самого Министерства науки и технологии в Министерство промышленности, науки и технологии, а также переименование «государственной научно-технической политики» в «государственную инновационную политику» отражают и, вместе с тем, укрепляют изменения в модели государственной монополии. Экономический поворот, предписанный науке президентским посланием2002 года, в точности воспроизводит министерскую доктрину 1990-х, подкрепленную совместной работой нескольких ведомств[8]. Подобное согласие целого спектра государственных инстанций и есть главный залог действия новой государственной монополии. Из инстанции прогноза и плана начала 1980-х, преодолев в середине 1990-х положение главного маркетингового агентства научных разработок, реформированное Министерство превращается сегодня в новый центр усиления экономической модели, которая пока еще (и, вместе с тем, уже) несмело оформляется на языке политических лозунгов и программ. Либеральная революция, открытая шоковой терапией начала 1990-х, с большой отсрочкой, а потому почти незаметно (по крайней мере, пока), финиширует в организации научного производства. Разнообразие форм Нового порядка Этот вполне обозначившийся сдвиг можно признать основным вектором трансформации государства, но он отнюдь не полностью подчиняет себе все разнообразие форм, рожденных либеральной революцией. Монополия переустанавливается медленно и неровно, во множестве локальных столкновений и альянсов между противоборствующими фракциями и носителями разнящихся взглядов на социальный порядок. В этом смысле, научная политика не является однородной системой ни в хронологическом срезе (за истекшие 10 лет), ни в синхронном (стратегии различных ее инстанций сегодня). Хорошим примером исторической неопределенности формы монополии, наряду с Законом о науке 1996 года, может служить краткий период существования Министерства науки, высшей школы и технической политики в 1991–93 годах. В это время Министерство, помимо органа научной политики, выступает в функции Комитета по высшему образованию, Роспатента и ВАК, которые из него были впоследствии выведены[9]. Иначе говоря, именно в период победы либеральных политических фракций научная монополия продолжает мыслиться как централизованный контроль государственного аппарата над научным производством. И вместе с тем, именно в этот период реализуется альтернативный проект: по образцу Национального научного фонда США создается РФФИ (а двумя годами позже РГНФ) — инстанция госбюджетной поддержки академических исследований, которая через использование самих ученых в качестве экспертов сдвигает центр принимаемых решений из государственного аппарата в научные заведения. Министерство, государственные научные фонды и РАН образуют новый силовой контур, где каждой из инстанций принадлежит своя версия новой организации науки. Важно увидеть, что новый порядок содержит в себе напряжения силовые, функциональные и смысловые. Попытки шоковой реформы РАН Министерством в соответствии с новой моделью (первая половина 1990-х, отмеченная активным противостоянием РАН Министерству) одновременно с созданием РФФИ, а затем РГНФ, которые начали финансировать научные исследования академических сотрудников помимо РАН, попытки упразднить фонды и восстановить status-quo — свидетельства ощутимой дисперсии центров сил и осязаемой борьбы между ними в рамках новой государственной политики. Однако эту борьбу порождают не группы индивидов и не собственно политические предпочтения. За нею скрывается разница в режиме функционирования каждой из инстанций, который определяет взгляд на научный мир и который может привести — через общий силовой контур — к поляризации политических позиций. Основные клиенты и партнеры, положение в административных иерархиях, критерии оценки научной продукции и признаваемый результат собственной работы, — вот что отличает эти инстанции в организационном плане, но также в плане восприятия научного мира. Одной из зон, в которой находят выражение эти различия, становится вопрос о приоритетных научных направлениях, который неодинаково решается всеми тремя инстанциями. Если в рамках министерской модели формирование приоритетных направлений выступает залогом эффективности затрат (их окупаемости), то для РФФИ и РГНФ, которые финансируют научные исследования, принципиально не рассчитанные на экономический эффект, задание приоритетов противоречит самому режиму их работы. Фонды, в противоположность Министерству, опираются на доктрину поддержки центров «научного совершенства», или «внутренних приоритетов» науки, т. е. финансирования уже сформировавшихся проектов, школ и ученых[10]. Эта доктрина напрямую связана с организационной структурой фондов: отбор научных проектов построен на их оценке учеными из тех же или смежных научных областей и определяется структурой научного сообщества и научных институтов, а не состоянием экономического рынка. Стремление Министерства унифицировать научную организацию, навязав фондам идеологию приоритетов, воспринимается как непонимание специфики фундаментальной науки. В свою очередь, со стороны Министерства исходит упрек в неэффективном расходовании средств.
Стратегия РАН в отношении приоритетов представляет собой гибридный вариант. Если фонды не формулируют никаких приоритетов, а в Министерстве имеется 7 приоритетных областей, объединяющих ряд критических технологий (50–70 на протяжении 1996–2001 годов), то РАН в министерском списке принадлежит еще одна приоритетная область — «фундаментальные исследования»— структура которой утверждается Президиумом РАН по представлению академических институтов. Может показаться удивительным, что РАН, являясь монополистом на фундаментальные исследования, тем не менее, подчиняется доктрине приоритетов, опосредованной сильными экономическими резонами. Однако если взглянуть в академический список[11], можно убедиться, что в качестве приоритетов фигурируют, в основном, тематические направления работы институтов, идеологически окрашенные в случае гуманитарных наук. Та же логика воспроизводится в списке приоритетных направлений фундаментальных исследований, принятом в МГУ. Здесь внутренняя структура институции воспроизводится еще более ясно — в основу приоритетных направлений положена специализация кафедр[12]. Иными словами, подстройка академического полюса под утилитарную доктрину науки — компромисс, вытекающий из состояния поля сил на 1996 год, когда официально формировался первый список и сама доктрина приоритетных направлений. Она оказывается столь же формальной, сколь чуждой логике игры в этом секторе науки, где экономические интересы легитимно могут быть представлены не иначе, как в форме интеллектуальных проблем[13]. Вызванные к жизни одной либеральной революцией, новое Министерство, фонды и реформированная Академия, тем не менее, локализуют Новый порядок и вписанную в него государственную монополию в различной форме[14]. Расколотое мышление Рассматривая разнообразие форм Нового научного порядка, следует обратить внимание и на тот разрыв, который существует не между его инстанциями, но в мышлении его наиболее активных проводников. Речь идет о том, как мыслят, а следовательно, практически распоряжаются такими базовыми категориями, как «ученые» и «наука», государственные чиновники. За отправную плоскость здесь можно принять Миннауки конца 1990-х, когда тема инноваций и экономической конкурентоспособности оказалась в самом центре ведомственной доктрины и уже обрастала организационной плотью: инновационные центры, технопарки, законопроект о наукоградах, пересмотр первого списка приоритетных направлений. Чтобы прояснить систему официального мышления, мы взяли 16 публикаций в прессе за 1998–99 годы, авторами или участниками которых (в случае интервью) были работники высшего звена Миннауки. Из всего массива текстов были отобраны суждения, в которых есть слова «наука», «научный», «научно-технический» (они составили первый список), «ученые», «научные работники», «научное сообщество» (второй список). Общая выборка суждений была разбита на два списка, чтобы посмотреть, в чем совпадают и чем различаются контексты, в которые вписаны эти категории. Прежде всего оказалось, что «ученые» — не часто употребимая категория: в общем объеме суждений об ученых речь идет много реже, чем о науке (33 суждения в первом списке против 112 во втором)[15]. Вычленив ближний контекст суждений из списка «наука», мы получили набор тем, которые перекликаются с уже затронутыми нами сюжетами. Если рассматривать число суждений в общем списке как показатель значимости темы, наиболее важными оказались рыночная и экономическая эффективность науки, высокий научно-технический потенциал и сохранение научных достижений, необходимые государственные финансирование и поддержка науки, высокое положение российской науки в мире, новые возможности — инновационная стратегия, наука как будущее и лучшее. Среди тем, представленных много слабее (все вместе — около пятой части от общего числа суждений): недостаточное бюджетное финансирование науки, ее недостаточная приспособленность к реформам, связь науки с промышленностью, нежелание молодежи идти в науку, стойкость науки в трагическом положении, госзаказ науке. В этом наборе тем мы обнаруживаем, с одной стороны, элементы доктрины Министерства и предметы его заботы (коммерциализация, финансирование, реформа), с другой, обоснование важности науки, которая превращает ее в государственное дело. В целом же, и по числу суждений, и по связи между темами, можно сказать, что за категорией науки в ведомственной иерархии закреплен полюс легитимного верха: государственного интереса, экономического и политического господства, экономической эффективности и технического совершенства. Наука — это предмет заботы государства и, одновременно, источник его «потенциала». Это рационализированная силовая компонента господства[16]. Теперь посмотрим, кто производит «науку» — закреплены ли за категорией «ученые» те же атрибуты мощи и престижа? Ряд тем, присутствующих в списке «наука», есть и здесь. Так, речь идет об экономической эффективности ученых, кооперации между учеными и не-учеными в рамках инновационных центров, достижениях ученых, самоотверженности ученых в сложное время. Однако на каждую из этих тем приходится всего по одному суждению. Иначе говоря, в отличие от первого списка, здесь они остаются явно периферийными или просто производными от базовых определений науки. Но что же тогда составляет основу официального взгляда на ученых? Наибольший вес приходится на следующие темы: низкая (унизительная) зарплата, проблема материальной поддержки ученых, отъезд за границу и «утечка мозгов», участие ученых в проектах Министерства[17]. Т.е.по отношению к науке в ее контекстуальном определении, положение ученых радикально снижено. В системе государственного мышления это отнюдь не творцы государственного потенциала, это прежде всего проблемная социальная категория, определяемая через низкую зарплату и готовность «утечь» за рубеж. Как и «наука», «ученые» также вписываются в новую экономическую логику. Однако, вотличие от науки, они определяются не через производительную способность, а, напротив, через зависимость от (неблагоприятных) экономических условий. Категории «наука»/«ученые», размещенные на экономической шкале, оказываются на противоположных полюсах, как активное/пассивное. Будучи производной от официального определения науки, категория «ученые» — прежде всего в смысле «все работники научных учреждений» — в основе своей содержит зарплату (унизительную, мизерную, достаточную). И если категория «наука» располагается на доминирующем полюсе, вбирая в себя признаки государственного престижа и мощи, категория «ученые» оказывается на полюсе доминируемом, будучи представлена через следствия экономического кризиса, личную самоотверженность или предприимчивость, «условия жизни и труда». В рамках официального мышления непосредственные создатели науки, «ученые», оказываются не определяющим фактором науки, а инертной массой, «приходящей» в науку или «оттекающей» из нее, претерпевающей в науке кризисное состояние или мигрирующей за рубеж в поисках лучших условий. Иначе говоря, «научно-технический потенциал», этот необходимый атрибут государства и почти синоним науки, оказывается отчужден от носителей научной компетентности. А они, в свою очередь— наряду с учителями, врачами, военнослужащими — попадают в обширную проблемную категорию бюджетных служащих, со всеми вытекающими для государственного аппарата неудобствами.
Анализ ряда последних текстов интервью и дискуссий, в которых приняли участие чиновники Минпромнауки и РАН, выступления президента на совместном заседании Совбеза, Госсовета и Совета по науке, а также проекта Основ политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 года показал, что ряд базовых тем и сам разрыв в восприятии «науки» и «ученых», в целом, сохраняется. Тематические смещения в 2002 году можно объяснить снижением ведомственного веса науки в рамках реформированного Министерства. Именно в этом можно видеть источник перехода от общей темы экономической эффективности науки к более специфическим вариациям о нужде науки в новой экономике, попечении науки со стороны государства и частного капитала. Сегодня категория «наука» более плотно, чем в конце 1990-х, встраивается в безразличный к научной специфике либерально-экономический схематизм рыночной пригодности, окупаемости вложений и эффективности управления. В свою очередь, по-прежнему редко употребимая категория «ученые» сохраняет значение, производное от зарплаты и трудных материальных условий. Сдвиг в рамках нового, ориентированного на экономику научного порядка обозначен здесь введением темы квалификации, необходимой для работы по приоритетным направлениям и инновационным проектам, т. е. по обеспечению самого нового порядка. Примечательно, что квалификация оказывается свойством, относящимся не столько к «ученым», сколько к«кадрам» или «кадровому потенциалу» науки. Иными словами, значение отчуждаемого и восполнимого ресурса науки, который прежде неявно присутствовал в категории «ученые», открыто перенесено в смежную категорию и вполне явственно отражает актуальную сегодня логику мобилизации: произвести или переориентировать нужные с официальной точки зрения качества работников науки. «Естественная» монополия Принципиальная рассогласованность во взгляде на науку и на ученых во многом объясняет сбои в научно-политическом курсе прежних лет и предвосхищает его грядущие неудачи. Ориентированная на изменение научной инфраструктуры, в отрыве от вписанных в нее ученых либеральная доктрина наталкивается на «внезапные» трудности, объяснение которых состоит в исходном упрощении собственных посылок и сведении науки к ее техническому и коммерческому аспектам. Такой раскол в официальном мышлении — не частное и произвольное отклонение. Он встроен в целую систему неявных предпочтений и политических умолчаний, в которых актуальная организация науки продолжает наследовать прежнему порядку. Отчуждение ученых от науки и размещение этих двух категорий на противоположных полюсах социальной иерархии является одним из элементов режима господства, в который тем или иным образом встраивается научное знание. Другим элементом этого режима является контекстуальное определение самого понятия «наука». В государственной практике под наукой как таковой понимаются исключительно естественные науки, которые обеспечивают «потенциал» государственной монополии через разнообразие форм господства над природой, т. е. господства материального и силового, тогда как социальные и гуманитарные науки, обеспечивающие инструментами более тонкого, символического господства, остаются за пределами государственного мышления. Косвенно об этом свидетельствует вся доктрина промышленного и технического назначения знаний, прямо на это указывают списки критических технологий и структура Министерства, где гуманитарные науки никак не представлены[18]. Еще одним элементом оказывается явно декларируемое, а оттого трудно различимое предписание: назначение науки — не открытия и даже не улучшение качества жизни, а прежде всего государственный потенциал. Иначе говоря, наука, о которой готово заботиться государство — это по-прежнему ставка в силовом состязании, теперь уже в новых экономических условиях и в новой организационной форме. Прагматичный либеральный монополист поддерживает не науку, а собственный вес и комплекцию, которые обеспечиваются в т. ч. силами ученых. Взяв за точку отсчета государство как монополию, мы отказываемся от постановки вопроса, следует ли включать социальные исследования в число приоритетных. Нас интересует прежде всего то, какой форме монополии свойственны столь резкие черты, как мысленное устранение ученых из науки и незаинтересованность в овладении техниками символического господства. Естественно заключить, что это характеристики монополии, которая не нуждается в тонких и малозаметных инструментах для своего поддержания. Разрабатывая с привлечением экспертов новую модель научного порядка, современное российское государство, тем не менее, сохраняет черты суверена силой оружия и кошелька. Прямая проекция в науку принципа экономической эффективности хорошо согласуется со сведением вопроса о роли «ученых» к проблеме «кадров» и фактическим отказом от разработки сложных и точных инструментов символического насилия с использованием социальных наук. За всеми этими примерами научной политики стоит экономия на средствах господства: нет нужды в сложном, пока можно действовать просто. * Исследование ведется при поддержке ИНТАС, грант YSF 00–198. [1] Декарт Р. Правила для руководства ума / пер. с лат. М. А. Гарнцева // Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 91. [2] Вебер М. Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П.П.Гайденко // Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. под ред. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. [3] Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля / Пер. с фр. Н.А.Шматко // Поэтика и политика. Socio-Logos’98. Альманах российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.:Институт экспериментальной социологии. СПб: Алетейя, 1999. С. 133–34. [4] Элиас Н. О процессе цивилизации / Пер. с нем. А. М. Руткевича. М. СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 2. С. 105–106. [5] В качестве примера середины 1990-х см. президентское послание 1996 года. К концу 1990-х связь вопроса национальной безопасности с рынком вооружений уже приобрела статус фигуры здравого смысла, усвоенной СМИ. Так, во всех номерах «Независимой газеты» с приложениями в 1999 и 2000 годах словосочетание «рынок вооружений» вместе со словом «Россия» встречается в тех же материалах, что и «национальная безопасность»+«Россия» (45и30 раз в 1999 и 2000 соответственно). [6] В качестве примеров см.: Концепция реформирования российской науки на период1998–2000 годов. пп. 1, 2, 8, 10; О приоритетных направлениях развития науки и техники РФ и перечне критических технологий федерального уровня (раздел на сайте РИНКЦЭ www.extech.msk.su); Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия / Под рук. В. Л. Макарова, В. Л. Варшавского. М.: Наука, 2001. Гл. 1–2; Наука готова работать на человека // Индустрия. № 2 (997), январь 1999. [7] В текстах законодательства 1996, 1998 и 2001 годов много общего. В той мере, в какой они наследуют прежнюю модель монополии, все они остаются промежуточными продуктами государственной практики и мышления. Указывая на смену форм монополии, мы говорим прежде всего о тенденциях и обращаемся к тем решающим признакам, которые различают эти документы. [8] «Понятно, что модель научно-технического прогресса прошлых лет, помпезную и архаичную модель одновременно, восстанавливать нецелесообразно… Надо помочь российским разработчикам встроиться в мировой венчурный рынок, рынок капитала, обеспечивающий эффективный оборот научных продуктов и услуг, и начать эту работу в тех сегментах мирового рынка, которые действительно могут занять отечественные производители» (из президентского послания 2002 года). [9] 50 лет. Гостехника. ГКНТ. Миннауки. М.: Центр исследований и статистики науки, 1998. С. 58. [10] Алфимов М. В., Цыганов С. А. От научной идеи до практического результата. М.: Янус-К, 2000. С. 11–12; Семенов Е. В. Явь и грезы российской науки. М.: Наука, 1996. С. 93–94. [11] Приложение к постановлению Президиума РАН от 13 января 1998 года № 7. [12] Список на сервере МГУ см.: www.msu.ru/russian/sci/2000/sci-dir-1.html. [13] Подробнее о специфике науки на ее автономном полюсе см.: Бурдье П. Клиническая социология поля науки /Пер. с фр. Ю.В.Марковой // Социоанализ Пьера Бурдье. S/L’2001. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб: Алетейя, 2001. [14] Говоря здесь о трех основных центрах нового контура научной политики, мы оставляем за скобками целый ряд государственных инстанций (фондов, межведомственных аналитических центров, экспертных институций, иных органов государственной власти), которые, незначительно соприкасаясь и взаимодействуя друг с другом в общем пространстве, остаются носителями собственного взгляда на научный мир. Однако из-за неравномерного распределения сил и весов между этими центрами, в конечном счете мы обнаруживаем тот сложный, никогда не достигающий полноты, нередко молчаливый и неуютный консенсус, который охватывает поле в целом. Разнообразие не означает исчезновения монополии. [15] Хотя нельзя говорить, в строгом смысле, о количественной достоверности этих данных, столь сильное различие мест, уделяемых ученым и науке в речи, представляется показательным для системы официального мышления. [16] Вот показательные образцы суждений, взятые из общего списка: «государство не может быть сильным без сильной науки»; «состояние отечественной фундаментальной науки всегда должно оставаться безусловным приоритетом и заботой государства»; «уровень развития науки… напрямую определяет эффективность экономики»; «наши научные знания, наши технологии способны обеспечить людям достойную жизнь». [17] Вот архетипический пример, фокусирующий в себе почти все эти темы: «Актуальной проблемой… остается создание ученым достойных условий для жизни и работы, что не только значительно повысит эффективность их деятельности, но и будет способствовать предотвращению оттока из России высококвалифицированных специалистов сферы науки и образования». [18] Для сравнения приведем данные о структуре французского Министерства. В его рамках действуют программы поддержки следующих приоритетных направлений: город, труд, когнитивные исследования/школа, поддержка сети негосударственных фондов Дома наук о человеке, интернационализация гуманитарных наук. Доля из общего бюджета Министерства на социальные и гуманитарные исследования составляет около 10 процентов. Еще6–10процентов составляют расходы на программу поддержки молодых исследователей (данные приводятся на сайте французского Министерства исследований: www.recherche.gouv.fr/recherche/finance/fns.htm). В составе Министерства исследований есть совет по социальным и гуманитарным наукам в числе семи подразделений, наряду с физическим или химическим, а также общее по экономике, праву, управлению и политическим наукам. Существует также дирекция по высшему образованию, включающая миссию университетских исследований. Таким образом, структура Министерства в наиболее общем виде воспроизводит структуру научного пространства в целом, включая социальные науки и университетские исследования. Финансируя отдельные «проблемные» направления гуманитарных исследований, Министерство делает инвестиции в разработку тонких техник контроля и инструментов решения этих проблем силами социальных наук. |
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» О . . . | ||||||
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЯ СОВРЕМЕННЫЯ ЛЕТОПИСИ | ||||||
|
| ||||||
| ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||