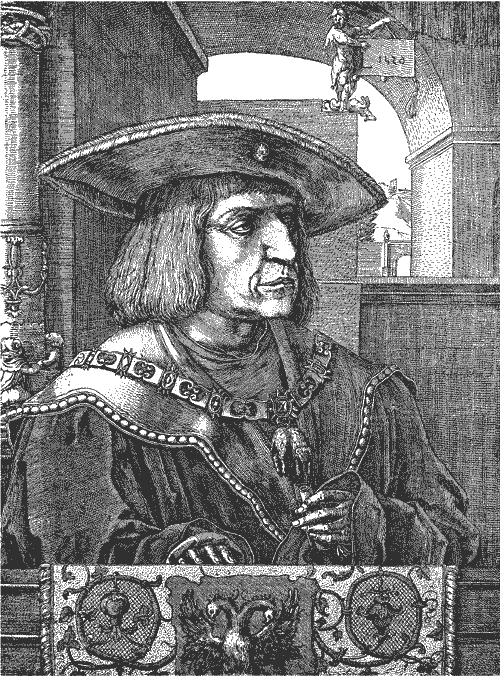Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 7, 2002
| В числе основных затруднений, с которыми сталкивается в настоящее время отечественная наука, называются в особенности хроническое бюджетное недофинансирование научных исследований, низкая востребованность научно-технических разработок со стороны предпринимательских кругов, «перекачка мозгов» за рубеж, низкий престиж науки как профессии, стремительное старение научных кадров, вырождение научных школ и ряд других. Из этого широкого круга можно выделить три типа достаточно самостоятельных проблем. Первый из них связан с научными институтами и характером их легитимации в публичном пространстве современного российского общества. Второй — с новыми рыночными условиями, в которых оказалась отечественная наука после радикальной трансформации советской экономической системы. Наконец, третий вызван изменением механизма функционирования отечественного научного сообщества после падения железного занавеса и включением его в мировую научную систему на уровне циркуляции научных кадров. Учитывая, что в данном номере журнала «Отечественные записки» читатель найдет обширный материал, позволяющий наглядно представить параметры и глубину трудностей современной российской науки, мы сконцентрируемся лишь на некоторых принципиальных аспектах указанных проблем. 1 На фоне резкого сокращения бюджетного финансирования научных институтов и— как следствие — резкого падения социального статуса научной деятельности как таковой в российском публичном пространстве продолжает воспроизводиться система апелляций и аргументов, адресующихся в первую очередь государству. Именно оно продолжает рассматриваться как инстанция, способная разрешить или смягчить драматизм этих затруднений. Однако сама система используемых при этом аргументов и оснований, публично опосредующая отношения между научной корпорацией и обществом (а в действительности — бюрократическим аппаратом государства), в значительной степени не учитывает тех кардинальных изменений во взаимоотношениях между наукой, государством и обществом, которые произошли на постсоветском пространстве. В большинстве случаев она продолжает опираться на фрагменты эродировавшей системы ценностей, некогда целостным образом встраивавшей науку в контекст существования и развития советского общества и государства. При этом по ту сторону этой аргументации нередко действуют узкие институциональные интересы, что не только девальвирует сохранившиеся здоровые элементы этой ценностной структуры, но и препятствует осознанию научным сообществом своих целостных корпоративных задач безотносительно к интересам отдельных учреждений и выработке эффективной и мобильной стратегии адаптации и развития в новых условиях. Кроме того, сама эта система ценностей, несмотря на то, что она успешно работала на процветание научной корпорации в советском государстве, далеко не идеально отвечает ее интересам и в перспективе работает против самой же науки как предприятия, не сводящегося исключительно к решению утилитарных индустриально-технических задач, которые может ставить перед ней государство или частный капитал. Если кратко резюмировать основные аргументативные стратегии, призванные мотивировать государственный аппарат вновь всерьез заняться поддержанием науки, то они строятся главным образом на обращении к научно-техническому прогрессу как источнику процветания современных обществ и эффективным технологиям как источнику военного могущества и высокого уровня жизни. Иначе говоря, они строятся на апелляции, во-первых, к тем утилитарным результатам, которые дает техническое применение науки в военно-промышленной сфере и которая apriori рассматривается как приоритетная для государства, и, во-вторых, к тем опять же утилитарным последствиям, которые способен вызывать технический прогресс в сфере социально-экономической жизни за счет более рационального использования природных и человеческих ресурсов в самом широком смысле этого слова. Где-то на периферии этих насущных проблем наука всплывает в качестве декоративного элемента национального престижа, выражающегося в Нобелевских премиях и т. д. Именно такое понимание науки способствовало ее устойчиво высокому положению в советском обществе, хотя и не обеспечивало утилитарно-технического процветания самого общества. Оно стало настолько естественным, что лексически законсервировало себя в тех аббревиатурах, которые постоянно употребляются там, где речь идет о науке: НТР, НТП, НИОКР и т. д.
В свою очередь, нынешнее российское государство вынуждено определять взаимоотношения с бюджетной наукой, исходя из финансовых возможностей, которые весьма незначительны как в абсолютных, так и в относительных показателях. В этой ситуации государство стремится реализовать стратегию «эффективного использования» бюджетных средств.[1] Она выражается, в частности, в поддержке целевых научных программ, поддержке государственных научных центров, а также в определении ряда «приоритетных направлений». Этот селективный подход определяется ясным как солнце положением вещей: российское государство в его современном состоянии неспособно равномерно поддерживать проведение исследований во всем объеме мыслимых научных направлений. Такого рода тотальность, способствовавшая процветанию науки в советском обществе, была возможна и даже требовалась в рамках замкнутого советского государства, со всех сторон окруженного врагами и полагающегося только на свои собственные силы. Поскольку ситуация изменилась, то можно надеяться на то, что Россия примет участие в международном научном разделении труда, в котором национально-государственная принадлежность не играет, вообще говоря, серьезной роли (существенную роль играет, напротив, способность государств создавать и поддерживать привлекательные институциональные условия для ученых). Нельзя, разумеется, преувеличивать уровень космополитизма научно-технических разработок. И все же можно довольно уверенно провести различие между сферами, в которых происходит интенсивное международное взаимодействие ученых и для которых барьеры, аналогичные тем, что существовали в период великого противостояния, являются искусственным препятствием, и теми сферами, которые государство рассматривает как объект собственных партикулярных интересов или же где оно является инструментом, гарантирующим интересы капитала (область интеллектуального права). Эта линия пролегает между наукой как таковой, или фундаментальной наукой, и прикладными и производственными приложениями научного знания в военной и промышленно-технической областях. По этой причине довольно очевидно, что сама постановка вопроса о «приоритетных направлениях» (которые в фундаментальной науке лишь с большой долей условности поддаются определению) уже означает, что эти направления определяются не в пользу фундаментальной науки, а в пользу прикладных технических и технологических программ. (Показательно, что в области фундаментальных научных исследований попытка выделения «приоритетных направлений» не повторялась с единственного прецедента 1996 года[2]. Однако проблема государственной политики в области науки и техники усложняется еще и следующим обстоятельством: поскольку выбор этих приоритетных направлений сам входит в компетенцию научной экспертизы, получается, что в итоге он отражает не что иное, как распределение интенсивности влияния в рамках институционализированной науки (выражающееся, в частности, в бюджетном лоббировании) и тем самым воспроизводит исторически унаследованную систему доминант на карте научных исследований (при условии, однако, что государственные органы не испытывают случайных влияний, что в нашем случае не всегда выполняется). Разумеется, нет ничего удивительного в том, что система приоритетов при этом центрирована на военно-ориентированные технологии.[3] Прискорбно, однако, что при этом страдает ясная линия тех магистральных интересов, которые по определению должно блюсти государство, наглядным примером чего является ситуация с медицинскими науками[4]. Но даже ликвидация этих диспропорциональностей не снимает той проблемы, о которой идет речь: в ходе оптимизации государственной политики в области научных исследований она превращается в малорентабельный придаток отраслевого государственного и — равным образом — предпринимательского промышленно-индустриального комплекса, который неизбежно будет минимизироваться. По этой причине описанная выше система аргументации, предназначенная для легитимации научных институтов, является самодеконструктивирующей. В таком случае следует поставить вопрос как об изменении структуры легитимации науки в современном российском обществе, так и об изменении ее институциональной локализации. Институтом, в котором в силу ряда исторических причин аккумулирован основной потенциал российской фундаментальной науки, является Академия наук— анахроническая по своему генезису структура, дошедшая до нас от эпохи абсолютистских монархий, фактически реанимированная в советское время, на которое приходится подлинный расцвет этого привилегированного института советских «мандаринов» от науки. В «Концепции реформирования российской науки на период 1998–2000 годов» академия позиционируется как институт, который в наибольшей степени подходит для осуществления неприкладных, фундаментальных научных исследований. Было бы неверным, однако, отождествлять фундаментальную науку как таковую и тот институт, в рамках которого она локализована в силу определенных исторических обстоятельств. В силу этого представляется необходимым — в первую очередь с точки зрения интересов самой науки — диверсифицировать как собственно институциональные формы существования, так и систему легитимации этих форм. Можно предположить, что инерционная стратегия поддержания автономных научных институтов, которые занимаются исключительно фундаментальными научными проблемами, рано или поздно столкнется с непреодолимыми трудностями, когда ограниченное в своих ресурсах государство, руководствующееся предсказуемой в своей утилитарности логикой, теми или иными способами сломает «непримиримый фундаментализм» академического сообщества, изменив его функции на более рентабельные в той обозримой перспективе, на которую вообще может простираться дальновидность государства. В этой ситуации более верным представляется перемещение фундаментально-научной деятельности из вымирающих или подлежащих трансформации академических институтов в сферу высшего образования (в первую очередь — университетов), что, с одной стороны, может оздоровить как эту последнюю, так и предоставить науке то пространство свободы исследования, которое органично может сочетаться с университетской свободой преподавания. Изменяя форму своей институциональной локализации, наука получает возможность использовать более гибкую и широкую систему своей легитимации, свободной от необходимости апеллировать к непосредственно-утилитарным результатам своей деятельности. Это также означает, что субъект, к которому должна адресоваться публичная легитимация науки, не может сводиться к государству или только к государству. Наука может опираться на общество и ему доказывать свою необходимость, выходящую за пределы непосредственно-утилитарной полезности. Эта необходимость основывается как на некоторых общих особенностях научной установки, так и на преимуществах фундаментального научного образования, позволяющего эффективно актуализировать, а при необходимости — развивать и модифицировать специальное и техническое знание[5]. 2 Помимо государства за прошедшие годы в стране возник еще один субъект, начинающий влиять на состояние научно-технических разработок, — это область частного предпринимательства[6]. Круг возникающих в сфере взаимодействия науки и предпринимательства проблем мы оптимистично относим к трудностям роста. В первую очередь нельзя не отметить, что ряд прикладных отраслей научного знания, техническое применение которых позволяет в краткосрочной перспективе извлекать прибыль (фармакология, разработка программного обеспечения, пищевая промышленность), уже сейчас довольно успешно находят возможности сотрудничества с бизнес-структурами, тогда как другие имеют все шансы на такого рода сотрудничество по мере развития соответствующих форм кредитования (например, венчурного финансирования). Но, несмотря на то, что именно в данной сфере можно было бы ожидать высокорентабельного использования научно-технического потенциала страны, нельзя не заметить, что даже совокупная общенациональная доля России на рынке наукоемких технологий является чрезвычайно низкой[7]. Рассмотрение даже основных особенностей встраивания российской науки в рыночную систему экономики, равно как и особенностей использования ее научно-технического потенциала транснациональным капиталом требовало бы отдельного обширного анализа. Здесь мы хотели бы обратить внимание на одну принципиальную трудность, представляющую собой атавизм советской нерыночной системы существования науки. Речь идет о создании в рамках как научной, так и технической деятельности отчуждаемых результатов, которые имеют статус товара. Дело в том, что постсоветская научно-техническая индустрия — не считая отдельных обнадеживающих исключений — неспособна производить законченный товарный продукт, который мог бы быть объектом осмысленных операций купли-продажи (то есть, упрощая, можно сказать, что научные институты выходят к бизнесу с просьбой «дайте денег на разработку», но еще не научились выходить с предложением «купите решение этой своей проблемы»). Генетически это обстоятельство можно объяснить тем, что советская система, обеспечивавшая весь цикл разработок от фундаментальных исследований до промышленно-применимой рентабельной технологии, была институционально рассредоточена по ряду уровней, взаимоотношения между которыми не регулировались рыночным образом[8]. Эрозия этой структуры и поддерживающей ее функционирование системы связей, содержавшейся за счет государственного финансирования, не привязанного к жестким критериям и лимитам, обнаружило, что продукты, которые может производить технически ориентированная наука и которые в конечном счете должны иметь привлекательный характер, в том числе и для предпринимателей, по большей части не могут позиционироваться как законченный товар sui generis[9]. Сложившаяся ситуация определяется, конечно, и рядом ограничений, которые накладывает финансовая сторона дела: затраты на проведение фундаментальных научных разработок, затраты на создание модельных или опытных образцов и затраты на доведение технологии до состояния промышленно-рентабельной отличаются друг от друга на порядок. В ситуации дефицита бюджетного и фондового финансирования получается, что проводится большое число фундаментальных и дешевых исследований (так, только Российский фонд фундаментальных исследований выделил за время своего существования более 30 тысяч грантов), тогда как на создание производных от них технологий денег не хватает. Возникает, однако, вопрос, почему после завершения какого-то из указанных этапов (от фундаментального исследования до внедрения в производство) не происходит подключение внебюджетного финансирования? Ответ на него — помимо установочной неадаптированности к рыночной среде — следует, видимо, искать в сфере проблем, сложившихся встране вокруг правового регулирования отношений с интеллектуальной собственностью. Даже не столь важно, являются ли эти проблемы следствием несовершенных законов или же несовершенного применения этих законов, — очевидно, что имеет место существенная информационная непрозрачность, следствием которой является то, что в случае с интеллектуальным правом, как и во всякой рыночно неоптимальной системе, кто-то имеет возможность извлекать сверхприбыли (это привело, наконец, к тому, что заговорили об угрозе технологической и интеллектуальной безопасности страны), тогда как другие потенциальные участники, не имеющие дополнительных, не правовых ресурсов и рычагов влияния, просто не рискуют вкладывать деньги в эту сферу[10]. Эта информационная непрозрачность обнаруживается не только в сфере интеллектуальной продукции. С сожалением приходится констатировать, что вся отечественная научная система совершенно информационно непрозрачна, и это, на наш взгляд, является достаточным основанием для признания ее крайне деформированного и поврежденного состояния11][.
В заключение темы отношений науки и частного капитала хотелось бы также отметить, что последний далеко не всегда руководствуется лишь прямой коммерческой выгодой от производственных инноваций или косвенными политическими целями. Напротив, уже в настоящее время можно констатировать возникновение частных инициатив, нацеленных на развитие или поддержание определенных научных направлений или интеллектуальных проектов (главным образом — в гуманитарной области). Хотя эти начинания еще не вылились в создание частных фондов, сопоставимых по масштабу своей деятельности с крупными западными аналогами, однако уже само их появление является обнадеживающим признаком, поскольку в данном случае мы имеем дело с прямыми инициативами того самого «гражданского общества», которое может и должно заявлять свои интересы прямым образом, не опосредованным государственно-чиновничьим аппаратом или бюрократией существующих научных институтов. Наличие института научного меценатства является, возможно, одной из действенных альтернатив бюрократически организованным структурам «нормальной» науки, не реагирующей не только на утилитарно-технические запросы общества, но и не отвечающей его сугубо умственным интересам и потребностям. 3 Последний круг рассматриваемых здесь проблем касается разгерметизации российского научного сообщества. Мы затронем только те из них, что связаны с прямым отъездом ученых за рубеж. В этой теме довольно много неясного, поскольку, имея на руках лишь приблизительную статистику по этому вопросу, трудно сказать, отъезжают ли ученые именно в качестве ученых (то есть с установкой на продолжение профессиональной деятельности) или же в качестве частных лиц, преследующих надежду на лучшую жизнь. Второй случай не представляет собой интереса в нашем аспекте рассмотрения, поскольку для самой науки не имеет большого значения, уезжает ли человек за рубеж, чтобы менять профессию, или же меняет ее дома. Если ученый сталкивается с ситуацией, когда по каким-то причинам он не находит возможности заниматься наукой в своей стране, то сточки зрения науки как универсальной коммуникативной среды не имеет никакого смысла лишать его возможности заниматься ею в другом месте. Достаточно тенденциозным, однако, является представление о том, что такого рода смена места работы (совершенно обычная в научном мире) является невозвратной потерей в том числе сил и средств, потраченных на образование и т. д. При сохранении контактов в научной среде и нахождении подходящих форм взаимодействия мигрировавшие в другие страны ученые, как правило, остающиеся открытыми для профессиональных контактов с соотечественниками, являются несомненным приобретением для своей страны. В лице мигрировавших ученых их коллеги-соотечественники приобретают информационный канал, который может быть задействован в самых разнообразных формах. Эти мозги утекают только в том случае, если не существует каких-то эффективно функционирующих форм взаимодействия с отъезжающими учеными (на уровне лекционных поездок, совместных проектов, журнальной площадки и т. д.). К сожалению, следует сказать, что в этой части какой-то определенной и ясной политики со стороны отечественного научного сообщества не прослеживается. Напротив, в ряде случаев можно видеть, как между (э)мигрировавшими учеными и их российскими коллегами протекают неконструктивные по тону дискуссии[12].
Можно указать еще на одну сторону этой проблемы, которая фактически не принимается в соображение в дискуссиях по этому поводу и, как нам представляется, активно вытесняется из поля зрения борцов с «утечкой мозгов». Более десяти лет большое число наших соотечественников имеют возможность учиться и работать в зарубежных университетах. Опираясь на свои собственные силы и инициативу, они находят финансовые средства для того, чтобы удерживаться в научной среде. Нелишне заметить, что при этом приходится преодолевать жесткую конкуренцию в поисках стипендиального и грантового финансирования в среде, которая зачастую достаточно агрессивно относится к иностранцам. Однако требуется редчайшее стечение обстоятельств для того, чтобы, начав с нуля, сделать за рубежом полноценную научную карьеру, нередко — по причине довольно унизительного отношения к советскому (российскому) паспорту и соответствующих ограничений на пребывание в других странах. В силу этого Россия уже в настоящее время имеет обширную научную диаспору, которая — если не предпринимать в этом направлении каких-то радикальных шагов — постепенно рассеивается из-за перехода ее представителей в другие сферы профессиональной занятости (в том числе по возвращении в Россию). Но почему-то в данной области возможные — в том числе экономически исчислимые — приобретения никого не волнуют. Кандидат непонятно каких наук из вчера открывшейся «академии» в Нижних Васюках имеет большую степень институционально-бюрократического признания, чем доктор западного университета, напрямую учившийся у тех, кого в России принято цитировать по скверным переводам. Такое положение работает лишь на тех сторонников «консервирования мозгов», для которых противопоказано соприкосновение с мировым научным сообществом и кто продолжает воспроизводить привитую за советский период идеологию передовой самодостаточной науки. Возможно, учитывая ситуацию, складывающуюся в существующих образовательных и научных институтах, здесь можно было бы пойти по пути создания новых институтов, способных задействовать эти научные потенциалы, в создание которых страна не вкладывала ни копейки, но которые она не способна эффективно актуализировать. В связи с проблемой отъезда уже сформировавшихся ученых из России представляется необходимым проводить различие между нормативными аспектами функционирования научного сообщества и рядом практических задач, которые подлежат ясному регулированию в обществе, вкладывающем средства в содержание научных институтов. Согласно первой перспективе стремление расчленить научное сообщество в соответствии с национально-государственными или иными внешними принципами ведет к тому, что в рамках этих замкнутых анклавов наука становится институтом, неотличимым от магии, или же откровенно идеологической системой взглядов (таких «наук» в СССР было предостаточно — это наследие еще не полностью изжило себя). Великая наука в отдельно взятом государстве, которая демонстрирует непрофессиональным согражданам свою выдающуюся самодостаточность, является фикцией. Наука и научное сообщество представляют собой универсальную коммуникативную среду, и ученый есть всегда гражданин мира. Более того, наука по своему существу является той коммуникативной структурой, лишь на фоне которой может происходить цивилизованное налаживание отношений в любых других — политических, культурных и т. д. — сферах. Но идеальная система научной коммуникации никогда не может реализоваться, если не формируются и не развиваются институциональные формы, актуализирующие и интенсифицирующие систему действительного взаимодействия между учеными. Если, однако, обратиться ко второму из указанных аспектов, то нельзя упускать из вида те прямые и косвенные потери, которые несет общество в лице перемещающихся в другие страны ученых. Период, когда этот отток никого в России не интересовал, очевидно, закончился. Однако эта проблема не может быть решена силами научных институтов (в той мере, в какой они не продуцируют нормы, противоположные их собственной сущности), но требует более определенно урегулированных отношений в тех социальных структурах, которые обеспечивают функционирование и воспроизводство собственно научных институтов. Экономические потери, связанные с переездом ученых на постоянное место работы в другие страны, являются — если не оперировать неопределенным возможным эффектом от возможных результатов их научной работы[13]— потерями средств, вложенных в образование и переподготовку. Это означает, что должна существовать отрегулированная система возвращения этого кредита. Но это предполагает, что ученый имеет такую возможность в какой-то обозримый период.[14] Похоже, однако, что решение последней проблемы сняло бы драматизм самого этого вопроса, поставив на место плохо прикрытого морализаторства простую систему кредитно-финансовых отношений. * Автор выражает признательность Н. Плотникову и Р. Хестанову за дискуссионное обсуждение ряда вопросов современного состояния российской науки, отчасти выразившихся в настоящей статье. [1] Это, правда, пока слабо получается (см. статью Ю. Кузнецова в настоящем номере ОЗ). Здесь мы, однако, исходим из того, что система эффективного использования государственных средств — несмотря на всю институциональную инертность огромного застарелого монстра отечественной академической и ведомственной науки — в конечном счете все же будет налажена. Нас интересуют, однако, последствия реализации этой политики. [2] Данные документы («Перечень приоритетных направлений фундаментальных исследований» (утвержден правительством РФ 28.05.1996) и «Доработанный перечень», утвержденный 13.01.1998 президиумом РАН) замечательны во многих отношениях. Полтора года ушло на то, чтобы увеличить пятистраничный документ на полторы страницы, причем характер изменений таков: значительные дополнения и изменения (включая наименование дисциплин) претерпел перечень физико-математических, физико-технических и химических наук, тогда как совершенно не изменился, например, перечень приоритетных направлений в разделе «Науки о земле» (отсюда можно заключить, что и со стороны правительства, и со стороны академии над ним работали эксперты-единомышленники). Немного фантастическую картину представляет последний раздел правительственного перечня. Раздел6 (Проблемы мирового развития и внешнеполитической стратегии России) включает два подраздела: 6.1. Геополитические приоритеты во внешней политике России.6.2.Филологические науки. Искусствоведение. Культура (?!). Можно, конечно, предположить, что это просто грубая опечатка, — так и в пункте 5.1.2. правительственного документа говорится, например, о «национальном нейтралитете», а в том же пункте документа РАН — о«национальном менталитете» (мы пользуемся версией правительственного документа, расположенного на сайте Сибирского отделения РАН [http://www-sbras.ict.nsk.su/win/conferen/rus-sci/basic-prioritet.html]). Но присутствие «геополитических приоритетов» выдает тем не менее уровень маргинальности «экспертов», окучивающих государственные органы России (в академическом документе соответствующие проблемы обозначены в подразделе «Мировоеразвитие и международные отношения», который вместе с филологическими науками расположен в разделе «Гуманитарные и общественные науки» [http://www-sbras.ict.nsk.su/win/sbras/m98/basic-prior-98.html]). [3] «В обозримой перспективе военно-техническая сфера останется одним из ключевых факторов присутствия России на мировых рынках наукоемкой продукции» («Концепцииреформирования российской науки на период 1998 — 2000 годов» [http://www.extech.ru/s_e/min_s/of_inf/reform/cncpc3.htm] на сайте РИНКЦЭ [http://www.extech.msk.su]). [4] См. статью Ирины Маршаковой-Шайкевич в этом номере ОЗ. [5] В завершение этой темы с удовольствием отсылаем читателя к статье М. Цфасмана «Оптимистическая трагедия: заметки об отечественной науке и образовании» (ОЗ,2, 2002), где тема взаимоотношений науки и образования разворачивается на фоне опыта Независимого московского университета. [6] «В 2000 году на долю российских и зарубежных частных компаний приходилось 33,5% финансирования НИОКР в России» (Ведомости, 19. 12. 2001. Цит. по: [http://marketsurveys.ru/index.php/okonh/articles/s01004915]). [7] При наличии десятой части ученых мира в стране Россия занимает 0,3% доли рынка наукоемкой продукции (для сравнения: 39% на этом рынке — это продукция США, 30% — Японии, 16% — Германии) (Экономика и жизнь, 3/2002 [8] Это относится, кстати сказать, не только к гигантским индустриально-промышленным комплексам, но и к технологически простой, как могло бы показаться, области гуманитарных наук. Эту последнюю всегда обслуживал огромный аппарат разного рода редакторов, сверщиков и корректоров, так что выдаваемый на выходе продукт иногда имел с оригиналом такое же сходство, как медный колчедан с канделябром. [9] На конференции «Наука, бизнес, власть» (Москва, 19–20. 06. 2002) С. М. Алдошин (директор Института химической физики РАН в Черноголовке), приводя в пример один из удачных проектов своего института, попутно заметил, что технология, совершенная с точки зрения академической науки, потребовала еще 4 лет на доработку. И это — удачный проект, который все же смог заинтересовать иностранных инвесторов! [10] Возникающие в этой связи сложности указаны в проекте «Концепции государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета» [http://www.extech.ru/s_e/min_s/of_inf/concept/project.htm]. Спорным, однако, [11] Это касается не только вопросов о том, как расходуются в науке средства, но и элементарных экономических показателей, которые позволяли бы оценить эффективность ее функционирования (например, отношение совокупных затрат на науку (никому точно неизвестно — х) к рыночной стоимости производимой ей интеллектуальной продукции (никому точно не известно — y)). Парадоксально, но рынок сантехники прозрачнее, чем сфера отечественной науки. Иногда закрадывается подозрение, что было бы продуктивнее еще раз пригласить немцев. [12] См., например, спор, разгоревшийся на страницах «Вопросов психологии» [http://www.voppsy.ru/tr.htm]. [13] Апелляция к этим «возможным результатам» и их подсчет является чистой фикцией до тех пор, пока они не подкреплены системой финансового кредитования, которая — в отличие от пустых экономических абстракций — только и способна придавать этим возможным результатам смысл действительного прогноза. [14] Когда сумма потерь от отъезда одного отечественного ученого определяется вразмере 300 тысяч долларов, возникает закономерный вопрос: сколько тысяч лет должен в таком случае проработать сейчас ученый в отечественном научном институте или университете, чтобы вернуть государству такую колоссальную сумму? |