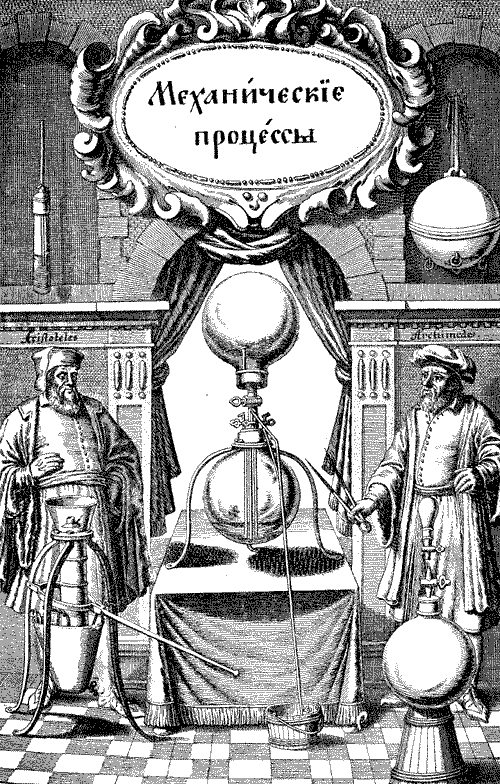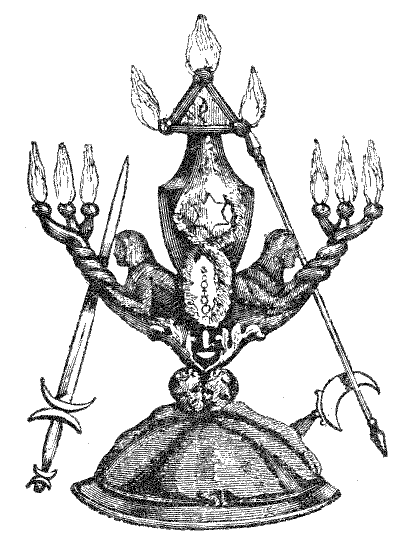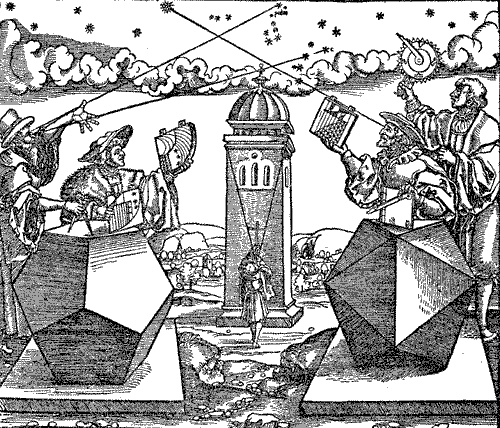Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 7, 2002
| На вопросы Александра БИКБОВА Андрей Александрович, позвольте начать с вопроса, который до сих пор представляет интерес, а именно о преобразовании Министерства в 2000 году. Кому принадлежала идея объединения промышленности и науки? Понятия не имею. А Вы не участвовали в обсуждении этого проекта? Я был очень далек от этого. Я в Министерстве с 6 декабря 2001 года. У меня есть свое мнение: правильно это или нет, но это уже отдельный вопрос. На Ваш прямой вопрос я могу ответить: никакого участия в обсуждении и принятии решения по этому вопросу я не принимал. Может быть, тогда Вы скажете о своем отношении? Я считаю, что сегодня отдельное существование Министерства науки неоправданно и даже вредно. И могу объяснить почему. Так сложилось, что сегодня у нас тем, что понимается под наукой, занимается в основном Российская академия наук. В существенно меньших масштабах существует вузовская, отраслевая, частная, корпоративная наука. Поэтому сегодня Министерство науки возможно в двух вариантах. Первый: структура, которая будет в некотором смысле конфронтационной по отношению к Академии наук. Но сегодня такой подход вреден, потому что противостояние между двумя структурами в науке — министерством и академией — растратило бы силы научного сообщества. Второй вариант: создать Министерство науки как придаток Академии, и это тоже очень вредная вещь, потому что фиксирует достаточно консервативную схему. Я считаю, что на сегодняшний день та структура, которая есть, — единственно возможная. Пожалуй, говорить «единственно возможная» неправильно, потому что в нашей жизни возможно любое количество структур. Но она — именно то, что, на мой взгляд, обеспечит максимальную эффективность и максимальный, так сказать, прогресс. Вообще слово «прогресс» очень опасно. Знаете, еще со времен чтения Стругацких я запомнил слово «прогрессор» и понял, что оно весьма неоднозначное. Но если брать в общечеловеческом смысле, в смысле движения вперед — оно подходит. Действующая сегодня структура оказывается не полным слиянием или полной конфронтацией, а мостом. Будучи не тем же самым, а сдвинутым немножко в пространстве и во времени по отношению к Академии наук, Министерство создает мосты — мосты к другой жизни, к экономике в том числе. И одновременно оно является стратегическим партнером, должно являться стратегическим партнером по отношению к экономике, к промышленности, обеспечивая переход между ними и наукой. Это на сегодняшний день является основной задачей, стоящей перед нашим Министерством. И именно на ее решение наш Министр И. И. Клебанов ориентирует Министерство. Смысл его нескольких выступлений, собственно, в этом и заключается. Когда он говорит, что у нас Министерство науки, технологии и промышленности, он как раз обозначает полный инновационный цикл. То же самое, когда он говорит, что разработка и реализация инновационной политики— это принципиально важная и, может быть, ключевая составляющая деятельности нашего Министерства. На сегодняшний день задач государственного масштаба для отдельного Министерства науки как такового нет. Вообще, министерства должны играть роль координирующих, переходных инструментов. Либо это должно быть Министерство образования и науки, и тогда это — инструмент перехода от образования к науке. Либо это Министерство науки и промышленности, и тогда это — инновационный инструмент при переходе от науки, прежде всего фундаментальной, к экономике, к созданию так называемой «новой экономики» — экономики, основанной на знаниях. Поэтому, как бы болезненно ни было принятое тогда решение, глядя ретроспективно, можно сказать, что оно было разумно, и на сегодняшний момент существование такой структуры целесообразно, не говоря уже о том, что вообще задача состоит в извлечении максимально возможного из существующих механизмов, а не в обсуждении вопросов о том, какие механизмы нужны вместо них. А насколько эта программа и сами функции Министерства сегодня близки к функциям Министерства конца 80-х годов, с его ориентацией на научно-производственные объединения? Тогда ГКНТ[1] СССР был совсем другой структурой. Во-первых, тогда это было не отраслевое министерство, а координирующий орган с абсолютно другими функциями, полномочиями и, в общем, даже кадровым потенциалом. Я тогда работал с ГКНТ как представитель академического института. Как заместитель директора одного из крупнейших институтов Академии наук приезжал сюда, чтобы обсуждать вопросы различных программ и т. д. Это был орган координирующий, поддерживающий, но он точно не был ориентирован на рынок. Он обеспечивал координацию и определял направления исходя из жесткой административной схемы. То есть кто-то очень квалифицированный: Академия наук, представители отраслевой науки и т. д. — совместными усилиями вырабатывали правильную программу, оценивали, куда должен двигаться научно-технический прогресс, а дальше этот прогресс отслеживали. На рынок никто особо не ориентировался. Хотя говорили правильные слова, что мы должны улучшать благосостояние людей, но это улучшение было ориентировано на более жесткий, приказной порядок. И у вас осталось именно такое впечатление от взаимодействия с ГКНТ? Нет. Там были очень квалифицированные люди, гораздо более квалифицированные в среднем, чем сейчас. Я тогда судил исходя из других канонов. У меня было ощущение, что это люди, которые понимают, как двигаться дальше. Это была интересная структура, которая полностью соответствовала тем задачам, которые перед ней ставились. А если оценивать ГКНТ с сегодняшних позиций… Я как раз в то время читал очень интересную американскую статью, которую мне, по-моему, привез отец. Статья была о том, почему советская наука и технологии обречены на отставание от американских. Там был довольно интересный график: где мы находимся на уровне, немножко впереди, где отстаем, а где мы отстаем сильно, и отставания уже не преодолеть. И главная идея была, что плюс американской научно-технической сферы заключается в том, что там любая технология контролируется рынком, спросом и тем, насколько это востребовано потребителем. А в СССР все развитие было ориентировано только на одно — на жесткое развитие в рамках административных решений. И вывод был такой, что научно-техническая сфера СССР обречена на увеличивающееся отставание. Тогда это было очень интересно, но не очень понятно.
Вы считаете, что основной стимул, который может получать наука для своего роста в настоящий момент, — это рыночная востребованность научных результатов? Наука фундаментальная основной стимул получает все-таки от любопытства людей. Есть определенное количество исследователей, которые ориентированы на занятие наукой независимо от того, разруха в стране или, наоборот, процветание. И это здорово. Они всегда будут этим заниматься. Они используют, может быть, внешние обстоятельства, потому что больше денег получают при процветании на свои исследования, но это не имеет никакого отношения к тому, чем они будут заниматься. Если говорить о прикладных исследованиях, то, конечно, должны быть распределенные потребители и распределенные источники финансирования. Вот сейчас мы ведем несколько инновационных проектов — там очень важно, чтобы наряду, скажем, с госзаказчиком по этим проектам имелся определенный потребительский рынок. Причем рынок диверсифицированный, рынок, который при любых обстоятельствах может и должен иметь платежеспособный спрос. Если один сектор этого рынка будет по каким-то причинам проваливаться, то второй сектор сохранится или даже вырастет. В этом плане очень важно, чтобы какая-то часть продукции имела конечного потребителя. Не промежуточного, а конечного. И я считаю, что условия для наукоемкой промышленности, прикладной науки, инноваций должны быть диверсифицированы. Чем больше диверсификация, причем нарастающая, тем больше шансов, что этот сектор разовьется. Позвольте вернуться к академической науке — из каких источников она должна жить? Бюджет. В первую очередь — бюджет. Я имею в виду даже не ответственность государства, а ответственность общества. Вы имеете в виду в том числе и частные вложения? Вообще я считаю, что крайне важно создать условия, при которых могли бы быть, по крайней мере, два источника частных вложений в науку. Один — это просто благотворительность, потому что наука — это часть культуры, это часть здоровья и долговременных перспектив нации. И wealthy people, т. е. богатые и благополучные люди, должны думать о том, чтобы в это дело вкладывать деньги. И второй источник: должны быть, с моей точки зрения, механизмы, не только бюджетные, но и более прямые, когда промышленность, получившая толчок от науки, имела бы возможность и, более того, была бы ориентирована на то, чтобы часть прибыли возвращать в фундаментальную науку. В форме налога или в форме добровольных пожертвований? Я считаю, что помимо налогов, которые должны платить все, должна быть еще возможность для бизнеса, для промышленности делать какие-то добровольные пожертвования. Причем не в форме прямого или косвенного контракта. А чтобы в результате раскрутки успешного бизнеса, основанного на знаниях, люди имели возможность возвращать деньги внутрь, в создание новых знаний и в обучение — не на поддержку сирых и убогих, а на поддержку продвинутых, — на фундаментальную науку, обуславливая это тем, что через два, три, пять лет именно это направление, этот фундаментальный институт даст какие-то результаты именно их бизнесу. Мне кажется, это было бы крайне важно с точки зрения психологического единения бизнеса и фундаментальной науки, это создало бы позитивную среду. А в Министерстве есть программы, которые работают на практическую реализацию этих идей? По крайней мере, сейчас мы начали ставить перед собой задачу создания таких инструментов. Но даже объяснить, что такие инструменты нужны, не так просто. Объяснить в Минфине? Например, там, да даже и в МЭРТ[2]. Понимаете, в каждой избушке свои погремушки. У нас есть такая «навязчивая» идея, что мы должны создать абсолютно рыночное общество. Ради чего? После некоторого раздумья объясняют, что ради благосостояния людей. Но у нас настолько велик страх перед тем, что любое исключение, любой нестандартный шаг ведет к коррупции, к воровству, что многие мои коллеги не хотят даже обсуждать новые возможности. А мне кажется, обсуждать надо. На самом деле не надо бояться. С середины 1990-х Министерство финансирует исследования по приоритетным направлениям. Что остается на долю неприоритетных? На долю неприоритетных направлений, т. е. того, что может возникнуть, так сказать, на ровном месте, должно что-то оставаться. Не должно быть выщербленной земли. Должна быть какая-то живая почва, из которой может родиться что-то абсолютно нестандартное. И, несмотря на всю ограниченность наших бюджетов, мы должны это как-то поддерживать. Так получилось, что у нас были выдающиеся институты: ФИАН, тот же питерский Физтех, Институт химической физики. Такого типа институты, мощные, глобальные, должны, видимо, сохраняться. Хотя сегодня в мире такие огромные институты —экзотика. Но интегрирующие институты создают среду, и в них может возникнуть что-то очень интересное.
И Министерство поддерживает эти институты? Их поддерживает Российская академия наук. Потому что такого типа институты — в первую очередь академические. Знаете, как были ученые-энциклопедисты, у нас есть такие институты энциклопедические. А как связана работа таких институтов с приоритетными направлениями? Есть корпоративная научная этика, которая хотя и сильно «размыта» в последнее время, но существует. И даже если ты знаешь, что кто-то из твоих коллег слаб, публично его уничтожать некорректно. И, в каком-то смысле, это не плохо. Это некие моральные соображения. С другой стороны, сегодня мы не имеем права двигаться по всему фронту, потому что если мы каждому будем пытаться хоть что-то дать, плохо будет всем. Видимо, должен быть фонд, средства из которого распределяются с пиком, соответствующим лучшим исследованиям и ведущим научным школам. Это одна сторона. А вторая сторона — это приоритеты. Приоритеты — целевое финансирование, даже на фундаментальные исследования, основывающиеся на экспертных оценках больших ученых. Они могут оценить идею даже не в их сфере и, благодаря этому, могут поддержать какое-то исследование, которое находится абсолютно вне привычных «географических мест» научной среды. Большая часть очень интересных идей все-таки пробивается. И тут крайне важны фонды, в том числе Российский фонд фундаментальных исследований, потому что там работают действительно большие ученые. Я помню, как кого-то из наших артистов, по-моему Жванецкого, послали к Райкину и сказали: идите к большим артистам, всегда показывайте себя только большим артистам. Ив науке нужно так же: показывать себя большим ученым. Даже если ты занимаешься не этим, человек нестандартный тебя может понять. И понимает. И это очень важная часть поддержки фундаментальной науки. То есть с организационной точки зрения это, прежде всего, фонды? Да, фонды. Вообще фонды — и это, опять же, моя позиция — та схема, то направление, которое надо развивать. И оно должно быть соизмеримо с направлением поддержки среды. Сегодня все-таки век перемен. Время, когда мы должны искать принципиально новые решения. И поэтому, сохраняя среду, мы, тем не менее, должны делать ставку на прорыв. Я считаю, что фондовская система поддержки исследований, в т. ч. фундаментальных, должна развиваться. Она должна приобретать относительно больший вес. А если говорить о денежном выражении этого роста, на Ваш взгляд, каково оптимальное соотношение между прямым бюджетным финансированием (в том числе министерским) и фондами? Здесь я боюсь говорить о цифрах, потому что это очень сложный момент. Сегодня поддержание школ — это поддержание приборной базы, какой-то технологической инфраструктуры (а она дорогая). Что мы сегодня имеем в этой области? Мы имеем шесть процентов от бюджета науки у Фонда фундаментальных исследований и еще один процент у Фонда гуманитарных исследований. Мне кажется, что процент для этих фондов должен быть увеличен. Но насколько? Я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Я думаю, в полтора-два раза. Но это просто эмпирическая, ни на чем не основанная оценка. Понимаете, тут такая проблема: часть денег, которая идет на поддержку среды, расходуется неэффективно. Есть мертвые структуры и мертвые институты, которые финансируются просто потому, что так исторически сложилось. И если это так (а это так), и перед нами поставлена задача инвентаризации того, что мы имеем в науке, — абсолютно ясно, что в ходе этой инвентаризации произойдет сужение базы, фронта финансирования. Я думаю, что часть этих денег, которые на этом можно сэкономить, будут направлены в фонды. Это что касается фундаментальных исследований. Теперь о прикладных исследованиях, инновациях. Я хотел бы задать один вопрос до того, как мы перейдем к инновациям. Какое место в работе Министерства занимают гуманитарные науки? Есть ли программы поддержки гуманитарных исследований? Насколько я понимаю, очень небольшое место. Главной здесь остается Российская академия наук. Есть экономические исследования, но это не совсем то. Это, так сказать, обслуживание. Моя точка зрения, что Министерство могло бы уделять несколько больше внимания, по крайней мере, технологическим аспектам поддержания среды. Скажем, информационному обеспечению гуманитарных наук и т. д. Я считаю, что гуманитарные технологии — то, чему сегодня в России уделяется недостаточное внимание. На самом же деле это та область, где сегодня может произойти прорыв. И это то, на чем мы больше всего потеряли, когда переходили от Советского Союза к России — на отсутствии соответствующих гуманитарных технологий. Если теперь перебросить мостик к инновациям, насколько, на Ваш взгляд, расходы Министерства могут быть перераспределены в пользу фондов, работающих на фундаментальную науку, или в пользу программ по поддержке гуманитарных исследований? Вы знаете, хорошо, когда говоришь в общем. А когда говоришь «процент»… Не знаю. Ну, может быть, не в процентах, а в организационных формах? Я считаю, что должен быть создан так называемый «технологический коридор», когда фонды завязаны в некую единую систему, начиная от фундаментальных исследований и кончая исследованиями сугубо прикладными и даже коммерциализацией. Во всяком случае, они должны быть тесно связаны друг с другом. Причем это достаточно просто. И это не мы придумали, это изобретение, которое существует во всех странах. Наше отличие от других стран — в том, что мы все-таки существенно менее прагматичны в науке. И это хорошо, это нас отличает. Я сделаю небольшой философский отход в сторону: я считаю, конкурентоспособность любой страны на ближайшее время, не сегодня даже, а в перспективе, будет определяться тем, имеет ли она так называемые центры совершенства. Это то, что имеет только она и чего не имеют окружающие. Причем хорошее, сильное — потому что это и есть твердая валюта. Ведь глобализация все сглаживает. И если кто-то имеет то, что отличается от окружающих, — это, на самом деле, самое ценное. Вот такой наш более широкий, менее прагматичный подход к науке — это то, что мы имеем, думаю, еще с досоветских времен. Вопрос в том, как за это получать деньги, какую-то ренту. Иначе это погибнет. Потому что на одном имидже долго не проживешь, особенно имея не очень сильно развитую экономику. Мы можем не дожить до того момента, когда экономика опять сможет бесплатно поддерживать науку. В этом и состоит наша задача: обеспечить прибыльность широкого научного подхода. Мне хотелось бы понять зависимость между развитием фундаментальных исследований и поворотом в сторону окупаемости научных разработок. Согласитесь, здесь есть напряжение, за которым стоит не просто борьба идей, но конкретные люди, институты, научная инфраструктура. Страшная вещь — драка нищих. С моей точки зрения, мы недостаточно времени и сил уделяем тому, что называется win-win strategy, когда выигрывают обе стороны. Это то направление, которому довольно много внимания уделяется на Западе и вообще в мире. Это не компромисс между победившим и проигравшим, а усиление, синергетика процессов. Поэтому когда мне говорят, что есть противоречие между фундаментальной и прикладной наукой, мне кажется, это идет от недостаточной глубины понимания вопроса. Мы сейчас очень много внимания уделяем вопросам инноваций. И у нас есть оппоненты, которые говорят: эти деньги должны быть направлены в фундаментальную науку, что же вы делаете!.. А мы, в первую очередь Министр, ставим вопрос так: что сегодня видит общество, даже не правительство и не Дума, а общество, потребитель, в науке? Я, например, искренне убежден, что мы можем зарабатывать и действительно развивать общество, сделать его более благополучным, основываясь на расширенном воспроизводстве знаний. Но что для этого надо сделать? Нужны инвестиции. А чтобы получить дополнительные инвестиции, в том числе и на фундаментальные исследования, мы должны показать, что это не только социальная проблема, но и проблема развития экономики. И мы должны это показать на примерах. Понимаете, когда мы в течение десяти лет говорим, что если мы не будем поддерживать фундаментальную науку, это приведет к тому, что наша экономика погибнет, а если поддержим, то наступит процветание, люди, которые умеют смотреть не только вперед, но и назад, говорят: ну, десять лет назад вы это говорили, вам кое-что давали, пятнадцать лет назад давали много, а почему не наступило это процветание сегодня? Почему все, что мы имеем, — это углеводороды, которые мы качаем, причем в основном западными технологиями? Поэтому без демонстрации того, что это не пустые слова, нам ничего не добиться. Но зато если мы это демонстрируем, то это очень серьезный сигнал всем — и чиновникам, и обществу, — что это направление надо поддерживать, причем в расширенном режиме. Что это не воля президента, не воля нескольких «яйцеголовых», которые смогли убедить своего президента, а насущная необходимость для общества, чтобы оно жило лучше. А Вам не кажется, что здесь есть риск: если инновационные проекты докажут свою окупаемость, то, в свою очередь, остракизму подвергнутся академические институты, которые, конечно же, такого доказательства предоставить не могут. То есть наука будет развиваться, но это уже будет другая наука. Не думаю. Я могу сказать, кому может стать плохо. Тем, кто на самом деле фундаментальными исследованиями не занимается, знания новые не производит, а производит тот же высокотехнологичный продукт, но продукт, который не востребован. При введении жестких экономических критериев эти люди окажутся за бортом. Потому что они, с одной стороны, не попадают в категорию тех, кто занимается фундаментальной наукой и производит знания, а с другой стороны, они показывают свою экономическую неэффективность. Вот для них существует определенная опасность. Вы прекрасно понимаете, что фундаментальной наукой занимается гораздо меньше людей, чем провозглашается. Я не говорю, что это плохие люди. Просто такая у них стезя. Но либо ты действительно занимаешься производством новых знаний, и тогда ты должен пройти определенное сито, отстоять свое. Либо ты должен показывать экономическую эффективность. Я считаю, третьего не дано. Причем, я бы сказал, не только экономическая эффективность, а эффективность в принципе, в том числе с точки зрения национальной безопасности, решения социальных задач. Но я считаю, что и национальная безопасность, и решение социальных проблем, если не на сто процентов, то в значительной степени, должны переводиться на язык экономической эффективности. А как бы это могло бы выглядеть в аспекте национальной безопасности? Я здесь не очень большой специалист, но мне кажется, что конкурентоспособное оружие имеет также и рыночный спрос. Это не значит, что мы должны его продавать.
Но, по крайней мере, не покупать. Понятно. Проект национальной инновационной системы предполагает, во-первых, создание венчурных фондов, во-вторых, поддержку инновационных центров, в-третьих, инвестиции в частные фирмы. Это предполагается делать одновременно? Что мы сегодня имеем, если говорить о национальной инновационной системе? Какие-то инновационные центры, которые объединяют малые предприятия, какие-то центры, которые обеспечивают обмен нововведениями и технологиями. Какие-то элементы по подготовке специалистов, бизнес-школы. Консалтинговые центры. Какие-то финансовые институты, как, скажем, фонды. Какие-то технологии продвижения нововведений. Чего мы не имеем? Сегодня в стране нет единой системы, единой инновационной политики. В одном месте — одно, в другом — другое. Разрывы между этими элементами так велики, что зачастую их не удается совместить, и мы на этом много теряем. Сегодня перед нами стоит задача создать единую систему, при которой бы человек, который имеет хорошую, экономически оправданную, разумную идею, мог бы — конечно, при определенных усилиях — найти инвестора или, по крайней мере, имел бы технологию, как встретиться с инвестором. А поддержка частных компаний — это не совсем корректная формулировка. Мы не поддерживаем частные компании. В тех бизнесах, в которых заинтересована страна, государство — а государство заинтересовано в бизнесе, где обеспечивается максимальная добавленная стоимость за счет мозгов, квалификации людей, — мы стремимся минимизировать риски, чтобы сюда шли частные деньги и чтобы заинтересовать частный бизнес. То есть, во-первых, мы можем создать комфортную, предсказуемую, стабильную среду — информационную, законодательную. Во-вторых, учитывая, что этот бизнес имеет дополнительные, например, технологические риски, мы можем эти риски либо убрать, либо минимизировать, разделив их с теми, кто собирается идти в эту экономику. Например, так называемые инновационные проекты государственной значимости. Мы готовы вкладывать деньги в развитие технологий при условии, что все остальное, как в любом нормальном бизнесе, берет на себя частник. Это не означает, что мы начинаем растить частный капитал. Это означает, что для этого частника, который позитивно и понимающе смотрит на национальный интерес страны, мы создаем равные условия с теми, кто идет в более спокойный, предсказуемый и прибыльный бизнес, такой как, например, использование недр или леса. Я считаю, что это справедливо. Это не противоречит рыночному подходу. Если мы этого достигаем, мы создаем среду для развития науки. И если это окажется эффективным, у нас появляются аргументы и перед Минфином, и перед Думой, и перед обществом, почему надо вкладывать больше денег в науку. Идет ли речь о создании экспертных комитетов или советов для оценки технологий? Да. Кто входит в эти комитеты? Раньше там сидели либо академик, либо высокий правительственный чиновник. Сейчас туда вошли люди, которые не являются ни теми, ни другими. Если говорить об инновационных проектах государственного значения, то туда мы вводим представителей крупного бизнеса. Сегодня экспертный совет — это смесь людей науки и людей бизнеса с определенной прослойкой чиновников, которые должны обеспечивать стабильность. Помимо прямой цели наиболее сбалансированного отбора проектов мы ориентируемся еще и на создание единого сообщества, поскольку то, что члены совета общаются друг с другом и слушают мнения друг друга, — это не менее важно. Могу сказать, что после отбора инновационных проектов несколько очень уважаемых мною ученых и бизнесменов, познакомившись друг с другом, договорились о конкретном взаимодействии. Это же здорово, что люди начинают сотрудничать друг с другом. Ведь у нас одна из проблем общества сегодня, наряду с деэлитизацией — это то, что существующие элиты почти не пересекаются. В Советском Союзе больше было пересечения элит — скажем, физики и лирики, как известно, пересекались. Творческая элита не пересекалась с партийной, а вот с элитой научной, промышленной она пересекалась довольно сильно. Это было очень важно для стабильности общества. А сегодня этого почти нет. И Вы считаете, что Министерство может стать своеобразным клубом? Я не настолько самонадеян, но считаю, что если мы будем создавать условия для встречи этих людей, то они этот клуб могут создать. Вообще задача чиновника — это создание условий, и больше ничего. Мы в Министерстве должны сосредоточиться на создании условий. В Министерстве есть планы поддержания контактов с российской научной диаспорой за рубежом? Насколько я знаю, такие работы ведутся. Это задача не только для Академии наук, но и для Министерства. Я могу привести пример. Мы сейчас занимаемся венчурной индустрией. И одна из наших идей заключается в том, чтобы помимо Америки, которая является родиной венчурного финансирования, развивать крайне перспективные взаимоотношения с Израилем. По каким причинам? Не только потому, что это страна, которая сумела внедрить такой опыт у себя, но и потому, что это страна, которая сумела создать экономику, основанную на знаниях, в значительной степени используя интеллектуальный потенциал эмигрантов из России и бизнес-подходы американского, капиталистического общества. Я где-то такую фразу прочел, что птица научить человека летать не может, научить летать человека может другой человек, который уже научился летать сам. Вот нам надо найти этих «других людей». Я думаю, что проблема взаимодействия с диаспорой может быть для нас очень эффективной именно в этом плане. А в какой форме это может происходить? Совместные исследования, семинары. Может быть, какие-то совместные инфраструктурные формы. Если бы удалось делать совместные венчурные фонды с участием капитала оттуда и людей, которые уехали отсюда, это было бы очень интересно, потому что полная разница культур иногда мешает толком провзаимодействовать. У меня была история работы с немцами, в совместном инвестиционном фонде. Обе стороны очень хотели что-то сделать. Но это были принципиально разные культуры. И нам не удалось многого сделать в огромной степени не потому, что они не доверяли мне или моим коллегам лично. Они говорили: «Так нельзя». Я говорю: «Почему?» — «Ну потому что нельзя». А вот те, кто от нас уехал, они все-таки так не говорят. Во-первых, они могут тебе объяснить, почему нельзя, поскольку сами через это прошли. И точно так же они могут понять твое объяснение, почему можно.
Если вернуться к проекту инновационной политики как целостной системы: с одной стороны, предполагается реализовать эту систему, а с другой стороны, довести к2010 году бюджетные расходы на науку до пресловутых четырех процентов. Я понимаю, что вопрос опять трудный. Но если не в процентах, то хотя бы на уровне порядковых величин — какая часть из этих четырех процентов будет идти на инновационные программы? Мое ощущение, что незначительная. Я считаю, что прямые бюджетные вложения в инновационные проекты не должны превышать пяти-десяти процентов от общего объема финансирования. Если мы сумеем показать, что это эффективно, там больших денег не потребуется, все будет происходить и без нас. Нам надо будет потратить деньги на начальную стадию, это будут seed money, потому что это очень рисковая часть, и никто, кроме государства, ее не профинансирует. Другие расходы — это фундаментальные исследования, исследования, которые ведутся в интересах государства, обороны и т. д., и на инфраструктуру. Прямая поддержка инновационных проектов — это вещь достаточно временная. Это не столбовая дорога. Мы это делаем, чтобы создать примеры успеха. А дальше, если все пойдет благополучно, я думаю, государство эту функцию вообще не должно нести. Скорее, мы должны увеличивать расходы на фундаментальные сферы, на образование. Какими критериями, кроме экономической эффективности, руководствуется или собирается руководствоваться Министерство? Я считаю, для поддержки прикладных исследований мы должны оценивать несколько вещей. Во-первых, Министерство должно принимать участие в оценке рынков. Сейчас мы этим занимаемся недостаточно. Мы должны принимать участие в определении торгово-промышленной политики. Мы должны понимать, какая продукция будет востребована, оценивая тенденции научно-технического развития и в стране, и в мире: какие направления с долгосрочной точки зрения исчерпаны, какие, наоборот, развиваются. Во-вторых, это рынки, понимаемые в широком смысле слова. Это потребности, как с точки зрения потребителей, таки сточки зрения рынка рабочей силы. Вообще должны быть индикаторы: какая технология, какие направления имеют перспективу. Например, сегодня перспективные направления — это направления, которые не требуют очень сложной логистики, потому что у нас старая советская логистика распалась, а новая не создана. И ориентироваться на то, что мы способны конкурировать в тех областях, где создание изделий требует очень сложной логистики, нереалистично. Так же как не реалистично, скажем, ориентироваться на области, которые требуют очень больших капиталовложений. Но, с другой стороны, мы можем ориентироваться на области, где требуется очень большая интеллектуалоемкость. Можно еще какие-то критерии назвать. А дальше ищем пересечения между рыночными требованиями и тенденциями научного развития. И на этом пересечении ищем свое место. Вот это совмещение — и есть миссия Минпромнауки, то, над чем мы должны работать. Реструктуризация Академии вписывается в проект инновационной системы, или это что-то независимое? Она вписывается в то, что необходимо стране. Была советская Академия наук. Может быть, лучшее из того, что было в Советском Союзе. Это была абсолютно выдающаяся организация, средоточие цвета нации. Страна изменилась кардинальнейшим образом. И даже если это было самое лучшее, это все-таки было ориентировано на ту страну, и тоже должно измениться. Изменилась же Академия наук, когда произошел переход от царской России к России социалистической. Она изменилась еще раз, когда наука стала производящей силой — сначала оборонной, а потом и производящей. Она стала принципиально другой Академией наук. Ну, как можно на таком повороте и изломе, который произошел у нас за последние десять лет, считать, что тут можно избежать качественных изменений? Начиная с прошлого года в выступлениях президента есть фрагменты, посвященные Академии. Насколько я понял, их смысл в том, что продукция, которую выпускает Академия, т. е. те знания, которые производят академические институты, в конечном счете должны быть так или иначе встроены в международный рынок. Я не так понял президента. Я считаю, что главная ответственность и главная задача Академии — это фундаментальные исследования. И на рынок они ориентированы быть не должны. На рынок в том смысле, в котором все это понимают. Конечно, все можно назвать рынком, и ничего плохого в этом нет. Но тут хотелось бы избежать смешения понятий. То, что знание — это национальное достояние, но и часть международного общечеловеческого достояния, это несомненно. И то, что Академия, вообще российская наука должна быть ориентирована на конкурентоспособный уровень знаний в мире (и только в этих областях она заслуживает поддержки), это однозначно. Надо поддерживать то, что конкурентоспособно. Наша задача — бороться за то, чтобы было бюджетное финансирование на Академию, на фундаментальные исследования. Это первое. Второе: как я уже сказал, Министерство может и должно обеспечивать мостик, связующие звенья между институтами Академии наук, между сотрудниками Академии наук и экономикой, бизнесом. То есть создавать условия, инфраструктуру, максимально благоприятную для таких связей. Вы могли бы обозначить перспективы работы Министерства на ближайшие годы? Что предстоит сделать, какие программы реализовать, какие дальнейшие изменения научной сферы предполагаются? Давайте я выскажусь не о задачах Министерства, а о том, какие задачи в рамках развития инновационных сфер я считал бы целесообразным реализовать в ближайшие годы. Во-первых, это совершенствование правовой базы, связанной с интеллектуальной собственностью. Второе — это развитие инфраструктуры инновационной деятельности. Я считаю, что сегодня наша задача номер один — это создание того, что называется «инкубатор»: выращивание небольших экономически эффективных предприятий с опорой на коллективы ученых, которые сами по себе совсем не рыночные и не экономические. Нужно запустить инкубационные процессы, поскольку мы показали, что следующую стадию мы уже обеспечивать умеем, и она эффективна, по крайней мере, может быть самоокупаема. Речь идет об инновационно-технологических центрах. Есть союз ИТЦ, в который входит порядка 40 центров, действующих достаточно эффективно. И они будут разрастаться. А инкубационная стадия — это ответственность государства, мы должны взять ее на себя. Затем, мы должны вместе с Минобразования очень большое внимание уделять образованию. Сейчас много разговоров: инновационный менеджмент, инновационные менеджеры… У нас выявилась проблема не менее серьезная. У нас дефицит квалифицированных людей, специалистов: технологов, конструкторов — людей, которые могут организовать производство. И это сегодня самая острая, с моей точки зрения, проблема. Видимо, вместе с Минобразования мы будем интегрировать науку и образование, пытаться развивать систему образования, ориентированную на инновационную экономику. Далее, мы должны принимать участие в развитии финансовых инфраструктур. У нас на сегодняшний день, к сожалению, известны только два инструмента: бюджет и банки. А ведь этих инструментов в мире гораздо больше. Это и формальный венчурный капитал, прямые инвестиции. Это и неформальный капитал, т. е. личные деньги, прежде всего обеспеченных людей. Помимо правовых условий, надо создавать среду, чтобы, если люди хотят куда-нибудь деньги вложить, они бы понимали, куда им вложить. Сегодня потребность такая есть, и это задача Министерства — создание такой среды, создание новых финансовых инструментов, соответствующих новым требованиям. И, наконец, участие в создании примеров успеха, т. е. участие в каких-то проектах, которые перспективны и могут показать свою экономическую эффективность, на основе разработок, проводившихся в Советском Союзе и в России. Вот, пожалуй, те направления, в которых я вижу роль Министерства в ближайшие два-три года. Я считаю, что если нам удалось бы на этих направлениях сделать правильные шаги, нам было бы что предъявить на следующем этапе и обосновать, почему мы должны больше внимания уделять инновационной экономике. [1] Государственный комитет по науке и технике. — Примеч. ред. [2] Министерство экономического развития и торговли РФ. — Примеч. ред. |