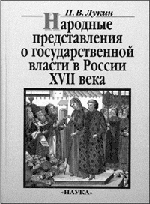Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2002
Не являясь специалистом по русской медиевистике и берясь тем не менее писать эту рецензию, могу себя оправдать лишь соображениями из области сравнительного источниковедения. Проработав достаточно много с массовыми судебно-следственными материалами советской эпохи, изветные челобитные да расспросные речи читаешь, как родные. И именно опыт изучения поздних дел позволяет подтвердить правоту подхода П.В.Лукина в том, что для медиевистов является предметом некоторых сомнений, а именно — меру репрезентативности источника. Основная часть книги (три главы из четырех) построена на массе методично изученных автором следственных дел «о непригожих речах»,частью опубликованных, частью хранящихся в архиве древних актов (РГАДА). В них непременно полагалось указывать, что именно и в каких обстоятельствах произнес обвиняемый. Эти цитаты и служат основой для анализа, а заодно и придают книге колорит и смак. Основная их проблема связана с отрывочностью: отдельные фразы, вырванные из контекста, не всегда даже вполне понятны. Тем не менее, П.В.Лукину удается (на мой, можно сказать, сторонний взгляд) на их основании обрисовать контуры народных представлений о власти, в первую очередь, конечно, о царе. Делает он это достаточно тонко, отвергая привычные шаблонные формулировки (о«наивном монархизме», «антифеодальных выступлениях», «классовых чаяниях») и не только отмечая те или иные тенденции, но и пытаясь установить их меру. Да, фигура царя была сакрализована. Но до какой степени? Какое именно место отводилось ей в иерархии ценностей? Итак далее. Чтобы компенсировать отрывочность основного источника, автор вводит главу с анализом старообрядческих сочинений XVII века на предмет отношения к царю и его власти. Следственные дела, помимо частого отсутствия контекста непригожих речей, заставляют постоянно оглядываться и на иные вопросы. Где гарантия, что содержание каждого из высказываний типично, а не случайно? На какие группы населения оно может быть распространено, какой среде (социальной, территориальной и пр.) были свойственны такие взгляды? В рамках истории XVII века на эти вопросы можно ответить в значительной степени лишь гипотетически ввиду общей скудости источников. И вот здесь я рискну заметить, что аналогичные материалы много более позднего времени (дела по антисоветским проявлениям второй половины XX века) ставят те же проблемы репрезентативности. Но просмотр большого их количества убеждает в том, что общий круг представлений, в данном случае об обществе, власти и их взаимоотношениях, был достаточно устойчив — если не для всей общности советский народ, то для крупнейших его групп, выделяемых по социальным и образовательным параметрам. То есть — типичные взгляды интеллигенции, типичные взгляды остального народа. Кстати, при умилительном преобладании непригожих речей, произнесенных пьянским обычаем. Прочти я работу П.В.Лукина до сидения в архиве среди гор дел антисоветчиков, я бы тоже сомневалась, — стоит ли на основании отрывочных фраз судить о народных представлениях… Поскольку читала не до, а после— ловила себя на мысли, что, тщательно оговаривая границы применимости источников, автор почти что перестраховывается. Из области научной маниловщины: вот бы еще несколько таких работ о последующих трех веках, и можно было бы проследить всю эволюцию, трансформации и замены мифов, пережевывание массовым сознанием привходящих событий, от церковного раскола в ответ на никоновские нововведения до скачущей кардиограммы рейтинга президента Ельцина. |