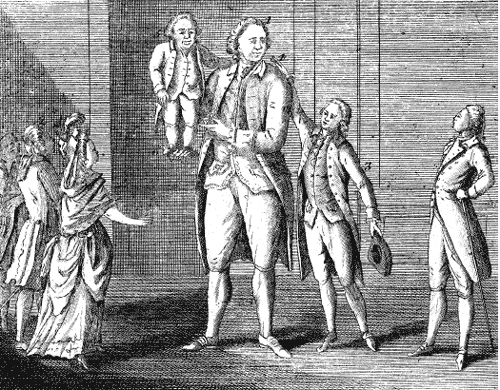Беседа Владимира Каганского с Теодором Шаниным
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2002
| Владимир Каганский. Мы как-то обменивались репликами о необычности России. И ты высказал мнение, что таких необычных стран много — Бразилия, Турция и так далее. Так возник сюжет этой беседы — «обычная необычная страна». Теодор Шанин. О России можно говорить бесконечно. В. К. Обдумывая нашу беседу, я усмотрел немалое сходство между нами. Мы занимаемся Россией, — в сущности, связью людей и земли. И ты, и я ведем полевые исследования, оба ориентированы междисциплинарно, что неизбежно, поскольку Россия — вся междисциплинарна. Есть люди, которые для нас профессионально значимы: Чаянов, Фортунатов, возможно, Книпович и Рыбников. Этот список показывает, что в начале века в России была очень приличная и тоже комплексная аграрная наука, из которой потом в качестве побочной линии вышла экономическая география, как вышло и крестьяноведение. Сильный был куст — если из него столько разрослось. Мы тоже дополняем друг друга. Во-первых, — по возрасту, смежные поколения. Во-вторых, я географ, хотя и не только, а ты историк, хотя и не только. Я склонен к концептуальным вещам, а ты более к эмпирическим. Поэтому мне показалось, что наш разговор о России может быть интересен. Я хочу заявить первый тезис. Сейчас, а впрочем, по-моему, всегда смешивают страну Россию и территорию государства Российского, и здесь царит каша и неопределенность. Нет нужды говорить, что в Российскую Федерацию входит Восточная Пруссия и Южные Курилы, которые Россией не были. Да и вся Россия как бы отождествилась со своей государственной территорий. Дальше уже идут темы «империи», «колонии» и «метрополии». Можно сказать и по-другому: Россия — империя, но в этой империи нет отчетливой метрополии. Т. Ш. Это связано, во-первых, с тем, что принцип государственности в России был очень важен. В этих условиях понятие «государство» съедало все другие понятия для определения людей как сообществ, территорий и так далее. Если такое представление о государстве, то государства самого нет. Есть люди в лампасах, которые ходят «туды и сюды». Есть государство, и есть страна. А остальное… В восточных империях люди не принадлежат себе, но его величеству такому или его величеству сякому. Мы все холопы Его Императорского Величества. То есть это другой способ сказать про государственность; единственное, в глазах многих, определение и общества, и территории, и всего остального. В. К. Вот как тебе представляется: за последние бурные 10–15 лет ситуация начала меняться? Т. Ш. Нет. То есть формулировка «начала меняться» — неправильная. ЭтО вопрос, на который просто ответить нельзя: вот сейчас такое положение дел, а вот так было в прошлом. Процесс перемен очень медленный — то, что начало меняться теперь, увидим через сто лет. А так, когда читаешь Салтыкова-Щедрина, то чувствуешь, что он пишет про сегодняшнюю российскую государственность. И возможен вариант, когда скажут то же самое о нашем времени через столетие. В. К. Я должен согласиться, что этого различения государства и страны даже в кругу тех, кто считает себя элитарными интеллектуалами или, может быть, ими является, не произошло. Известный географ Борис Родоман даже написал примечательную статью о фобии территориальной целостности. Получается, что если Россия такова, то никогда не произойдет растождествления страны и государства? И что должно произойти? Т. Ш. Ну, я тебе отвечу предложением, которое я когда-то бросил в скандальной манере: иное всегда дано. Помнишь, была такая дурацкая по названию книжка «Иного не дано». В. К. Название отрицало историю. Т. Ш. Совершенно. И поэтому я ответил: иное всегда дано. Я обосновал эту позицию. Со временем подтвердилось, что я прав. Лучше бы я не был настолько прав… По телевидению я вижу: выступает воинский отряд, шагает в Чечню. Впереди идет православный священник и машет кадилом. Это в стране, в которой треть населения — нерусское, неправославное. На экране видно, что в этом отряде шагают всякие монголы (европейцам очень сильно бросается в глаза монголоидность облика примерно трети населения РФ, кем бы оно себя не считало. — Примечание В.К.). И никто не замечает невероятной комбинации глупости. Как будто все нормально. Нет, не нормально. Символика очень хорошо отражает, что происходит в мозгах, включая кашу в мозгах. В данном случае такая ситуация подтверждает, что существует непонимание того, что империя кончилась. В условиях царской России все было ясно, потому что русские была ведущая нация, и все другие нации были добавками к ней. Носейчас при реальном положении дел, когда в Конституции зафиксирован многонациональный характер государства, картинка, представляющая попа с кадилом перед обмундированными в российскую униформу солдатами разных национальностей, политически опасна для этой страны. Если кому-то нужен общественный раскол, то это неплохой способ его добиться. В. К. Как ни странно — нам предоставляют выбор между двумя безумными вариантами: империя или национальное государство. Тогда как ни то, ни другое невозможно. А теперь, Теодор, я хочу тебе задать вопрос как путешественник путешественнику. Будучи активным путешественником c 70-х годов, я интуитивно или экспертно могу сказать, где пространство представляет собой Россию в большей степени, где в меньшей, а где, оставаясь в границах нашего государства, я ощущаю себя вне России. Но чтобы не навязывать своего мнения, я вначале попрошу твое мнение. Ты же ездишь по Российской Федерации — где тебе кажется, что это не Россия, независимо от мотивов? Т. Ш. Я должен сказать, что в этом смысле Россия более едина, чем, казалось бы, должна быть. Это ведь огромная страна. Эта странность российской культуры, ее цепкость меня всегда удивляла. Одно из объективных доказательств тому: в конце XIX столетия произошла кодификация обычного права крестьян. И оказалось, что оно одинаковое, в главном, от Камчатки до Смоленска;80–85 процентов населения России жило по обычному праву. Всюду, вдоль всей этой невероятной длины, земля переходила и наследовалась по определенным и одинаковым правилам — по обычаю (не по государственному закону). Все сыновья имели равные права на землю и лошадей. Но если сын ушел вести свое хозяйство, то он отрезанный ломоть, а зять, который работает в хозяйстве, имеет полные права сына. А ведь это вещи не само собой разумеющиеся, потому что в других традициях — всё совсем иначе. Понимаешь, дело в том, что все судебные дела или почти что все, кроме убийств и так далее, попадали в местный суд, а он должен судить по справедливости. По справедливости — значит, по местным обычаям. Соответственно, каждое место должно было бы иметь свои собственные порядки. А получилось, что все было едино, о чем даже не было представления наверху. Но вот начали из этих судов посылать апелляции в правительственный сенат. Чем должен был руководствоваться сенат? Тем же правом, по которому и вынесли решение. А право это не было известно. Тогда разослали большое число молодых правоведов в села, чтоб они записывали обычаи, фиксировали обычное право. Я хотел в свое время разобраться, что же происходит с наследованием земли от поколения к поколению. И никак нельзя было разобраться, потому что это было нелогично, непонятно — до той минуты, пока я не открыл для себя, что происходила наследственная передача не по тем законам, что записаны в имперском праве. И большая часть судебных решений идет в соответствии с тем, что называется обычным правом. То есть это обычно. А то, что империя делает — необычно, так? В. К. Но получается, что сейчас уровень «имперскости» вырос, обычное право искоренено. Т. Ш. Конечно. Обычное право у нас искореняется, его искоренял «общий любимец» Столыпин. До него начали искоренять, искореняли всеми силами и позже, но не удалось искоренить даже большевикам до коллективизации. Земельный кодекс 1924-го просто повторил обычное право. Нормальный советский суд должен был действовать по обычаям, которые стали законом. Конечно, исчез суд старейшин, и дали права женщинам. До этого права были четко разделены между мужчинами и женщинами. Было женское право мужское право. По обычному праву нельзя было завещать землю или лошадей дочери. Они переходили от отца к сыну, по мужской линии. Мать могла завещать одной дочери или разделить между разными дочерьми домашнюю утварь. Так что были два разных имущества по обычаю. В. К. А как далеко зона этого единого права тянулась на юг? Казачье обычное право было таким же? И для тебя единство обычного права — это показатель того, что на всем этом протяжении — от Камчатки до Смоленска — Россия? Т. Ш. Это показатель того, что почти вся Россия была русская в смысле фундаментального понимания справедливости. Теперь, когда я езжу, я чувствую большую разницу между Москвой как метрополией и провинцией, эта разница больше, чем разница между провинциями. Для меня далекий Север и сравнительно далекий Юг — Кубань, Дальний Восток, Камчатка и далекий Запад — очень русские. Начинаю я чувствовать инакость, когда попадаю в районы Кавказа. Там чувствуется разница, но удивительно малая разница. Должна быть больше. География разная. Циклы года разные, сельское хозяйство разное. Обычаи должны быть разными, но это не так. Ареал русской культуры сильнее географии. В. К. Сельское хозяйство уж совсем разное (я его изучал у А. Н. Ракитникова, сына известного тебе эсера и товарища министра земледелия во Временном правительстве). Но я ничего не знаю о проблеме права, и мое представление о российскости немножко другое. В советское время я был в Эстонии — там все другое, как и в Чечне. Кроме различия Москвы и периферии, я вижу значительные отличия — как заграницы — северной России, Поморья, Пскова, Новгорода, Урала и Сибири от остальной России. Различия северо-востока и юго-запада России ощущаются мной как очень сильные. Говор, планировка деревень, отношение к чужому человеку (а это сильный индикатор) и многое другое. И в Сибири, мне кажется, начинается почти национальное самоопределение. Россия до революции, может, и была большой и единой страной, но сейчас, когда бываешь в Сибири и на Дальнем Востоке, уже не ощущаешь себя так, как в Костроме, Вологде или Воронеже.
Т. Ш. Да, разные чувства. Я иностранец, и смотрю на расстоянии. Я работал по всему миру, я могу сравнивать с Бразилией, Скандинавией и другими странами. Но интересно, когда меня спрашивают о различиях между Севером и Югом, я повторяю, что есть такая косая вертикаль, которая бежит с северо-запада на юго-восток. Это я обнаружил, когда много лет тому назад пробовал определить внутреннюю разницу сельскохозяйственных районов России. Чем дальше движешься на юго-восток, тем крупнее село и так далее, и тем богаче, между прочим, район. Но разница количественная для меня значительнее, чем качественная. В. К. А мне кажется, она ощущается как качественная. И более того, скажем, Игорь Яковенко считает, что в культурном ландшафте должны были сохраниться характеристики новгородских земель. Учитывая, что Сибирь в значительной степени осваивалась новгородцами, то вся северная половина России несет на себе признаки Новгородской империи — ведь мы считаем Венецию в каком-то смысле торговой империей. Только Новгород — сухопутная Венеция, хотя новгородцы тоже много плавали. Т. Ш. Совершенно точно. Конечно, и к тому же там были куда более свободные от крепостного права районы. Также интересно поведение сибиряков в гражданской войне. Разница довольно ясная. То есть они разбили Колчака и потом пытались разбить Красную армию, но не получилось. В. К. Мои приятели-туристы и я сам засекли линию, севернее которой могут сказать: «Это там у вас, в России». Жители большей части Архангельской области, Карелии, почти всей Коми подразумевают под этим следующее: «там у вас в России» нет духа настоящей взаимопомощи, больше пьянства. Вот есть такая граница. То единство, о котором мы говорим, — вопреки географии. Я знаю: ты против утверждения о том, что Россия представляет собой нечто уникальное. Т. Ш. Есть два разных уровня понимания уникальности. Один уровень — сугубо политический. Слова об уникальности России связываются напрямую с крайними формами национализма. Когда кто-то говорит об уникальности какой-либо страны, я настораживаюсь. Евреи говорят, что они уникальны; поляки говорят, что они уникальны — так сказать, форпост культуры против российского хамства, варварства и так далее. Во-первых, это неправда, во-вторых, это идеологизированная неправда. Это не просто неправда — это инструмент политического действия. Если к этому относиться с позиции ученого, то все уникально и неуникально одновременно. В этом смысле, говоря о России, надо видеть, в чем она уникальна и в чем неуникальна. В. К. Можем ли мы тогда разные страны выстроить по степени уникальности? Поделить их на более уникальные, еще более уникальные. Я-то лично полагаю, что уникальность России сильно преувеличена и что в основном она связана с размерами. Но если нечто связано только с размером, то это экстенсивно. Т. Ш. А когда уникальность живет в политическом дискурсе, особенно журналистов, то она становится чаще всего орудием взглядов, которые чаще всего называют расизмом, но это не расизм. Я этот вопрос решал тем, что я смотрел на Россию как на часть человеческой расы, как на категорию общества и специфический путь развития. Это «развивающаяся» страна, т. е. такая в фундаментальном смысле страна, что она не может повторить путь первых развитых стран, потому что их успех закрыл эту дорогу для России и для всех других стран. Специфика в том, что эта страна особо сильной государственности и страна особо высоких уровней образования. Предпринимались попытки преодоления неразвитости страны. У Ленина и Столыпина — разные подходы к одной и той же проблеме. Оба попадают в одну партию, они схожи в своем усилии и своем непонимании того, что они делают, потому что в то время не хватало интеллектуальных средств, чтобы понять страну. Но идея глобализма доказывает, что никуда мы не сдвинулись. Это лишь повтор концепции прогресса. В. К. Я бы хотел сейчас обратиться к тебе как к эксперту или аналитику. Вот если брать синдром уникальности и желание уникальности как синдром, где и когда уникальность переживается острее? Если мы это поймем, тогда будем считать это просто некой болезнью, которую можно диагностировать. Т. Ш. Я думаю, что вопрос об уникальности возникает, когда есть определенный имперский имидж. Так, ты видишь себя одним из вождей мира, а потом обнаруживаешь себя в третьем мире, что переживаешь остро. Поэтому не случайно Китай отреагировал так резко на то, что его начали загонять в третий мир — ведь это империя поднебесная. Реакция — революция, гражданская война, отчаянная борьба, маоизм и так далее. В. К. А как быть с уникальностью той же Польши, о которой мы говорили? К моменту нарастания ощущения уникальности в XIX веке Польша перестала носить имперские черты, хотя она их когда-то имела. Т. Ш. Я, правда, не знаю, как ответить на это. Я сравнительно хорошо знаю польскую культуру. Мой первый язык был польский. На мой взгляд, у поляков никогда не было имперского чувства. Почему — мне теперь не совсем понятно. У них было христианское мессианство, чего там только не было. Но чувство империи отсутствовало, быть может, из-за особого характера. Речь Посполитая была республикой с избираемым королем. В. К. А Рим тоже был номинально республикой. А что уж там было, так это богатое имперское чувство. Т. Ш. Но про Польшу знаю, в поляках я никогда не чувствовал ничего имперского… Конечно, они самые лучшие, самые культурные. Особенно, если сравнить с русскими хамами. Так? Но сознания «мы — империя, мы имеем право владеть миром» — такого не было. Никогда не ощущалось ни в разговоре, ни в мышлении. Я знаю неплохо польскую литературу, это не проявлялось никогда. В. К. Вообще эта тема, мне кажется, заслуживает особого внимания. К моему большому удивлению, на Украине есть маргинальное политическое течение, доказывающее, что именно Украина на самом деле является наследницей Византии. И именно у Украины сейчас появляется имперский шанс — в случае распада России. Какая-то группа политических маргиналов считает, что в тот момент, когда Россия посыплется, Украина или Польша приберут эти земли и образуют империи. Т. Ш. Я думаю, что они транслируют на Украину или на Украину с Польшей русское имперское мышление. Даже лозунг «Польша от моря до моря» не имеет имперского содержания. Мое единственное объяснение тому, что не сложилось имперского самосознания, — это сила исторического республиканизма Речи Посполитой. И неважно, что республика существовала только для десяти процентов шляхты. Десять процентов — это достаточно много. В. К. Теодор, вернемся к Российской империи, которая, как ты говоришь, представляет собой империю без метрополии. Большинство населения сейчас делит страну на Москву и Россию, как это ни странно. Я, как географ, также делю Россию на две части: на Москву и все остальное. Опять возникает новгородская ситуация. Москва в данном случае фигурирует не как город, а как резиденция центральной власти — в советское время ведь вся номенклатура выше определенного уровня имела московскую прописку. Да, я только не знаю, выше какого уровня. Но речь идет о миллионах. Это уже аналог римского гражданства. Вот она, классическая империя города-государства. Однажды на автобусной остановке мне все объяснил пьяный мясник, приезжий: «Вы не поняли, что вы отдельно от страны? Я вот котлеты нарубаю. Но сердце я же рукой вынимаю, отдельно оно…» Есть основания согласиться с такой точкой зрения, но можно ли представить себе такое, что Россия — колония Москвы? И как тогда пойдет деколонизация? Ведь если есть империя — деколонизация неизбежна. Ты сам уверял, что империи не вечны. Т. Ш. Понимаешь, в том, что ты сказал, заложен какой-то нереалистический оптимизм. Вместо одной империи может быть и другая. Ты исходишь из того, что империя не вечна: придет день, и империя рухнет. Звучит как пророчество. Так? А правда в том, на мой взгляд, что день придет и вместо одной империи просто может организоваться новая империя. В. К. То есть вместо Советского Союза образовалась Россия. И этот процесс перехода от одной империи к другой может идти долго… Т. Ш. Да, это, возможно, путь — от империи к империи, а не от империи к справедливости. |
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» О . . . | ||||||
| Анекдоты из путешествия Рязанова | ||||||
|
| ||||||
| ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||