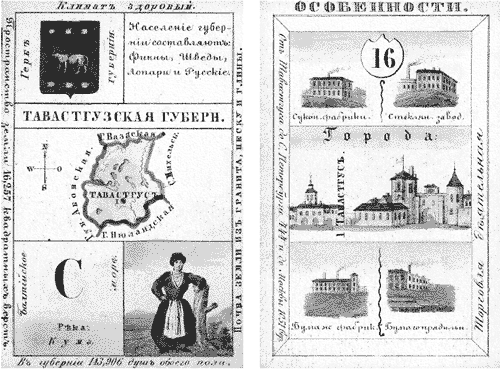Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2002
| В июле 1812 года, осмысляя начавшееся вторжение Наполеона в Россию, Гете в стихотворении, адресованном французской императрице, а на деле — ее великому мужу, написал следующие строки: Все ничтожное рассеялось, лишь море и земля имеют здесь значение[1]. Карл Шмитт, считавший эти строки эпиграфом к своему замечательному позднему опыту продумывания отношения земли и моря, удивительным образом так и не попытался обдумать — почему эти строки Гете написал именно по поводу битвы Франции и России? Россия для Шмитта была такой же сухопутной державой, как и Франция, и потому для объяснения строк Гете он вводил окольными путями Англию, очевидно представлявшую сторону моря в конфликте с Наполеоном. Вероятно, возможна и такая интерпретация (тем более что дальше Гете воспевает Закон, который дает твердой земле Император). Однако мне кажется, что Гете ощущал ситуацию куда глубже и его строки толкуют именно столкновение Франции и России, как суши и моря. Но если Франция— сторона Земли, то неужели Россия тогда — сторона Моря? На первый взгляд— абсурд, интерпретация Шмитта куда правдоподобней. Нижеследующие заметки — попытка хотя бы отчасти разгадать великую загадку пространственных интуиций о природе России, оставленную нам «уравнением Гете». 1. Геополитика
У высказывания о России есть некоторое скрытое, но весьма существенное измерение, незаметное тому, кто исходит из абсолютного тождества своих речей о России и самого этого «объекта». Между словами и их объектом находится срединное пространство, назовем его «топологическим воображаемым», в котором размещает свое тело высказывающийся. Некоторые, иначе говоря, представления о нормальном состоянии вещей, их естественном положении и однородности законов мира в любой точке, куда потенциально может попасть высказывающийся индивид. Применительно к объекту «Россия» это выглядит так: в Москве, Чугуеве, Находке и Владивостоке — одни и те же способы организации социального пространства, одни и те же принципы поведения, ценности и стереотипы. Без постулирования такой однородности говорить об объекте «Россия» просто не имеет смысла. Различия вторичны по отношению к некоторой суверенной себе тождественности. Точно таким же образом выглядит и оперирование словом «Европа» или «Запад». Далее можно затеять спор: одна ли ментальность в этих двух пространствах или совершенно различная, но идея «пространственной предвместимости» объектов Россия и Запад — нечто само собой разумеющееся. Пространственная соположенность «двух миров», размещение их на земле как территориальных образований, граничащих друг с другом — сомнению, как правило, не подвергается. Именно эта интуиция лежит в основе геополитического мышления, поиска политических оснований размещения русского мира на земле. Собственные ли это основания или общечеловеческие — уже не важно. Самое главное уже свершилось до того, как высказывание о «геополитическом образовании Россия» сформулировано: высказывающийся разместил себя в некотором пространстве, и все дальнейшее — лишь работа его воображения с этими первичными интуициями. Мое дело философа — ставить под сомнение первые причины и начала самого акта мышления, разрушать наивную веру сознания в тождество мышления и бытия. «Геополитика» как орудие мыслить русский мир мне представляется ловушкой для такой наивной веры, верховным императивом всех тех, кто не видит разницы между своими абстракциями и многообразием конкретного опыта в рассуждениях о русском мире. Поэтому начну с размышлений о способах конструирования самого концепта «геополитика». Обычно геополитику определяют как стратегию расширения и контроля территорий на основе жизненных интересов наций. Мне представляется, что такое ее понимание — весьма наивно и целиком основано на непроясненных представлениях о географии. В основе геополитического воображаемого лежит география, символом которой выступает всем нам привычная масштабная карта — карта азимутальной проекции. А ведь эта карта предполагает весьма мощные абстракции, и прежде всего — идею однородной, механической, универсальной сопряженности всех возможных точек наблюдения. Любое изменение в этом пространстве может происходить только с заранее определенным телом по заранее известным законам и траекториям. На этой основе создается представление о расчлененных географическими границами пространствах, вмещающих в себя компактные и однородные массы людей — народы — каждый со своими собственными заданными нормами поведения — «характерами». Так рождается идентификация государства и этноса через картографическое разграничение территорий. Только на этой основе может образоваться геополитика — идеология борьбы этнически обособленных государств, относящих себя к тому или иному месту на карте. Но кроме «гео», в геополитике сокрыто и другое слово, еще более самоочевидное — «политика». Слово «политика» ведет свое происхождение от слова «полис», город. Город — не просто скопление домов. Как таковой он — не основа политики, а простой населенный пункт, который еще только надлежит вписать в некоторую культурную систему. Городом он становится, когда обретает защитные стены и внутреннее самоуправление, противостоящее тем или иным образом натиску внешней стихии. Можно сказать, что город — это внутри себя размеренная остановка, препятствие на пути распространения скорости движущихся потоков людей, товаров, животных. Обычно город складывался в каком-то стратегическом месте, в ландшафтно обусловленном узловом пункте скопления движущихся людей и товаров — в устье реки, месте перетаскивания лодок из одной реки в другую, остановки караванов, контроля за узким проливом и т. п. Контроль над движущимися потоками людей и товаров — главная функция, которая превращает населенный пункт в город, дает ему устойчивость и перспективу развития. Иными словами, город — точка господства над скоростью осуществляемых через данную местность перемещений. Контроль этих перемещений, контроль над скоростью — и есть суть города, суть политики. Политика — контроль над скоростью.[2] Карл Шмитт в этой связи противопоставляет земельную цивилизацию иморскую, как дом и корабль. Мол, дом — это основа недвижимая, а корабль— движущаяся, отсюда — различие двух типов жизненно-цивилизационной стратегии. Однако Город — отнюдь не дом, и его недвижимость — характеристика функциональная. Город недвижим как цитадель контроля над скоростью, и в этом смысле он ближе к кораблю, чем к дому. Караваны, кочевники, бандиты, стада животных и стаи птиц — все это образует подвижное, нестабильное целое, омывающее своими потоками город и дающее ему жизнь и энергию. Город, вероятно, можно представить как авианосец, увенчивающий эскадру кораблей охранения и являющийся для них центральной цитаделью. Подобно этому и город на суше окружен более мелкими населенными пунктами, составляющими его жизненно необходимый эскорт, а также войсковыми выдвижными заставами, дальними оборонными сооружениями и т. п. Город организует вокруг себя пространство, ранее не имевшее никакого собственного значения, он расчерчивает это пространство: прокладываются дороги, вырубаются леса, растительность, и земли приобретают значимость чьей-то собственности, вода приобретает значение контролируемого ресурса — и все это увенчивается возникающей границей, отделяющей территории, подвластные городу, от «ноумэнслэнд» — т.е. земель, скорость потоков на которых город контролировать не в состоянии… Контроль этих границ вызывает к жизни концепт суверенитета и«межгосударственные отношения» — т. е. отношения с другими городами и государственные союзы. Безусловно, два кочевых рода не менее ясно представляют себе границы своих охотничьих или пастбищных угодий, но практика их контроля носит принципиально иной характер, здесь нет никакого особого пункта остановки на пути потоков с целью контроля за скоростью, племена кочуют вслед за мигрирующими животными или по мере исчезновения растительности, уничтожаемой выпасаемым скотом. Земля и земельная репрезентация приобретают в городской культуре особое значение, и городские культуры — это прежде всего и по преимуществу — культуры земледельческие, культуры растениеводов[3]. Но существуют примеры и морских городских культур, расчерчивающих море с такой же непреложностью, с какой расчерчивают растениеводы землю. Контроль над рыбными местами, удобными бухтами, стратегическими проливами и местами скопления пурпурных водорослей — такая же часть городской стратегии, как контроль над караванами, рынками и источниками воды. С этой точки зрения противопоставление морского и земельного — весьма условное. Безусловно, существуют цивилизации пиратов, живущих разбоем на морских путях и нападением на прибрежные города, но все они достаточно быстро вынуждены устраивать свои собственные города-базы с соответствующим самоуправлением, устанавливать систему раздела контролируемых участков берега и вод, сбора дани с покоренных пространств и т. п. Так или иначе, но контроль скорости через остановку на пути потоков — суть любой городской цивилизации, и восточный город как место пребывания деспота со свитой или военного поселения-заставы и город западный как самоуправляемое собрание ремесленников или место проживания этноса — в этом различаются не много. Но кочевое временное поселение отличается от них обоих принципиально. Легко разбираемые дома, имущество, которое целиком умещается на повозке, готовность в любой момент переместиться на значительные расстояния вместе со всем скарбом, отсутствие привязанности к земле[4] — все это создает основы для «политики» совсем другого типа, с полисом никак не связанной. Не обездвиживание скорости — основа контроля жизненных потоков в этом мире, но скорость движения, большая, чем скорость движения этих потоков (будь то стада животных или караваны людей). Сама территория измеряется скоростью передвижения по ней, есть функция от этого передвижения, гладкая поверхность, по которой скользит кочевое племя. Не города и дороги, а места остановки дают организацию земле, по которой движется кочевой народ. Ритм этих остановок тождествен ритму жизни, и его регуляция — и есть «политика» (иерархия господства) в этом мире. На деле кочевники никуда и не движутся — это растет их творящий ландшафт, степь или пустыня. Все такого рода цивилизации — без различия того, плавают они на кораблях или движутся в кибитках — будут цивилизациями «морского» типа, цивилизациями контроля скорости через движение, а не через обездвиженность. Между хуннами или монголами азиатских степей и викингами или карибскими пиратами различий здесь куда меньше, чем между всеми ними и египетской, греческой или венецианской городской культурой. Кочевые цивилизации предлагают другой тип мироустроения, и этот тип имеет другие принципы политического регулирования. Если городские цивилизации, контролирующие скорость через точки перманентного обездвиживания, расчерчивают мир бороздами как устойчивое, внутри себя тождественное целое, то кочевые цивилизации противопоставляют расчерченному миру мир гладкой поверхности, мир безостановочного скольжения, ритмизуемого остановками, после которых земля быстро стирает все следы прошедших. Миру контроля над скоростью через обездвиживание противопоставляется мир контроля над скоростью через сверхскорость. В степи и на море господствует тот, кто движется быстрее, кто более неутомим и внезапен. Летописцы, сопровождающие в степь или на море орды, посланные городом для наведения бороздчатого порядка, с презрением описывают этих трусливых бродяг, появляющихся ниоткуда, подло ударяющих в спину — и исчезающих в никуда. Городская цивилизация просто живет в мире других принципов[5]… Мне представляется, что о геополитике имеет смысл говорить только применительно к городским цивилизациям, к цивилизациям расчерчивания пространств с целью разделения суверенитета с другими городскими цивилизациями. Геополитика — отношение полисов по поводу расчерчивания пространства. Как таковое, пространство всегда будет землей, вне зависимости от того, море это или суша. Отношение же кочевых племен между собой, отношения по поводу ритмизации остановок в мире скольжения по гладким поверхностям — никоим образом геополитикой не являются. Никакого «гео», в смысле городских цивилизаций, для кочевников не существует, существует только «море» — бескрайняя поверхность, не поддающаяся однозначной разметке и обездвиживанию. Контролируется не «гео», не разметка пространства бороздами, а ритм перемещения, суверенность длительности от одной остановки до другой, и в этом смысле — время. Но время не как абстрактная расчисленная последовательность, определяемая по часам, а время как конкретная длительность, длительность, измеряемая дыханием, усталостью коня, запасом воды, воплем жен и движением светил, — время в бергсоновском его смысле. С этой оговоркой можно сказать, что контролируется не «гео», а «хроно», и кочевники устанавливают отношения между собой в рамках хронополитики[6]. Если геополитика связана с физикой твердых тел, с вечными ценностями, константами и «идентичностью» и теоремами, то хронополитика — с гидравликой, потоками, густотами и проблематами. В хронополитическом мышлении действует не дедуктивное выведение видов из рода, а движение от проблемы к«случаям» («а вот еще был случай»…), которые эту проблему обуславливают и разрешают. Не функциональная зависимость, а привязанность, «избирательное сродство» связывает одну фигуру мысли с другой. В мире геополитики господствует вертикаль, отложение перпендикуляра, гравитационное притяжение к центру. В хронополитике — горизонталь, марионетка, гравийный эксцентризм, «легкость», рассогласование, поле сил. Метрическому пространству геополитики противопоставляется векторно-топологическое пространство хронополитики. В геополитике власть прикладывается к организмам, в хронополитике — она взрастает из избирательного сродства тел, складываемого в вихре Вражды…[7] 2.Внутренняя Монголия
Можно ли сказать, что природа российского способа контроля территорий — геополитическая, что пространство контролируется посредством его расчерчивания и установления преград на пути скоростных потоков? На первый взгляд — да. Достаточно вспомнить хотя бы упоминаемую во всех учебниках борьбу Руси со Степью, трогательную историю русской миссии — защищать Европу от нашествия кочевников. Не говоря об ужасной истории завоевания Руси кочевниками-монголами, истории татаро-монгольского ига, замедлившего развитие страны, струдом сохранившей свою оседлую христианскую идентичность… Россия — крестьянская страна, страна земледельцев, и вопрос о ее геополитической природе как бы и неприлично поднимать, чтобы не выглядеть идиотом. Впрочем, существует и другая точка зрения на природу российской политии, сегодня широко известная и даже до некоторой степени популярная. Это — точка зрения евразийства. Напомню, что согласно этой точке зрения культура и государственная структура постмонгольской Руси — кочевая[8]. Т. е. до некоторой степени можно говорить о городской, геополитической природе домонгольской Руси. Хотя более детальные исследования и здесь указывают на сложный симбиоз наемных, по сути кочевых, дружин викингов с собственно городской структурой сословий, а в более широком плане — на весьма гибкую структуру сосуществования славянских племен со своими кочевыми степными соседями. Землепашеская оседлая природа самих славянских племен домонгольской Руси— во многом поздний миф, жили эти племена в основном собирательством, войной, торговлей, контролем пути из варяг в греки, и эта их основа помогала им легко находить общий язык со своими кочевыми соседями. Тенденция кгеополитическому способу контроля территорий, безусловно, имеется, но даже система наследования княжеской власти на Руси ближе к номадической дистрибуции, чем к земельно-репрезентативной древовидной структуре.
Приход монголов — вовсе не выглядевший нашествием-катастрофой, как его рисуют пристрастные летописатели, мерявшие Русь чуждой ей византийской культурной ситуацией — лишь кульминация долгого пути становления адекватного симбиозу кочевников, землепашцев и городских цивилизаций мирозиждения. Более того, еще Ключевский отмечал, что климатические и иные изменения к концу XI – началу XII века вызвали упадок цивилизации, именуемой «Киевская Русь». Приход монголов как бы вдохнул новую прану в угасающее мироустройство. Княжеско-военный элемент, торговое сословие города и земледельцы — все нашли свой интерес в приходе монголов, все имели с ними общий язык. Княжеский элемент отчасти привык к гибкой, нестабильной системе наследования уделов, отчасти даже получил третейского судью, у которого можно было искать справедливости в спорных случаях наследования. Торговое сословие, живущее дальними путешествиями, налоговыми льготами, вытеснением конкурентов в закупках — получило большие гарантии безопасности в далеких путешествиях, новые торговые пути и рынки, стабильные системы взимаемой пени на огромных пространствах, контролируемых новыми хозяевами степи. Земледельцы-собиратели получили стабильную систему взимаемых налогов, гарантии от произвола, идущего со многих, заранее неопределимых сторон, возможность поддерживать и далее свое участие в контроле за потоками, проходящими через жизненные территории. Военное кочевое сословие получило новые пространства для войны и обогащения за ее счет — причем в тени могучего союзника. Даже церковь — привыкшая жить в «поганом окружении» (степень христианизации славянских племен сильно преувеличена в расхожей учебной литературе) — только выиграла от монгольского господства, получив освобождение от налогов и защиту от наступления западных церковных конкурентов ( а ведь пример германской власти, инициировавшей откол от Византии прежде всего по политическим причинам, мог стать весьма заразительным для русских князей). Словом, монгольское завоевание угасающей, впадающей в маразм Киевской Руси было не только счастливым лотерейным билетом для распадающейся системы жизни и власти, но и единственным способом ее поддержания и развития. Такой взгляд, разумеется, и сегодня не общепринятый. А если есть противники — найдутся и аргументы против. Но необходимо подчеркнуть: принятие «евразийской» системы взглядов на русскую историю и оценку монгольского нашествия или ее отвержение — выбор, происходящий до начала знакомства с реальными историческими фактами, на уровне выбора мировоззренческой установки историка и всякого, историей интересующегося. И этот предварительный выбор будет интересовать нас куда больше самих исторических фактов. Однако немного продлим наш экскурс в русскую историю. То государство, которое выходит на арену исторический деятельности после распадения монгольской империи — так или иначе — продукт уже монгольского этапа. И потому действует оно в своей внутренней и внешней политике (если их можно различить) — средствами кочевой машины войны. Московская власть относится к подвластным территориям как к пространству для набегов и сбора дани. Институт наместников, стравливание разных территориальных образований, карательное отношение к мятежным самостийностям, рассеивающее опустошение подвластных земель — все это те утрированные черты Золотой Орды, которые составили суть постмонгольской российской государственности и с которых ретроспективно была списана «летописцами» и «историками» сама Золотая Орда (куда более гибкая в своей политике). Геополитический тип суверенности собирает себя через расчленение земель на строго определенные сегменты и последующую их административно-законодательную сборку в однородное целое, подвластное наблюдению и контролю из единой точки. Русский же — постмонгольский тип собирания целого основан на принципе прямо противоположном, который я обозначил бы как «гетерогенный монтаж конкретных длительностей». За этой ученой фразой скрываются вещи вполне понятные. Усвоение монгольских принципов политической сборки создало весьма своеобразные отношения «центра» и «периферии». «Центр», инстанция власти строит свои отношения с подвластными территориями на основе абсолютной чуждости, на основе постоянной угрозы набега и разорения. Подвластные земли могут частично страховать себя от внезапной смены милости на гнев лишь непрерывным потоком жертвенных даров — количество и качество которых отнюдь не находится в прямой связи с гарантиями безопасности и размером привилегий. Развивая и дополняя монгольскую политику ярлыков, Иван Грозный довел почти до совершенства эту политическую технологию «Внутренней Монголии». Институт опричнины, набеги на окрестные территории, полная непредсказуемость политических решений, отчужденность от аборигенов — все эти и тому подобные приемы стали с тех пор классическими в арсенале технологий власти. Петр Первый или Иосиф Джугашвили, с точки зрения приемов, какими они строили свою власть и проводили преобразования, лишь верные ученики гениального учителя. Смысл политической технологии «Внутренней Монголии» в том, чтобы превратить институт власти в нечто абсолютно внешнее пространству, над которым эта власть осуществляется, в своего рода Золотую Орду, кочевое, неподвластное никакой логике и расчислимости аборигенами «начало» (на деле — вовсе и не «начало», а в нечто, начало которого — нигде, а центр — везде, в постоянно готовую взорваться в любой точке под ногами аборигенов землю). Вместо расчерченной по законам ньютоновской физики территории, подчиняющейся заранее заданным законам и из самой себя испускающей импульсы власти, мы наблюдаем дикую, неподвластную никаким законам, непрерывно блуждающую и обнаруживающую себя в самых неожиданных местах кочевую линию власти. Зачем нам погружаться в глубины истории, достаточно присмотреться к способам осуществления власти в ельцинской и путинской России. Современная политика московской власти — хрестоматийный пример кочевой политической стратегии. Такой она была в советскую эпоху, еще более ясные формы приобрела она — как всегда в моменты напряженных изменений — в ельцинскую эпоху, такой вид она имеет и при Путине. Наместники, воюющие всеми средствами с местными туземными вождями, стравливание самих туземных вождей, опустошение подвластных земель, выбор карательной стратегии как главного средства умиротворения, разор как способ утверждения власти — всему этому читатель найдет десяток примеров, открыв любую свежую газету. Дело не в злонамеренности или там глупости конкретного местоблюстителя. Дело — в логике, посредством которой устраивается власть в московском царстве. Внезапное (и что характерно — задним числом, т. е. власть неподвластна даже линейному порядку времени) изменение законов в самых неожиданных областях; перемена целых кабинетов министров по внезапному наитию, с вознесением на самый верх неизвестных лиц; не менее внезапное образование и распадение политических союзов; внезапные исчезновения и появления в самых неожиданных местах верховного деспота; внезапные же военные кампании, столь же внезапно, впрочем, и обрывающиеся… И т. д. и т. п. Словно «внезапность», как видите, я вынужден употреблять непрерывно, ибо это единственное, что объединяет в целое столь удивительным образом складывающееся мироздание. Немыслимо собрать это пространство геополитически, расчерчиванием, разметкой и установлением универсальных законов. Каждое тело в этом пространстве живет через нетождественность самому себе. Изменение ради самого изменения, черпающее наслаждение во внезапности, беспричинности и экстатическом возрастании, в расцеплении всякой связи со смыслом — таков основной закон существования в этом «пространстве». Русский город, заново сложившийся в период монгольского господства[9], приобретает совершенно новый вид: вид военного поселения, ставки и караван-сарая одновременно. Симулятивный фасад отчасти европейского типа (стены, крепкие дома) скрывает совершенно кочевое по своему типу поселение, не отличимое по своей сути от монгольских ставок. Такой город находится в ином культурном пространстве по сравнению с пространством самоуправляемого западного города. Он— отнюдь не политическое пространство остановки на пути скоростных потоков с целью контроля через обездвиживание. Это — мобильный пункт отдыха на пути потоков скорости, источник самых скоростных импульсов и точка наивысшей интенсивности в перераспределении «номадических дистрибуций». Только на основе вышеизложенных разъяснений можно ввести важнейший для описания отношения русского мира к геополитике концепт «геополитический идиотизм». <…> [1] Das Kleinliche ist alles weggeronnen, Nur Meer und Erde haben hier Gewicht.Из стихотворения «Blumen auf den Weg Ihro Majestaet der Kaiserin von Frankreich am Tage der hoechst beglueckenden Ankunft zu Karlsbad alleruntertaenigst gestreut von der Karlsbader Burgerschaft den (2.) Juli 1812».
[2] Существуют прекрасные книги, написанные французским философом и социологом Полем Вирилио (Paul Virilio), которым я обязан постановкой темы скорости как главного предмета политики. Удивительным образом ни одна из них до сих пор не переведена на русский язык, и идеи Вирилио практически не известны российским интеллектуалам. Интересующихся отсылаю к французским изданиям его работ, из которых хочу выделить
[3] Противопоставление земледельцев, «крестьян» городской культуре мне представляется неправомерным. Земледельцы — лишь выдвижные органы, протезы городской культуры, и без нее не существуют.
[4] Разбор способов идентичности кочевых племен и родов увел бы меня далеко в сторону. Могу только заметить, что кочевники устраивают свою связь с «родной землей» через складку между малой и большой Родиной. Место рождения — малая Родина. Точное определение ее в категориях картографии, как правило, невозможно и неважно кочевнику. Мера ощущения малой Родины — дистанция удаления от нее, от территорий, по которым кочует издавна данный род. Дистанция эта — большая Родина, определяемая как количество переходов, отделяющих от малой Родины, на которые распространена возможность кочевья данного рода. Легко понять, что чувство Родины у кочевника — дифференциал приближения к воображаемой бесконечно малой точке рождения. Сама малая Родина существует только через переживание удаленности от нее, она не фиксируема «локализацией на местности». Масштабы большой Родины обеспечивают интенсивность чувства малой Родины. Такамериканцы ощущают свои ирландские корни. Надо думать, так и монголы Золотой Орды ощущали свою малую степную Родину. Ср. с описанием переживания малой Родины у российских «деревенщиков». Мне представляется, что именно этот дифференциал соответствует тому, что является когитальным уравнением сознания у оседло-городского новоевропейского человека. Однако аппарат этого дифференциального самоудостоверения — совершенно отличный от декартовского когито — предмет отдельного исследования.
[5] Замечательным философским введением в противоположность кочевого и оседлого является «Mille plateux» философа Ж. Делеза и психоаналитика Ф. Гваттари, прежде всего глава «Трактат о номадологии: машина войны». Странным образом эта книга — при том что почти весь остальной Делез уже переведен на русский — остается не переведена. Ряд концептов — в том числе концепты гладкого и бороздчатого — я позаимствовал из этой вдохновенной книги. Делез и Гваттари даже выделяют, между прочим, два разных типа науки: науку гомогенного расчерчивания по образцу Евклида и науку разрешения сингулярных проблемат по образцу Архимеда. Предоставляю читателю самому подумать — к Архимеду или Евклиду ближе парадигма русской науки
[6] Применение термина политика в составе слова хронополитика — уже уступка геополитическому мышлению. В случае Вирилио, вероятно, такое словоупотребление имеет смысл, поскольку ценности города для него — незыблемы, и переход к неконтролируемой скорости он воспринимает как трагедию и угрозу европейской цивилизации («скорость — это фашизм»), перед лицом которой город и должен выработать новые подходы к скорости в рамках хронополитики. Спор с Вирилио по существу его интерпретации смысла скорости оставим до другого раза. Но для русского мира в любом случае вместо слова хронополитика необходимо подыскать другое, более адекватное миру без города. Хронопребывание? Хроноопускание? Хрононачалие? Оставлю пока как есть, но призываю читателя применительно к русскому миру «политику» брать в кавычки или перечеркивать в составе концепта «хронополитика
[7] См. Deleuze G., Guattari F. Mille plateaux. P., ed. Minuit, 1980. Р. 446–464
[8] Разумеется, ни у первых евразийцев, ни у их современных последователей эта кочевая суть евразийской доктрины не проявлена в достаточной степени. Это связано с методологической беспомощностью и тех, и, особенно, других, перед феноменом русской земледельческо-городской цивилизации.
[9] Впрочем, «европейскость» и домонгольского города Руси сильно преувеличена, как показывают раскопки слоев, соответствующих монгольскому вторжению. Дома складывались из мобильных, легко разбираемых элементов, которые разбирались и прятались при угрозе набега — или имелись в достаточном запасе для восстановления. Русская изба была по своей логике ближе к кочевой юрте, чем к дому в его городском европейском образе. <…>
|