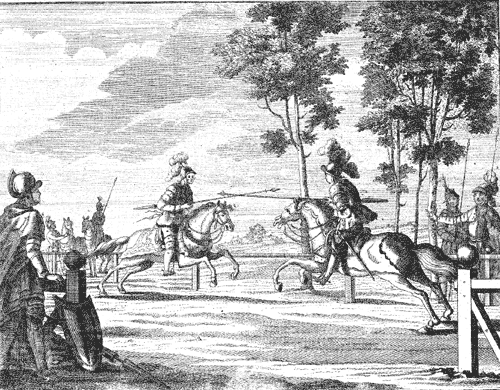Круглый стол
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2002
|
Участники: Александр Ахиезер (культуролог, философ), Виталий Найшуль (экономист), Борис Родоман (географ), Александр Солдатов (религиовед), Александр Филиппов (социолог), Теодор Шанин (историк), Игорь Яковенко (культуролог, политолог). Ведущий: Владимир Каганский (географ, методолог). Владимир КАГАНСКИЙ: Представление о пространстве существует в каждой культуре, при любом государственном устройстве. И в каждой культуре, и в любом государстве есть собственные пространственные практики. В пространстве существуют сферы чрезвычайно активных действий тех или иных групп населения. Вот неполный список подобных сфер действия: архитектура, военное дело, город, дачи, иконопись, карты, литература, политика. Мы не будем их обозначать: пространство-1, пространство-2, пространство-3, ландшафт и т. д. Речь идет о единстве пространства от физики до метафизики. Разумеется, нам понятно, что у каждой из групп, разными способами действующих в осваиваемом пространстве, может присутствовать или отсутствовать рефлексия по поводу этого пространства. Понять, каково для них пространство, можно главным образом по тому, как они себя в пространстве ведут. Скажем, как показывают себя в этом пространстве представители президентской администрации, большие корпорации, дачники или организованные преступные группировки. Я думаю, что рефлексии у них разного типа, а ведут они себя достаточно одинаково. Первый вопрос: мы сами, в силу нашей рефлексии, приписываем разнородным группам некую сущность — пространство? Или же эти группы действуют водном и том же пространстве, и оно существует? Как связано то представление о пространстве, которое существует в российской культуре и государственности, с этими пространственными практиками. Например, связана ли как-то очевидная сакрализация пространства в домосковской, московской, петербургской, советской, постсоветской России с тем, что большая часть пространства игнорируется в этом представлении и каким-то образом не осваивается? Или с тем, что значительная часть практик существует, но не рефлектируется, как это случилось, например, с дачным бумом? Борис РОДОМАН: Насколько я понимаю, разные субкультуры, группы людей представляют пространство по-разному. У каждого своя дискретизация. У чиновников, у правительства до такой степени сейчас дошла фетишизация 89 субъектов Федерации, что в СМИ, на телевидении не называют населенных пунктов, а называют именно регион, субъект Федерации. Это стало главным для них. Второй вид дискретизации. Линейно-сетевое пространство у большинства людей существует. Есть точки приложения интересов, и есть промежуточное, безразличное пространство, на которое они не обращают внимания. Разные группы населения имеют разное представление о пространстве, в основном, дискретные, сетевые. Мы, географы, претендуем на сплошное знание пространства не только в примитивном смысле, но претендуем на сплошное разномасштабное. Одномасштабное сплошное видение пространства есть у того, кто летит на самолете, у летчика, пилота. А спросишь пилота о чем-нибудь, он говорит, что этого он никогда не видел. Географы с помощью научных методов стараются представить Землю так, как если бы мы ее видели с высоты птичьего полета, из космоса, и так, как мы ее видим, находясь внутри городской среды, также передвигаясь по линиям. Мы претендуем на более полное представление о пространстве. Это, конечно, наше самомнение. Чего-то мы не видим тоже. В. КАГАНСКИЙ: Борис Борисович, Вы говорите, что в российской культуре нет единого представления о пространстве? Б. РОДОМАН: Нет носителя такого представления. Нет, а возможно, и не должно быть такого субъекта, у которого обязано быть представление о пространстве. Это — идеал научной конструкции. Игорь ЯКОВЕНКО: Для меня прозвучала философская проблема: есть ли вообще пространство или это способ упорядочивания наших ощущений. Если переходить к более конкретным вещам, то я услышал вопрос о пространстве как порождении некоторого типа сознания. Пространство мыслится бескрайним. В этом бескрайнем пространстве две опорные точки: центр-cтолица или центр региональный и граница. А кроме этого — чистый хаос, просто хлябь. Ее видно из окна железнодорожного вагона, из окна автомобиля; она не переживается как пространство, ибо обустроенное пространство всегда предполагает конец бескрайности и бесконечности, предполагает некоторую структурность и оформленность. В. КАГАНСКИЙ: Тогда получается, что обустраивание пространства абсолютно противоположно имперскому чувству. И. ЯКОВЕНКО: Я полагаю, что религия поклонения бесконечному пространству восходит к Монгольской империи, к кочевнику, для которого пространство мыслится маршрутно. Граница имперского пространства есть граница, которая демонстрирует сегодняшний баланс сил. В. КАГАНСКИЙ: У кочевников были границы? И. ЯКОВЕНКО: У империи кочевников была эмпирическая граница — предельно широкая. Китай — с одной стороны, а Адриатика — с другой. Александр АХИЕЗЕР: Кочевники несли ее на своих лошадях. И. ЯКОВЕНКО: Они несли ее с собой, как русский несет Святую Русь в своей котомке. Святая Русь границы не имеет по понятию. Есть эмпирическая граница, которую надо защищать от вторжения. Но в идеале мы отодвигаем ее дальше и дальше. В. КАГАНСКИЙ: То есть российское пространство — это синтез идеи империи и пространства кочевников? И. ЯКОВЕНКО: Да. Поэтому оно и заполнено хлябью, которая заняла все между столицей, районными центрами и внешней границей. А. АХИЕЗЕР: Вопрос можно сформулировать как проблему отношения сознания субъекта к его собственному пространству и к пространству вообще. Есть и имперское пространство, и российское пространство. Я всегда обращаюсь к некоторому историческому опыту. Было сказано, что есть имперское пространство как сакральное. Но есть и догосударственная сакральность — сакральность локального мира, который может насчитывать 15 человек. Люди во всех странах и народах жили представлением о том, что только их пространство есть пространство космоса, жизни, и только они — люди, а все остальное — это не люди (со всеми вытекающими последствиями для их собственной жизни). Мы тоже все еще живем этими представлениями в какой-то степени. С течением времени создавалась другая сакральность, которая вступала спредыдущей в очень сложные отношения. В Западной Европе за множество столетий в результате войн и попыток уравновесить эти два полюса сложилось относительно гармоничное отношение к пространству, которое включает в себя иерархию субкультур. В России между этими формами сакральности никогда диалога не было или он был вытеснен на периферию, время от времени приводя к кровопролитию. Это означает для нашей темы, что в России вообще нет единого отношения к пространству, а есть раскол. Смысл этого раскола в том, что две формы сакральности существуют в состоянии взаимоотрицания. Определяя отношение к пространству в России, можно сказать: это постоянная дезорганизация как самого пространства, взятого в его объективных характеристиках, так и некоторых культурных форм — дезорганизация, отраженная в сознании различных субъектов. Каждый субъект пытается максимально распространить свою субъективность, свое «я», власть на максимальную территорию и встречает на своем пути точно такую же попытку со стороны других субъектов. Это не обязательно превращается в кровопролитие, но противостояние присутствует всегда. В этих условиях никакого рационального отношения к пространству быть не может. Возникает вопрос: какая вообще форма освоения пространства возможна в этой стране? Все российские попытки на протяжении истории осваивать пространство приводили к неудовлетворительным результатам. Каждому уровню сложности любого общества, в том числе и российского, должен отвечать некоторый уровень освоения пространства. Этот уровень в России всегда отставал. Б. РОДОМАН: После слов Александра Ахиезера у меня возникла такая мысль: российский менталитет страдает отсутствием культуры компромисса, что вызвано нашим традиционным черно-белым мышлением. Нет компромисса между личностями, между человеком и окружающей средой, между настоящим и прошлым. Компромисс всегда считается поражением, проигрышем; он, как всякая уступка, — позор, уступка врагу.
Рыцарство Эта бескомпромиссность и ведет к дезорганизации пространства. Вместо того чтобы вписываться в историю, продолжать какую-то традицию на земле, ее игнорируют. Это — культура игнорирования. Я делаю что-то, а то, что было до меня, — это лишнее и ненужное. Каждый подходит к исторически сложившемуся пространству не так, чтобы его достраивать, доращивать, а чтобы его расчистить и все делать заново. Без конца можно завоевывать одну и ту же землю, одну и ту же землю благоустраивать. Россия производит впечатление страны, не имеющей собственных векторов развития. Она все время реагирует на какие-то форсмажорные обстоятельства, на какие-то толчки извне. Приходит в себя, потом ее опять сбивают с толку. Есть какая-то неудовлетворенность самими процессами изменения во времени. Мы не находим в нем желанной закономерности или эволюционизма. Мы все эволюционисты по своей идеологии. В. КАГАНСКИЙ: Интересно, что из уст географа мы услышали утверждение о том, что невозможно рассматривать российское пространство вне российской культуры. Это интересное утверждение. Но так ли это? Александр СОЛДАТОВ: С точки зрения официальной церковной ортодоксии, пространство должно не столько восприниматься как данность, сколько строиться как икона определенного идеального мироустройства, причем неземного происхождения. Чем, например, отличается икона от фотографии или от живописного полотна? Тем, что на иконе неадекватно представлен масштаб отображаемых явлений. Одни явления непропорционально акцентированы, а другие — вообще отсутствуют. Иконографический тип освоения пространства вел к тому, что пространство как целостность игнорировалось. Выделялись отдельные части — центры этого пространства. А все остальное, как здесь было хлестко сказано, — «хлябь». В реальной российской истории идеал устроения пространства как иконы остался абсолютно недостижимым. В целом, я думаю, наше пространство обречено оставаться неустроенным. Хотя отдельные сакральные точки — Красная площадь, Кремль, Эрмитаж, Петропавловская крепость — будут поддерживаться в идеальном состоянии именно потому, что это такие иконописные образы, на которые все смотрят, они отвлекают от того, что происходит вокруг. В. КАГАНСКИЙ: Я потрясен неожиданным совпадением. Именно так, только без употребления слова «икона», я описывал советское пространство. Оказывается, мне надо советское пространство оправдывать как некое литургическое пространство. Теодор ШАНИН: Я бы хотел сказать о двух вещах. Во-первых, если говорить о такой теме, как отношение к пространству русской культуры, то надо иметь в виду, каково отношение к тем же понятиям в других местах. До сих пор в нашей дискуссии о России говорилось так, будто она существует вне мира. Второе замечание. Я думаю, что то, о чем сказал Александр Ахиезер, проверяется историческим анализом. Очень многое мы несем в себе. В этом смысле Россия в большой мере является результатом странной комбинации Монгольского ханства и Византии. И чего было мало здесь до сих пор, так это Византии. Я думаю, что Россия в значительной степени развивается по пути византийской культуры. Идея царства, в котором царь — Бог, и Бог — царь, — это византийская идея. В этом смысле это особая комбинация, где сакральное — это государственное, а государственное — сакральное. Это не типично для Западной Европы, но типично для России, Византии. Вы говорите о том, что между центрами есть пустота, хлябь. Я думаю, что это существует в каждой европейской культуре. Это не особенность России. Для нормального лондонца есть только Лондон. Едешь по территории страны как через пустоту и приятно удивляешься красоте данной территории. Я думаю, что особенное в сфере идей связано с религиозным развитием страны. Чтобы понимать Россию, необходимо начинать с Византии. В. КАГАНСКИЙ: Достаточно новая позиция. До этого российское пространство выводилось из реализуемой идеи священной империи. А ты добавил сюда некоторый конкретный вариант, потому что не всякая священная империя — это Византийская империя. Верно ли я понял? Т. ШАНИН: Да, я бы добавил еще следующее: на решающем этапе развития России было как будто бы соревнование разных моделей формирования России: Великого княжества Литовского, Великого Новгорода и Москвы. Победила Москва. Эта победа принесла России особую форму организации государства и пространства. В. КАГАНСКИЙ: Линия выведения российского пространства из вещей, к пространству не имеющих отношения, — из сознания духовности и исторической преемственности, — продолжается и усиливается. Виталий НАЙШУЛЬ: Я хотел бы выразить свое согласие со словами Теодора Шанина. Сформировавшаяся модель имела имперские и не имперские реализации. Сейчас это советские и постсоветские реализации. Но все-таки это одна и та же модель, она укоренена и имеет сильные религиозные мотивации. Вслед за другими авторами я считаю государство, которое существует с московских времен, идеократическим. Идеократическое оно и в устройстве общества, и в политике, и в пространстве, и т. д. Теперь о другом — о том, как воспринимается российское пространство. Я непространствовед, я занимаюсь институциональной экономикой. Уже тридцать лет я принимаю участие в околовластных совещаниях. Российское пространство всегда мыслилось и мыслится как иерархически организованное. Это пространство вертикальных, а не горизонтальных отношений. Вертикальные отношения олицетворяют правильный порядок, горизонтальные — беспорядок, который приходится терпеть. И еще… Во власти, и в обществе, города мыслятся как случайные и неудобные образования, возникшие на полях, нивах и т. д. Что такое страна? — Это куст ракиты над рекой. В чем поэзия страны? — В ее природе: облака, поля и т. д. А что такое городской ландшафт? — Песню про это не споешь. Россия городов не занимает адекватного места в сознании. Возможно, это — пережиток аграрного общества. Что важнее: область или город? Полезно ли такое понятие, как «хозяйство области» в урбанизированной стране? Что должно быть — город в области или область при городе? А. АХИЕЗЕР: Меня когда-то, когда я стал изучать литературу по урбанизации, поразил глубокий антиурбанизм американской культуры. А когда я стал изучать культурологию, то для меня никакой проблемы не стало. Культура так устроена, что она тормозит всякий прорыв вперед, чтобы люди не превратили свою страну в хаос. Поэтому на всякий урбанизм, и российский, и американский, культура отвечает однозначно — антиурбанизмом. Другое дело, что Россия и Америка это делают по-разному. Россия разрушает урбанизацию своей культурой, а Америка умеет быть антиурбанистской и одновременно делать ставку на те виды деятельности, которые обеспечивают ее воспроизводство. В. КАГАНСКИЙ: Существует странная двойственность. С одной стороны, пространство сакрализовано. С другой — это чуть ли не самая большая сфера беспорядка и дезорганизации. С одной стороны, в центре находится государство, которое реализует себя, прежде всего, в пространстве, сливаясь с пространством и пропитывая собой пространство. С другой стороны, пространство находится глубоко на периферии. Для меня сфера пространства совершенно едина. И многие, кто задумывается над этим вопросом, такую точку зрения разделяют. Семантически определенное пространство составляет малую часть, остальное погружено в хаос. Пространство России является пространством Российской империи. Очень трудно вычленить особенности России, которые не связаны с особенностями Российской империи. Я пока не видел такого вычленения. Пространство империи — это не то, что может быть дано феноменологически. Империя навязывает себя как некоторый порядок. И. ЯКОВЕНКО: Вначале несколько раз прозвучало, что мы сегодня сталкиваемся с тем, что все в пространстве вырастает из ментальности, из культуры. В. КАГАНСКИЙ: Нет ничего в пространстве, чего не было бы в культуре? И. ЯКОВЕНКО: По этому поводу я и хотел бы высказаться. Культура не возникает из хаоса однажды. Она возникает в результате цивилизационного синтеза. Однажды на какой-то территории складывается некоторая устойчивая структура, которую можно назвать цивилизационным кодом, культурой. Этот цивилизационный код задается ландшафтно-климатическими характеристиками, характеристиками того народа, который жил на этой территории, и другими факторами. Этот код уже потом влияет на отношение к пространству. Александр ФИЛИППОВ: В беседе постоянно используется слово «Россия», а иногда говорится, что она может быть имперской или неимперской. Я не совсем понимаю, что под словом «Россия» подразумевается. Если под этим словом понимается само название государства в определенную эпоху его развития, то, я думаю, присутствующие здесь специалисты по российской истории подтвердят, что она далеко не всегда называлась Россией. И, следовательно, само название «Россия» к определенным этапам существования того, что здесь контекстуально определяется как Россия, отнесено быть не может. Если Советский Союз — это не Россия, тогда что было Россией на тот момент? Из русской истории выпало70лет? Я не могу сейчас вспомнить в точности всю хронологию, но Московское великое княжество стало называться Россией и стремительно разрастаться где-то около пятисот лет назад. И некоторые из тогда или чуть позже приобретенных территорий потом входили в состав Советского Союза, но не входят в современную Россию. Получается, что у кого-то есть некое представление о России и о том, что, опрокидывая свое представление о России на историю, мы получаем ту же самую Россию. По-моему, это спорно и требует обоснования. Мы говорим: как хорошо, Россия начала расширяться и расширилась. Потом мы говорим: как плохо, она начала сужаться и сузилась. Потом от нее откололся кусок. Интересная штука получается. От России то откалываются куски, то она опять расширяется. А она — все та же. Что же кочует: территориальное ядро или ядро культурной идентичности? И если последнее, то при чем здесь пространство? Совершенно очевидно (я здесь готов отчасти поддержать точку зрения Владимира Каганского), что часть пространства содержится в культуре. Но совершенно очевидно: чтобы этой части там содержаться, ей необходим какой-то материальный субстрат. Сейчас в западной социологии пространства и социальной географии очень распространена тройная схема, которая идет от двух авторов — французского философа и социолога Анри Лефевра и американского географа Эдварда Соуджея[1]. Схема довольно простая. Есть объективное пространство, оно конструируется как объективное, из физики, геометрии и т. д. Существует второе пространство — понимание пространства, пространство идей о пространстве. И существует третье пространство — это пространство практики, проживаемое пространство, где сливаются эмоции и действия воедино. Меня в меньшей степени интересует понимаемое пространство. И в большей степени интересует проживаемое пространство. Б. РОДОМАН: Влияние Монголии и Византии очень преувеличено. Важнее местное население. Население европейской России — это генетический наследник разных народов, которые говорили далеко не на русском языке. Там были и язычники. Но в силу обстоятельств они стали православными и стали говорить на русском языке. И без византийского и монгольского начала достаточно было кому-то наглому и сильному, который пренебрег моралью, установить этот деспотичный режим. А вокруг — вакуум. Нет в округе никаких империй — один вакуум. В Литовском княжестве не ставили никаких целей. Там просто жили по какому-то демократичному для своего времени праву. Не было никакой имперской идеи. Вдруг реально появилось государство, которое стало раздуваться за счет вакуума. У населения не было иммунитета против завоеваний. Более того, сама инфраструктура была такова, что люди просто не заметили, как их завоевали. В Западной Европе такое было невозможно, потому что любой деспотизм наталкивался на деспотизм соседа. Надо учитывать вакуум — среду, которая не сопротивлялась этой империи. Пространство позволило себя даже не завоевать, а занять. Были царства, которые соперничали с Москвой, которые надо было покорить (Казанское, Астраханское ханства и т. д.). Расширялась Москва, пока не столкнулась с границами других империй — Китайской и Османской. В. КАГАНСКИЙ: Я хочу подвести предварительный итог, после чего мы еще обменяемся мнениями. Во-первых, тема пространства сама по себе не удерживается. Хорошо это или плохо — я не знаю. Я не знаю, удерживалась бы эта тема в другой стране. Но я не уверен, что в другой стране было бы интересно говорить о пространстве той страны. Когда Фернан Бродель пишет о пространстве Франции, то он ссылается на фактуру, на источники, но не на какие-то концептуализации по поводу того, что такое есть Франция. Второе. Здесь мы обращались с пространством России тоже довольно странно. Расширение темы пространства было произведено исключительно для того, чтобы свести и категорию пространства, и феноменологию пространства к чему-то другому. Свести к тому, что, на мой взгляд, является гораздо менее определенным и не является феноменологически данным. Пространство России феноменологически дано. Дана ли российская культура —это менее понятно. И еще. Почти все говорили о том, что пространство в России или порождено Византией, или сакрально, или идеократично, или есть некая эманация государства; с другой стороны, утверждали, что пространство лишено всякого единства. Эти два квазиопределения представляются мне не очень совместимыми. А. ФИЛИППОВ: Я бы хотел сослаться на исследование Норберта Элиаса о процессе развития цивилизации. Эта книга недавно вышла на русском языке одновременно со второй работой того же автора о придворном обществе.[2] Среди прочего там содержится примитивная, но необыкновенно интересная идея. Элиас говорит: пока эти феодалы разъезжали по необъятным просторам Западной Европы и редко-редко встречали какого-нибудь другого феодала, то первая мысль, которая им приходила в голову, это отнять все, что есть у него, и забрать себе. Они забирали, порушив кому-то доспехи, а кого-то лишив жизни, т. е. вели нецивилизованный образ жизни. Когда образовалось придворное общество, феодалы стали встречаться при дворе. Пришлось держать себя в руках, обуздывать. Постепенно это распространилось и на широкие слои крестьянского населения. Когда мне говорят о хорошей жизни в «европах», то я готов согласиться. Тема большого и малого пространства и придворного общества сливаются в одно русло. Как появилось у нас большое пространство, мы только что услышали. Пространство, которое намного превышает область всех возможных путешествий, превышает область обозримых в повседневном обозрении концептуализаций, я называю большим. Это не означает, что большое пространство не может быть концептуализировано специально обученными людьми. В этом большом пространстве негде взяться цивилизованности, слишком мало соприкосновений, слишком мала плотность социальных сетей.
И. ЯКОВЕНКО: Мы говорим сегодня о сущности, которая синкретична по своей природе, а языка для описания этой синкретической сущности и аппарата для понимания нет. Он только-только создается. Б. РОДОМАН: Я продолжу эту мысль. Мы пытаемся с помощью науки понять Россию, следуя совету Шанина, что умом Россию понимать надо. Он такую статью недавно выпустил. Слово «ум» он выделил курсивом. Наука — западноевропейский феномен. С другой стороны, это феномен общемировой. Наука является всемирной, и она же является западноевропейской. Нет науки афганской, нет науки китайской. Отсюда и получается, что чем дальше цивилизация от европейской, тем труднее науку объяснить в тех же терминах. Создавать свою науку мы не можем. Скажем, с православной идеологией наука несовместима. Сами священники об этом говорят. Такой вот парадокс. В начале дискуссии говорилось, что пространство все понимают по-своему. В то же время присутствует некое единство. Территория России как эманация государства обладает единством. Населяющие ее люди по-разному представляют себе пространство не только российское, а вообще все мировое. Они мало с ним связаны, просто объединены государством как завоевателем. Государство их когда-то завоевало, как комендант, установивший свою власть на оккупированной земле, оно их и объединяет. А органической связи между ними мало. Поэтому утверждение о том, что пространство разное у разных слоев и едино в том смысле, что порождено государством, одно другому не противоречит. А. СОЛДАТОВ:. Я давно порывался сказать, что увлекаться весьма популярной в некоторых политических кругах идеей трансляции империи от Римской к Византийской, от Византийской к Русской, от Русской к Советской не стоит. Мы впадем в некий политический популизм. Сам момент трансляции империи от Византии к Руси был обусловлен разрывом Руси с Византией. Патриаршество мы получили от Византии через некоторый разрыв. То же самое и с имперским строительством Ивана Грозного. Иван Грозный — первый восприемник этой трансляции империи, которая дошла до Руси. Однако он нам являет совершенно другой образ правления, образ понимания своего служения, нежели византийские императоры. Важно заметить, что Византия знает два периода иконоборчества, которому покровительствовали императоры. А на Руси представить нечто подобное очень сложно. Иконы — это некоторое запечатленное пространство. А. АХИЕЗЕР: Мне не кажется, что мы очень далеко уходили от пространства в наших разговорах. Все согласились с тем, что пространство мы должны рассматривать в сфере какой-то формы культуры. Мы искали источник этой культуры, называя его совершенно по-разному. В. КАГАНСКИЙ: Я не рискнул развернуть вам то, что я считаю некоторой схемой пространства России, и попросить ее культурологически, исторически, социологически прокомментировать. На мой взгляд, это не было бы просто принято. То есть охарактеризовать пространство в тех категориях, в которых его можно эмпирически освоить: моноцентрическое и полицентрическое, динамическое и статическое, мономасштабное и полимасштабное и т. д. Таких категорий найдется достаточно. И мы можем таким образом — представляя себе, что реализаций российских государств несколько, что представлений на тему, что было Российское государство, тоже много, что есть симметрия между Россией и ее частями — с большей или меньшей уверенностью реконструировать архетип российского пространства. Но есть опасение, что если бы я такую работу проделал, то никакой круглый стол— как живой обмен мнениями по поводу заостренного и не очень внятного вопроса — просто бы не состоялся. От имени редакции журнала «ОЗ» выражаю признательность всем участникам круглого стола. [1] Henri Lefebvre, Edward Soja. — Примеч. ред.
[2] Норберт Элиас. О процессе цивилизации. М.; СПб., 2001. Норберт Элиас. Придворное общество: исследования по социологии короля ипридворнойаристократии. М., 2002. (см. рецензии в настоящем номере «ОЗ») |