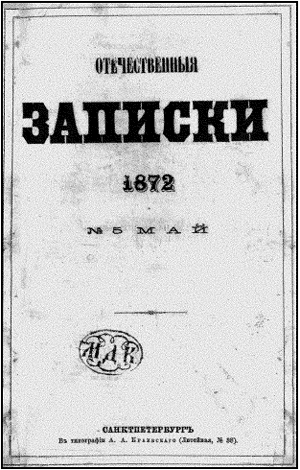Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2002
| * А теперь я живу в деревне, в настоящей Александр Николаевич Энгельгардт — химик, писатель и общественный деятель60–70-х годов XIX века, широкой публике известен главным образом как автор писем «Из деревни». Это и в самом деле обстоятельные письма, первое из которых было послано в 1872 году в «Отечественные записки» из родового имения Энгельгардтов — деревни Батищево Дорогобужского уезда Смоленской области. А затем десять лет читатели «ОЗ» ожидали публикации очередного письма. Двенадцатое по счету письмо было напечатано уже в «Вестнике Европы» — «Отечественные записки» закрыли.
«Письма» в свое время были изданы книгой, читаны Лениным и Марксом, благодаря чему «Из деревни» переиздавали и после 1917 года. Энгельгардт был интеллектуалом и крупным ученым. Но прежде всего это был человек, наделенный чувством личной свободы. Об этом говорит то, как он прожил жизнь, вернее — как он сумел ее сложить. Известный химик, доктор honoris causae Харьковского университета, основатель русской агрохимии и создатель первой частной химической лаборатории, он кончил «всего лишь» военное Артиллерийское училище и служил офицером по соответствующей части в петербургском Арсенале. Он любил химию, разбирался в агрономии и достиг в своих занятиях таких успехов, что стал преподавать химию в Земледельческом институте. Бурные 60-е не прошли мимо Энгельгардта — за свои связи с народниками он был судим как офицер военным судом и посидел, хоть и недолго, на гауптвахте. После чего о военной карьере, видимо, нечего было и думать. Позднее, за сочувствие к студенческим волнениям Энгельгардт уже сел «по-крупному», и не куда-нибудь, а в Алексеевский равелин, да еще на два месяца. Теперь перед ним была закрыта не только преподавательская карьера, но и сама возможность прежней жизни в обеих столицах. И этот потомственный дворянин, страстный химик-экспериментатор, с улыбкой заверяя родственников, что он «не сопьется», убыл — фактически навсегда — в глухую деревню, где ему предстояло жить в доме, по удобствам мало отличавшемся от крестьянской избы. И вот здесь начинается самое интересное. Если читать все 12 писем подряд, то окажется, что перед нами — увлекательный «роман успеха», имеющий форму писем. Заметим, что «роман успеха»— это жанр, совершенно чуждый классической русской литературе. Да и вообще успех— это какая-то не российская категория. Удача, счастливый билет, чудотворное избавление — это еще куда ни шло. Но успех ? В русском романе герои сходят с ума, стреляются на дуэли, уходят в монастырь, умирают на поле боя, под поездом, от заражения крови или на чужих баррикадах. Документальное повествование Энгельгардта представлено во всех подробностях. Эти подробности завораживают тем, что они безыскусны и художественны одновременно. Вот как описывает автор свой способ одеваться в деревне: «Дома осенью я всегда хожу в высоких сапогах, красной фланелевой рубахе и полушубке — костюм, к которому я логически пришел в деревне, костюм, чрезвычайно удобный и даже красивый, потому что яркий красный цвет составляет приятное разнообразие в сопоставлении с серым небом, серою погодою, серыми постройками, серыми пашнями. Но явиться в таком костюме на выставку — хотя бы, кажется, этот деревенский костюм очень шел к хозяйственной выставке — я не решился, потому что это могли бы принять за оригинальничание или еще того хуже. В городе нужно быть одетым по-городски». Я не разделяю распространенную точку зрения, что талантливый человек талантив во всем. Но Энгельгардт, как можно судить по его книге, был действительно талантлив во всем, за что брался, ибо был гармоничной и незаурядной личностью. Ссылку в Батищево он принял как вызов судьбы и возможность испытать себя. В этом как раз, с моей точки зрения, он и проявил себя как подлинный интеллигент: свой внутренний личностный ресурс объединил с преимуществами знаний, которые давала ему прежняя профессия. Чего стоит хотя бы его рассказ о том, как он научил свою повариху Авдотью «правильно» варить варенье и делать наливки! Энгельгардт начинает хозяйничать в пореформенной деревне, где прежние хозяйственные отношения полуразрушены, а новые — не только не созданы, но неясно, возможны ли они вообще. Дорогобужский уезд — это не Херсонская губерния с черноземами и колосящимися нивами пшеницы. Это даже не просто зона рискованного земледелия — это худородные земли, мир безнадежности, заброшенности и постоянного голода, где редко у какого мужика урожая хватало даже на так называемый «пушной» хлеб — т. е. хлеб из невеянной ржи. Рассказ Энгельгардта о хождении «в кусочки», помещенный в первом же письме, наполняет конкретным содержанием стершийся смысл пословицы «от тюрьмы да от сумы…»: сума — это знак человека, пошедшего «в кусочки», это сигнал бедствия, внятный каждому крестьянину. Взрослый или ребенок с сумой не просит, а просто ждет — и ему подают именно «кусочек» хлеба определенного размера. Возможно ли вообще в этих условиях хотя бы безубыточное сельское хозяйство? У Энгельгардта оно оказывается не только возможным, но еще и приносит прибыль. В первый же урожай ржи собрано вдвое более прежнего, но еще собран и лен — и это только первые шаги. Энгельгардт пользуется почти исключительно наемным трудом, прибегая к иным формам трудовых отношений только потому, что мужики постоянно занимают у него то хлеб, то деньги под будущие «отработки». Он переходит на сдельную и дифференцированную оплату любого труда, и поэтому к нему охотно нанимаются все, кто хоть сколько-то трудоспособен. И только тогда, когда в ближних деревнях он уже знает всех и каждого, он начинает покупать плуги и железные бороны, расширять запашки и вводить сложный севооборот. Крайне важна и другая сторона жизни Энгельгардта: если сравнить его с обычным русским барином и даже с таким прогрессивным помещиком, каким изображен у Толстого Константин Левин, то окажется, что Александр Николаевич не был ни аристократом, ни помещиком — он был сельским хозяином нового для России типа. Образ этого сельского хозяина приобретает особую стереоскопичность в свете чтения недавно вышедшей по-русски книги Норберта Элиаса «Придворное общество» (М., Языки славянской культуры, 2002). Элиас большое внимание уделил понятию «статусного потребления», каким оно было среди французской аристократии времен «старого режима». Масштабы трат французского дворянина-землевладельца никогда не соотносились с его доходами: расходы принципиально предопределялись знатностью рода, т. е. требованиями престижа и ничем иным. Поэтому никакие подарки со стороны короля и его фаворитов не могли спасти знатного дворянина от разорения — это был всего лишь вопрос времени: разорялись если не дети, то внуки. Французские дворяне-землевладельцы не хозяйствовали — они потребляли. Хозяйствовал «интендант» — который, разумеется, был весьма далек от исполнения тех правил, которые приводит Элиас в Приложении к своей книге. Элиас подчеркивает, что в придворном обществе времен «старого режима» невозможен был выбор между статусным, т. е. внеэкономическим, потреблением и«рациональным», или «экономическим» поведением и отношением к хозяйству. В России середины XIX века, а тем более в России пореформенной, этот выбор уже был. Каков он был — мы знаем из русской литературы. Образцовый хозяин Константин Левин, сочиненный Толстым в назидание равнодушным к земле-кормилице русским аристократам, как раз современник Энгельгардта. Энгельгардт, приехавший в деревню без семьи, сразу решает, что он обойдется без прислуги и вообще без всякой дворни. Он находит старосту и приглашает его вместе с женой Авдотьей жить к себе в дом. Сегодня нам трудно оценить уникальность подобного поступка — в городе человек с положением Энгельгардта имел горничную, кухарку и кучера, а также гувернантку для детей. Энгельгардт не только был крестным у крестьянских детей, но ходил в гости к кумовьям, пил с дьячком, гостевал по случаю всех престольных праздников, на которые был зван, входил в личные отношения с коновалами, трактирщиками и торговцами «красным» товаром, знал жестокость семейных отношений в крестьянских дворах. Его доводы в пользу практичности именно крестьянского полушубка, в холодное время в деревне предпочтительного для любого хозяина, лишь подчеркивают бессмысленность всякого «опрощения» в толстовском духе. Выводы Энгельгардта о том, что в условиях худородной земли крестьянин, возделывающий землю в одиночку, даже надрываясь, не может должным образом прокормить себя, увы, остаются поучительными и по сей день. Он же показал, что экспорт дешевого зерна из России был возможен именно за счет нищенского уровня личного потребления в деревне. Поразительно разнообразны не только типы мужиков, описанные Энгельгардтом, но и типы баб, а кроме того типы «дворов», где хозяйственные возможности зависят от структуры крестьянской семьи и специфики денежных и личных отношений внутри каждой из них. Никаких восторгов, никакой идеализации патриархального быта и никаких иллюзий — трезвый взгляд человека, который ночей не спал, когда на его льнах появились вредные насекомые, жил в избе, промерзавшей насквозь, и сам запрягал телегу, чтобы ехать по хозяйственным надобностям. Три демографические катастрофы, пережитые русской деревней — две войны, коллективизация и голод — такой перспективы Энгельгардт предвидеть не мог. Он надеялся, что «наконец и земля будет превращена из дикой в более или менее культурную»; что крестьяне поймут преимущества льноводства, фосфорных удобрений и правильного севооборота (как известно, к началу Первой мировой войны помещикам принадлежало всего около13процентов сельскохозяйственных земель). «В ужасном виде находится наше несчастное дорогобужское хозяйство», — писал Александр Николаевич в последнем письме, датированном 1887 годом. Всего-то и прошло с тех пор 115 лет… * Последнее переиздание Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. М., 1999. 716 с. |