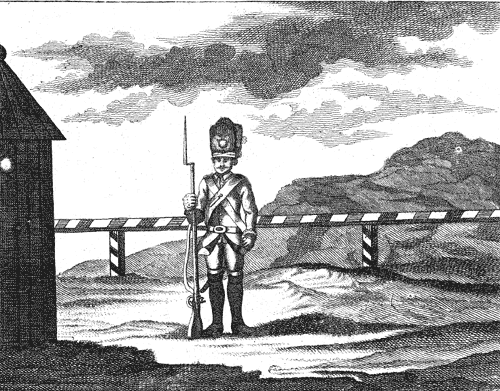Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2002
| Граница — это не только линия на географической карте, край, рубеж некоего географического пространства, территории. Это — некий край пространства власти, т. е. территории, стратифицированной при помощи властных технологий[1], зона соприкосновения, пересечения, наложения различных, часто разнотипных пространств и структур власти. В зависимости от генезиса пространства власти и от характера взаимодействия властных структур можно выделить несколько типов границы как специфического сегмента пространства власти. Знаменитый историк В. О. Ключевский утверждал, что колонизация есть «основной факт» русской истории: «История России есть история страны, которая колонизуется»[2]. Действительно, не поняв специфики центростремительной российской колонизации, выстраивающей пространство в виде «звезды», трудно всерьез рассчитывать на понимание российской истории, не говоря уже о природе и истоках власти в России. 1. Феномен технологической недостаточности/избыточности В свое время известный историк и методолог М. А. Барг заметил, что функционирование системы следует рассматривать как единство моментов «износа» и восстановления структуры[3]. В России, как представляется, проблема восстановления технологической (властной) структуры была связана не только и не столько с «износом» властной техноструктуры, сколько с ее хронической недостаточностью. Неоднородность технологической структуры, предопределенная спецификой российской колонизации, предполагает и определенную неравновесность этой структуры. В разных точках российского пространства власть действует с различной интенсивностью, различной скоростью и обладает различными возможностями самовоспроизводства, регенерации и самообновления. Однако технологическая недостаточность не может пониматься примитивно, лишь как слабость власти, хотя она, конечно, подразумевает и слабость, и неэффективность властного механизма. Но эта слабость может иметь различные следствия: от невозможности власти стратифицировать естественное географическое пространство или перестратифицировать пространство власти до безграничного прямого насилия, компенсирующего технологическую недостаточность, т. е. до утверждения предельно жестких макротехнологий. В то же время отдельные сектора, узлы, географические локусы и «коридоры» российского пространства власти были предельно насыщены технологически. Технологическое перенасыщение, технологическая избыточность, по сути, вело к тому же гипертрофированному насилию, что и технологическая недостаточность, присущая огромным пространствам на Востоке, правда, скорее, не к вспышкам, сполохам насилия, а к его своеобразной кристаллизации. Такой подход, однако, порождает целый ряд новых вопросов. Как действует власть и как востребуется насилие там, где власть технологически несостоятельна, недостаточна? Не уравновешивается ли особое качество власти, связанное с«бесконечностью» ее пространственного ареала, неким новым качеством насилия? Не связано ли в той или иной степени преобладание активного насилия в России/СССР после 1917 года с технологической недостаточностью власти (т.е.медленностью воздействия и неэффективностью технологической структуры, неспособностью последней к регенерации и трансформации)? 2. Дон как тип границы: власть и образование независимых социальных пространств Начнем с Дона как с границы, сформировавшейся в значительной степени под влиянием стихийной, народной колонизации. Все прочие типы границы и приграничного пространства выстроены, напротив, властью и властной колонизацией. Донское казачество обеспечивало относительную безопасность рубежей государства, но вместе с тем тип организации границы, приграничного пространства власти представлял серьезную угрозу для ядра этого огосударствленного властного пространства. В связи с чем зона границы была насильственно переструктурирована[4]. Восстание Булавина (1707–1708), в сущности, стало реакцией на попытки насильственного переструктурирования пространства, в котором стихийная казачья колонизация столкнулась с целенаправленной правительственной. Отмечу, что в известный момент для восставших сохранение спецификаций пространства, складывавшегося в ходе стихийной, «народной» колонизации, вопреки желанию центральной власти, было важнее, нежели ценности государства; поэтому вполне серьезно обсуждался план перехода под покровительство турецкого султана[5]. После подавления булавинского восстания иначе организованная периферия властного пространства сужается — а ядро этого пространства, устроенное технологически единообразно, расширяется. Пространство власти как бы пожирает свою периферию. Но восстание Булавина имело и важные технологические последствия. Власти стала ясна недостаточность и примитивность технологических механизмов, при помощи которых районы южной периферии включались в глобальную техноструктуру. Технологическую составляющую необходимо было усилить, причем не просто некую абстрактную технологическую составляющую, а технологическую составляющую, адекватную колонизации-переселению как виду стратификации территории. И это делалось на протяжении всего XVIII века.
Основой любого локализующего механизма является установление связи индивида с землей, чаще всего с землей как сельскохозяйственным ресурсом, т.е. с физической, материальной формой существования пространства. Эта связь материализуется в установлении того или иного способа владения землей, ее обработки или прикрепления к ней. Неукорененность на земле, отсутствие прочной связи с ней делает возможным свободное, стихийное перемещение значительных масс людей (вспомним в этой связи зазвучавшие во время булавинского бунта угрозы восставших царю: «Все очистим, с Дону реки сойдем»). Кроме того, как показало время, властные структуры в землях, населенных не только и исключительно казаками, а как казаками, так и крестьянами, технологически более устойчивы, несмотря на трения между представителями двух этих сословий (а отчасти и благодаря этим межсословным трениям). Одной из причин булавинского восстания было запрещение казакам заниматься земледелием, совмещать это с выполнением воинских обязанностей и, после формального разрешения землепашества, жесткое воспрепятствование стихийной, неуправляемой колонизации, предельное ужесточение методов сыска оседающих на новоколонизуемых землях беглых крестьян. Тем не менее впоследствии, после включения в жесткую технологическую структуру власти, казаки получили возможность обрабатывать землю, т. е. были определенным образом локализованы в пространстве власти, хотя это и не была доминировавшая в России локализация посредством закрепощения. Более того, с течением времени и изменением политических и геополитических реалий приграничное пространство перестает быть таковым. Происходит перерождение приграничной властной ткани. Это связано не только с расширением технологически единообразно устроенного ядра пространства власти, но и со своего рода «поглощением» границы, смещением геополитических рубежей, ликвидацией приграничной буферной зоны разросшимся властным ядром. В частности, историки зафиксировали исчезновение многих возникших в XVII веке военных крепостей, т. е. выполняющих защитные функции городов. Городские укрепления разрушаются, военная служба населения уходит в прошлое, торгово-ремесленная деятельность жителей сокращается. Власть, в свою очередь, наделяет гарнизоны городов-крепостей землей вместо денежного жалования, облагает горожан, как и сельских жителей, натуральным хлебным налогом, т. е. фактически заставляет население городов-крепостей заниматься земледелием. В итоге к концу XVII — началу XVIII века население многих малых городов «окрестьянивается», а сами города превращаются в села.[6] В подобных случаях демилитаризация пространства власти влечет за собой его трансформацию и развитие чисто «гражданских», хозяйственных компонентов. В иных случаях девальвация военно-технической, оборонной составляющей и связанное с этим снижение интереса власти и государства к приграничным пространственным ареалам вызывала нечто противоположное, а именно дегенерацию и омертвение ранее стратифицированного властью пространства. 3. Север: гулаговая колонизация Пространство Русского Севера сформировано своеобразным сочетанием медленной многовековой стихийной колонизации, осуществляемой сравнительно малочисленными людскими ресурсами, и стремительной гулаговой колонизации XX века, означавшей насильственное перемещение, переброску огромных человеческих масс и насильственное, формированное освоение ресурсов Севера. Север удерживался структурой, созданной властной колонизацией, уязвимой в той мере, в какой уязвима сама власть. Нынешняя деградация Севера — следствие обнаружившейся слабости центральной власти, слабости, немедленно выявившей недостаточность технологических механизмов. В какой-то мере процесс колонизации, стратификации территории пошел вспять: мы наблюдаем дестратификацию обширных пространств на севере и северо-востоке. Единственная альтернатива, которая нам сегодня предлагается, — это замена правительственной по типу, а по форме гулаговой колонизации Севера монополистической, даже, если хотите, олигархической (или, если учесть, что постсоветские олигополии не могут возникать и существовать без поддержки государства, — государственно-олигархической) колонизацией. Суть такого рода колонизации — захват принадлежащих государству естественных ресурсов и производственных мощностей, созданных для их освоения, крупнейшими сырьевыми монополиями. На этой основе, однако, может быть выстроен только весьма специфический и уродливый тип социального пространства и гражданского общества. Общества, зависимого от факторов и сил, расположенных как бы вне его и ему неподконтрольных. На самом деле ответственность за трансформацию пространственных структур, созданных властью в процессе принудительной колонизации, должна быть возложена на государство, как это и происходит у большинства наших северных соседей. Еще раз подчеркну — не на власть, отстаивающую прежде всего свои эгоистические интересы и смотрящую на проблемы страны через призму собственного выживания, а на государство. 4. Дальний Восток и «Русская Америка» Феномен технологической недостаточности в наибольшей степени проявился и проявляется на восточных окраинах России. Речь идет как о регионах, входящих ныне в состав России (Курильские острова, Камчатка), так и территориях, некогда колонизованных русскими, но не удержанных в составе Российской империи («Русская Америка»). Специфическое ощущение геополитических реальностей, повышенная осмотрительность и прагматизм досоветских правителей России, особенно в XIX веке, заставляли их думать прежде всего об обеспечении стабильности и безопасности ближних границ и подступов, не останавливаясь при этом перед потерей тех территорий, которые не могли быть эффективно стратифицированы властью (речь идет прежде всего об Аляске). Но даже эта сверхосторожная линия, как показали дальнейшие события, и, в частности, русско-японская война1904–1905 годов, не смогла обеспечить тогдашней Российской империи сохранение в полном объеме своих территорий на Дальнем Востоке. Создание мощного флота, т. е. решение задачи организационно-технической, как оказалось, не могло решить проблему властно-технологическую — создания талассократической, говоря языком традиционной геополитики (т. е. лишенной территориальной непрерывности) техноструктуры, для которой в российской истории не было прообраза, традиции. Существенно иной по сравнению с «Русской Америкой» была ситуация Курильских островов. Курилы и прилегающая к ним зона были проблемным с точки зрения геополитики и «естественных границ» пространством. Геополитически Курильская гряда, во всяком случае южная ее часть, находится в зоне геополитической радиации Японии. В то же время территориальные размежевания, относящие Курильскую гряду к России, также не были, с точки зрения «естественных границ», искусственными и надуманными. Исторически сложилось так, что в то время, как Россия осуществляла колонизационную экспансию на Восток и, двигаясь от Камчатки на юг, достигла Курильской гряды, Япония (после1638–1639годов), напротив, стала на путь изоляционизма, выезд из страны был запрещен и сурово карался. В силу этого России удалось максимально расширить сферу действия своих технологических, властных структур (и соответственно политического и экономического влияния), не выходя при этом за рубежи естественных геополитических границ (ситуация, противоположная Аляске). Причем, как и в случае с Аляской, отказ от прав на Курильские острова, частичный — в 1855-м и полный — в 1875 году (прав, как известно, возвращенных, или, если точно следовать терминологии соответствующих дипломатических документов, переданных СССР только по итогам Второй мировой войны), и признание юрисдикции Японии над ними российское (царское) правительство не рассматривало как отказ от исконно русских земель или как нарушение целостности империи. Курилы во второй половине XIX века рассматривались правительством России как территория, лежащая на пределе геополитических возможностей России и к тому же малоценная в хозяйственном, экономическом отношении. Ситуация, создавшаяся с Алеутскими островами, Камчаткой и Курилами,— это именно та ситуация, когда недостаточность технологического поля заставляет власть идти не по пути создания достаточно сложно организованных дисциплинарных пространств, умножения и наложения друг на друга различных и многообразных механизмов социального контроля, а по пути уничтожения технологического фона, омертвения пространства и депопуляции (уничтожение алеутов, по некоторым данным, на 9/10). Трудно сказать, как сложились бы исторические судьбы русского Дальнего Востока, если бы этот регион продолжал оставаться объектом исключительно (или по преимуществу) морской колонизации (мало чем в этом отношении отличаясь от той же британской Индии или Америки) и если бы основными пунктами, откуда перемещались на Дальний Восток люди и грузы, продолжали оставаться Кронштадт и Одесса. Но на протяжении второй половины XIX века в России расширяется сеть железных дорог, а на рубеже веков у страны хватает ресурсов и воли для сооружения Транссибирской железнодорожной магистрали. И хотя по сей день большая часть грузов доставляется из Европейской России на Дальний Восток морем, Транссибирская магистраль позволила определенным образом «сомкнуть» пространство власти и в какой-то степени смягчить катастрофические последствия хронической для этих регионов технологической недостаточности. В свете сказанного понятно отношение автора к рекомендациям о смещении «центра тяжести» российского пространства с Запада на Восток, переориентации российского общества с атлантической цивилизационной модели на тихоокеанскую и соответствующих стратегических трансформациях — «новому наведению мостов», уже не с Западом, не с Атлантикой, а со странами Тихоокеанского бассейна (вплоть до переноса на Восток столицы государства[7]). С точки зрения технологической российский Восток в значительной степени находится в зоне хронической технологической недостаточности — в пространстве, организованном через центр, импульсы власти достигают этой глубокой периферии весьма ослабленными. Изменить это положение волевым путем (например, перенести столицу за Урал) невозможно, ибо центростремительная структура российского пространства формировалась столетиями, причем в контексте определенного типа колонизации. 5. Азиатская граница Что касается азиатской границы, то мне представляется заслуживающим всяческого внимания подход к этой проблеме специалиста по исторической географии Д.Н.Замятина. Под азиатской границей, пишет он, понимается «сравнительно большая барьерная территория, полоса между различными государствами или полугосударственными образованиями, политический режим существования которой хотя и может быть оформлен де-юре соответствующими политическими соглашениями, однако де-факто представляет собой переплетение разнородных, осколочных местных и региональных властных структур; буферность такой территории несомненна…».[8] С течением времени, однако, на азиатской границе происходит «уплотнение геополитической среды», и это «оплотнение, уплотнение политико-географической границы ведет к постепенному исчезновению ее азиатских составляющих».[9] Сегодня азиатской границы в том виде, в каком она существовала в зоне продвижения России в Среднюю Азию в XIX веке, нет, хотя пространство власти на южных рубежах России явным образом «разрыхляется» и деградирует, если хотите — «обазиатчивается». Отчасти это связано со своеобразным раздвоением российской границы в Центрально-Азиатском регионе. Наряду с укрепленной государственной границей, оставшейся на рубежах бывшего СССР (переставшей формально быть границей России, но, тем не менее, охраняемой российскими пограничниками), появились весьма условные и проницаемые границы России со странами СНГ. Граница в военно-техническом смысле выступает здесь не как ограничитель пространства власти, а как своеобразный анклав власти, поскольку севернее этих пограничных рубежей находится не российская территория, а иначе организованное и конкурирующее с российским властное пространство, контролируемое возникшими после распада СССР авторитарными режимами (Таджикистан, Казахстан, Киргизия и т. д.). Близка сегодня к азиатскому типу границы (и в то же время весьма специфична) и протяженная граница России с Китаем. Здесь приграничные районы стали, по сути, сферой жесткого экономического и демографического давления на Россию, более того, — зоной скрытой колонизации, несомненно поощряемой и дирижируемой властью (разумеется, речь идет о структурах власти нашего великого южного соседа). И это, конечно, нечто иное, чем российско-казахстанская граница. Только новая «азиатская граница» формируется не направлениями набегов кочевников, как прежняя, традиционная, а в первую очередь направлениями легальной, полулегальной и нелегальной миграции и векторами транзита наркотиков. Так что тенденция сегодняшнего дня — не «оплотнение» границы, а скорее своеобразное разрыхление пространства власти, трансляция «азиатских», деструктивных (или аструктурных) параметров приграничной зоны в направлении властного ядра. 6. Европейская граница Что же касается ситуации с западными границами России, то здесь мы имеем дело не с безмерным растяжением пространства власти, которое при значительной его протяженности и редком населении чрезвычайно сложно освоить технологически, а, напротив, с уплотнением, а порой и со сжатием этого пространства, потенциально взрывоопасной ситуацией, овладеть которой, как свидетельствует история, власть в состоянии лишь при помощи избыточного насилия и предельно жестких технологий. На Западе у России не было естественной геополитической границы, естественных географических рубежей — и не было безграничного свободного пространства, провоцировавшего властную и стихийную, «народную колонизацию». Соответственно пространство к западу от Смоленска никогда не было зоной инициируемой властью, зачастую принудительной колонизации. И структура пространства на западе формировалась, очевидно, не столько в процессе колонизации, сколько в процессе многовекового противостояния сильным западным соседям. Д. Н. Замятин, вероятно, вполне справедливо говорит о типе европейской границы — жестко структурированной и в известной степени абстрагированной от конкретной территории.[10] Замечу, однако, что к вопросу о связи границы с конфигурацией конкретной территории и, в конечном счете, о естественности рубежей следует подходить исторически. Французский историк Фернан Бродель проницательно замечает, что всякая административная, а тем более государственная граница, будучи однажды проведена, имеет тенденцию сохраняться, увековечиваться (т. е. иными словами, — до известной степени становится естественной).[11]
Солдат И в новейшей истории перемещение границы между государствами — это чаще не какой-то непредсказуемый и тем более произвольный сдвиг государственной границы, а маятникообразное колебание между двумя-тремя уже избранными и маркированными историей рубежами, зависящее в основном от соотношения сил между акторами, борющимися на геополитической сцене. Вместе с тем на Западе существовали отчетливые этнические и цивилизационные границы. Если, как писал еще В. О. Ключевский, «русские границы на востоке не отличались резкой определенностью или замкнутостью: во многих местах они были открыты; притом за этими границами не лежали плотные политические общества, которые бы своей плотностью сдержали дальнейшее распространение русской территории»[12], то на Западе все было по-иному: продвижение России на Запад постоянно наталкивалось на сопротивление достаточно плотное. Запад не мог быть колонизован, как Восток, от центра до океана; Атлантический океан находится вне пределов досягаемости, и тип пространства «к западу от Смоленска», а затем к западу от Буга был иным, нежели бескрайние пространства на востоке, юге и тем более на севере. Поскольку естественная граница отсутствует и разграничение может осуществляться лишь по приблизительным контурам расселения этносов, то власть заинтересована в осуществлении своего рода этнической трансформации, реальной или фиктивной; русификация Польши и Прибалтики в этих условиях была почти неизбежным методом воспроизводства и самосохранения власти. Не забудем назвать в числе методик, используемых властью на обширном сегменте пространства между центром и западной границей, и создание так называемой «черты оседлости». Перемещение столицы — Петербурга — в пространство буферной геополитической зоны также вынудило власть ужесточить способы технологического контроля. Проведение границы на Западе было осуществлено после войн и потрясений петровской эпохи по тому же принципу, что на юге: границей стала линия побережья международного моря (в одном случае — Черного, в другом — Балтийского). Что касается Прибалтики, правобережной Украины и Белоруссии, Бессарабии, то после Брестского мира власть рассматривала эти утраченные ею в годы постреволюционного кризиса государственности территории как объект потенциальной реконкисты и восстановления разорванного и утраченного властного пространства. Последнее и произошло в конце 30-х годов, после включения Латвии, Эстонии и Литвы, а также правобережной Украины и правобережной Белоруссии в состав СССР: эти территории были поглощены советской тоталитарной техноструктурой и стали пространством, в полной мере подверженным действию типичных для подобной техноструктуры макротехнологий, предполагающих террор, депортации, ГУЛАГ, практику исключения не в фукианских, а в специфических советских формах, и т. д. Иными словами, пространство между исторически сложившимся центром России и западной границей, т. е. зона, где Россия соприкасалась с Европой, пространство не колонизации, а геополитического противоборства, страдало скорее от технологической избыточности. И любое обострение геополитического противоборства, любая вспышка политических и тем более военных конфликтов была чревата конвертацией этой избыточности в прямое насилие. 7. Жесткость или взаимодействие? Граница как стена Неизбежный вопрос: дегенерация пространства власти начинается из центра, с кризиса структуры, и этот кризис центра иррадирует на окраины, делая рыхлой и беззащитной созданную усилием центра и структурированную им периферию? И деградация, отмирание, омертвение краев пространства власти является проявлением общего кризиса организации пространства? Или он, этот кризис, начинается с краев пространства и, подобно эпидемии, движется в направлении властного ядра? Или следует говорить не о кризисе организации пространства, а более широко — о кризисе власти, государственной структуры? Или источник всех зол — в разрушительном влиянии заграничных, иначе организованных структур власти? Но если источник зла — влияния извне, то их следует максимально ограничить. И прибегнуть к созданию границы типа стены. Стена — это предельное проявление жесткой, непроходимой, исключающей взаимовлияние двух соседних техноструктур границы, попытка тотального и категоричного пресечения взаимодействия пограничных пространств власти. Ивэтой жесткости и категоричности — утопичность подобных геотехнологических проектов. В основе утопий этого рода (назовем их утопиями изоляции) лежит ощущение технологической недостаточности, своего рода комплекс власти, идея фикс— ограничить (или отграничить), зримо, вещественно проявить предмет гордости власти, выстроенный ею технологический механизм, и тем самым обрести уверенность и ощущение незыблемости статус-кво. Когда речь идет о границе типа стены, прежде всего вспоминаются, конечно, прообраз и историческая предшественница всех подобных границ — Великая Китайская стена и ее самый знаменитый современный аналог — стена Берлинская. Возведению Великой Китайской стены посвящена известная притча Франца Кафки. Смысл ее неоднозначен; одна из наиболее впечатляющих ее интерпретаций, данная философом В. А. Подорогой, сводится к тому, что власть создавала не стену — она создавала бреши в ней, позволяющие сохранить ощущение внешней угрозы и тем самым обеспечить самовоспроизводство власти и консолидацию империи.[13] Это оригинальная версия, но, очевидно, никак не единственно возможная (в пределах данной статьи, к сожалению, нет возможности останавливаться на иных, также небезынтересных интерпретациях «феномена Стены»). Акцентируем лишь один аспект ситуации: двойное назначение приграничных конструктов власти типа стены. Приведем примечательное высказывание О. Латтимора о причинах сооружения Великой Китайской стены, на которое ссылается и с которым, в сущности, солидаризируется в своей книге «Постижение истории»А.Тойнби: «…Граница империи… фактически имеет двойное назначение. Она служит не только для того, чтобы преграждать путь соседям, но и для того, чтобы не выпускать своих жителей за пределы страны… Считалось необходимым ограничить деятельность китайцев по ту сторону Великой стены, чтобы не утрачивалась их связь с государством. Сельское хозяйство или торговля, которыми они занимались за пределами Великой стены, шли более на пользу варварам, чем китайскому обществу. Они как бы соскальзывали с китайской орбиты… Китайцы, покинувшие китайскую орбиту и приспособившиеся к некитайскому экономическому и социальному порядку, либо подчинялись варварским правителям, либо сами начинали практиковать варварские формы правления, ослабляя тем самым Китай».[14] Таким образом, граница-стена не только и, может быть, не столько ограждает территорию от вторжения извне, сколько ограничивает и придает форму коллективному этническому, политическому и социальному телу, служит гарантией непрерывности и неразрывности связи подданных с государством, с властью. Это своего рода механизм стратификации. Граница-стена не столько фиксирует геополитическое пространство и предотвращает попытки сузить это пространство извне, сколько служит оболочкой, скорлупой властной техноструктуры. Более того, граница-стена не может не влиять на ограниченное ею пространство власти, которое, в свою очередь, трансформируется и становится все более и более «пристенным», в предельном случае превращаясь в дополнение к собственной границе.
Конструкты типа стены своеобразно «проявляют» определенные техноструктуры и определенный менталитет. Это менталитет закрытого пространства, пространства, которое не простирается, а натыкается на искусственные пределы, установленные властью в соответствии с ее представлениями о собственной природе и присущим ей гипертрофированным самомнением. Это особенно хорошо осознается при сравнении Китая с Россией. Россия, в отличие от Китая, была страной колонизующейся, т. е. развивающейся вовне. Спасение от набегов «варваров», во всяком случае в послемонгольский период, виделось прежде всего в усилении военной мощи; ограждение и прикрепление населения в пространстве власти достигалось посредством жестких локализующих технологий, не связанных с формализацией и фиксацией ареала потенциальной экспансии власти. В конкретной геополитической ситуации России в недрах власти не могла зародиться склонность к пространственному самоограничению: власть осмысливала пространство своего воспроизводства как лишенное пределов, бесконечное. Это различие, кстати, имеет далеко идущие последствия, и, в частности, должно быть учитываемо теми, кто призывал и призывает Россию и российских реформаторов ориентироваться на так называемую «китайскую модель». Россия, во всяком случае с XVI–XVII веков, не была заинтересована в какого-либо рода конструктивной фиксации пространства власти и ограничении ареала колонизации. Поэтому она шла не по пути фиксации пространства власти при помощи статических конструктов, а путем маркировки завоеванного пространства при помощи динамичной системы кордонов и крепостей, и при опоре на эти системы обеспечивала постоянное расширение своей территории. Некоторые идеи, отдаленно напоминающие мышление китайских императоров, появляются в последнее время в России, правда, в формах, лишенных китайской амбивалентности и изощренности. Так, с середины 1990-х годов некоторые наши политики державно-патриотической ориентации и, более того, с некоторых пор — ориентации достаточно либеральной, осознавшие (кто раньше, кто позже) несостоятельность ставки на военную победу в чеченском конфликте, призывают обнести Чечню «забором» или, если смотреть реально, отделить Чечню (либо горную часть ее) и создать непроходимую государственную границу между ней и Россией. Что заставляет вспомнить не только Великую Китайскую, но и Берлинскую стену, это железобетонное порождение «холодной войны». У А. Тойнби есть очень важное понятие — «напряжение границы». Он отмечает, что варвары, которые смели границы, отделяющие их от цивилизованного мира, оказываются перед новым, совершенно неведомым им кругом проблем и испытывают замешательство. «Причина деморализации варвара-победителя,— замечает Тойнби, — кроется во внезапном освобождении его от напряжения границы, к чему победитель оказывается психически и морально неготовым».[15] Но напряжение границы — это фактор существования не только «варварского» пространства власти по ту сторону границы-стены, но и пространства власти, структурированного империей по эту сторону. Наличие внешней угрозы, фиксируемое стеной, обеспечивает поддержание необходимого напряжения и жизнеспособности пространства власти как такового. При такой интерпретации становится очевидным не формальное, а сущностное сходство Великой Китайской стены и Берлинской стены. Берлинская стена— такое же средство создать напряжение границы внутри пространства власти, как и три тысячи лет назад. То же самое, наверное, можно сказать и о жесткой, непроходимой корейско-корейской границе по 38-й параллели. На этих разделенных в истории тысячелетиями примерах видно, как некий жестко маркирующий границу конструкт, на первый, поверхностный, взгляд кажущийся чисто фортификационным, военно-техническим сооружением, обретает свой подлинный смысл лишь в контексте технологических, т. е. властных, отношений, оказываясь одним из обнаружений власти, и как он, созданный властным пространством, в свою очередь влияет на породившее его властное пространство. Между тем отсутствие приграничного взаимодействия приводит к накоплению кинетической энергии (или к избыточному напряжению), которая прорывается лавинообразно (объединение Германии). Взаимодействие же в известном смысле нейтрализует эти энергии, уравнивая разность потенциалов. Сегодня граница-стена — признак изгойства того, кто выступает инициатором ее возведения или сторонником ее сохранения. Уже не великие империи отгораживаются от варваров, а слабые от сильных или от еще более слабых (настолько слабых, что им нечего терять, что, как это ни парадоксально, и делает их в каком-то смысле сильными). Наконец, граница-стена задает жесткий вектор трансформации пространства власти — а именно, по образу и подобию страны-границы, т. е. государства, вся внутренняя структура которого организована по типу пограничного, технологически перенасыщенного и «беременного» насилием пространства. Думаю, Северная Корея и Куба в обозримом будущем проявят неэффективность и историческую обреченность этого типа организации пространства власти и границы. Если же, паче чаяния, будет возведен конструкт типа стены между Россией и Чечней или между равнинной и горной частью Чечни (сейчас обнародовано несколько подобного рода проектов), то это будет фактор создания напряжения границы и направленного воздействия на структуру власти внутри России, способ консолидации периферии и властного ядра в рамках значительно более жесткой, нежели сейчас, технологической структуры. * * * Таким образом, на рубеже веков Россия столкнулась с феноменом тотальной уязвимости своих границ и, возможно, необратимой трансформацией (часто — дегенерацией) приграничного буферного пространства. Генетически, исторически нынешняя уязвимость границ и приграничных буферных зон — следствие многовековой гипертрофии властных технологий и слабости, вторичности гражданской, стихийной, «народной» колонизации. Последствия такого положения вещей «накапливались» на протяжении столетий, и это «колонизационное наследство» серьезно затормозило процесс формирования гражданского общества в России. Сегодня мы констатируем ряд негативных процессов: во—первых, своего рода «обазиатчивание» границ и пространства в целом, даже в весьма отдаленных от Средней Азии сегментах (скажем, на Дальнем Востоке); во-вторых, деколонизацию Севера и своеобразное провисание, неподкрепленность примыкающим пространством власти северной границы; в-третьих, очевидную бессмысленность сохранения в прежнем виде сверхжесткой западной, русско-европейской границы и в то же время полную неопределенность путей ее трансформации. Таким образом, дегенерация границы — это следствие и одновременно стимулятор разрыхления сверхцентрализованного пространства власти. Это разрыхление означает ослабление и разрушение системы технологий, созданной властной колонизацией, проявление потенциальной и реальной технологической недостаточности, с одной стороны, и эрозии зон технологической избыточности, с другой. И все это — при отсутствии новых технологий, адекватных демократическому гражданскому обществу. Очевидно, рецепты ужесточения техноструктуры приграничных зон в исторической перспективе неэффективны, хотя, разумеется, подобная констатация не отрицает необходимости наведения порядка в приграничных зонах, т. е. прежде всего борьбы с незаконной миграцией, криминалитетом и коррупцией. Реальным противовесом деградации границ, опоясывающих пространство, сформированное властной, правительственной колонизацией, может быть только становление гражданского общества, развитие и укрепление присущих ему «гражданских» технологических и дисциплинарных структур. [1] Основные концептуальные позиции автора кратко изложены в кн.: Королев С. А. Бесконечное пространство. Гео- и социографические образы власти в России. М., 1997.
[2] Ключевский В. О. Сочинения: В 8 т. М., 1956. Т. 1. С. 31.
[3] Очерки методологии познания социальных явлений. М., 1970. С. 286.
[4] См.: Королев С. А. Восстание Булавина: конфликт колонизаций? // Независимая газета.10.12.2000; Королев С. А. Конфликт колонизаций. Российская власть и становление независимых социальных пространств. М., 2001.
[5] «А если царь наш не станет жаловать, как жаловал отцов наших, дедов и прадедов, или станет нам на реке какое утеснение чинить, и мы Войском от него отложимся и будем милости просить у вышнего творца нашего владыки, а также и у турского царя, чтоб турский царь насот себя не отринул» (Булавинское восстание (1707–1708 гг.). М., 1935. С. 464).
[6] История крестьянства России до 1917 г. М., 1993. Т. 3. С. 135.
[7] Подробнее об этом см.: Королев С. А. Нужна ли России новая столица? Глобальный эксперимент как панацея от всех зол // Философские науки. 2000. № 4.
[8] Замятин Д. Н. Моделирование географических образов. Пространство гуманитарной географии. М., 1999. С. 157.
[9] Там же. С. 168, 160.
[10] См.: Замятин Д. Н. Указ. соч. С. 161.
[11] Бродель Ф. Что такое Франция? Пространство и история. М., 1994. С. 274.
[12] Клю чевский В. О. Сочинения. М., 1958. Т. V. С. 194.
[13] См.: Подорога В. Знаки власти // Киносценарии. 1991. № 3. С. 185–186.
[14]Цит. по: Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. С. 543–544.
[15] Тойнби А. Дж. Указ. соч. С. 552 |