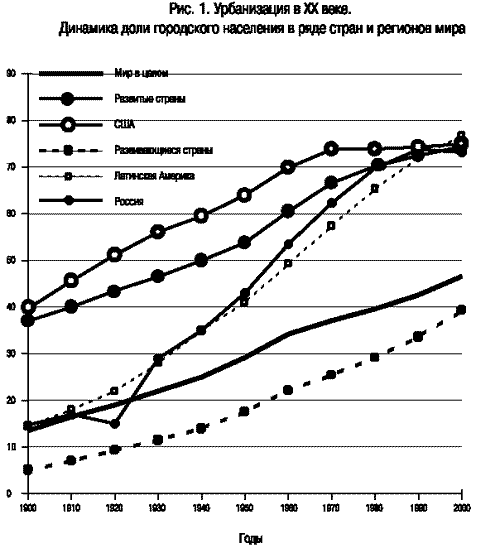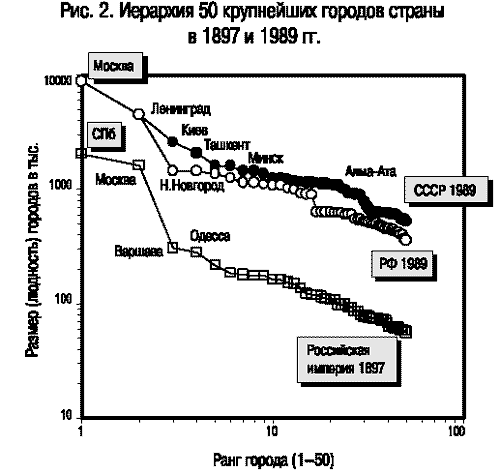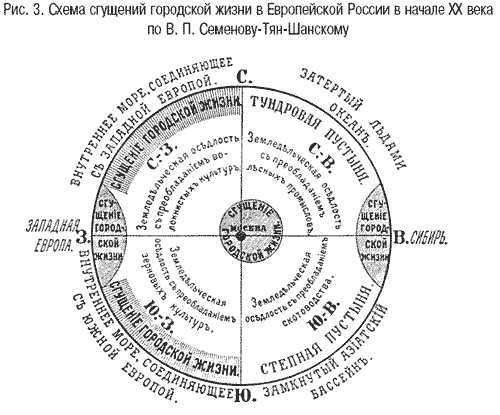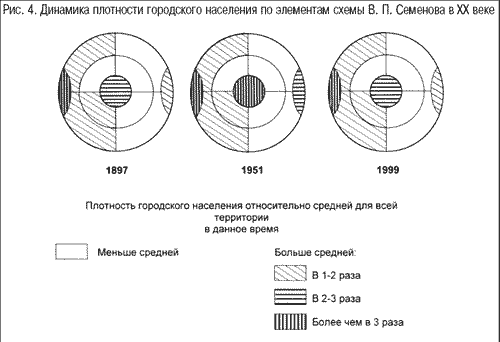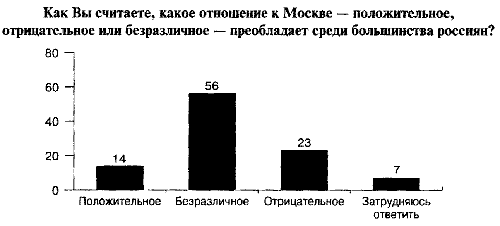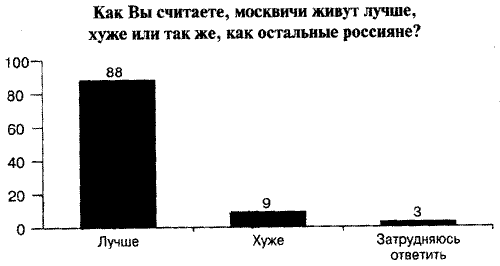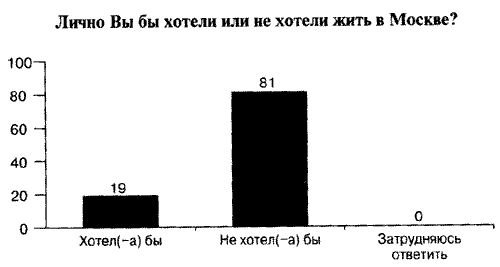Инерция российского пространства и динамика его главных центров
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 6, 2002
| При всей универсальности урбанизации, у разных наций и эпох — свои «счеты» с городом. Не только облик, способы внутреннего управления, но и отношение к окрестному миру отличает античные полисы Греции от столиц императорского Китая, средневековые бурги от расползшихся в бесконечные пригороды метрополисов современной Америки. Пространство страны и его центры связаны множеством нитей. Ведь города, как говорят урбанисты, растут не столько «из самих себя», сколько из внешних, часто обширных связей. Их сети различаются своей плотностью и строением, типами расположения и ведущими профессиями (функциями) центров. Они впитывают и отражают присущее данной культуре отношение к пространству.[1] В свою очередь, эти узлы связей, командные центры страны и пути сообщения между ними, по словам классика советской географии Николая Баранского, формируют каркас обитаемой территории, придают ей определенную конфигурацию. Центры играют роль витрин, символов своих стран, и эта роль не всегда монополизирована официальной столицей. В Германии, Швейцарии, США, Канаде и некоторых других странах ее с успехом выполняют другие города. Крупные и влиятельные центры — это территориальная элита страны, как ее высшие классы — элита социальная. Отчасти потому, что элита в таких центрах и живет, хотя их престиж создает не только она. Опережающее развитие, постоянное обновление, неформальное экономическое и культурное лидерство воспринимаются как высокомерие и эгоизм, вызывают зависть и неприязнь провинций. Тем более, что задолго до так называемой глобализации элитные центры проявляли склонность к сотрудничеству с равными себе в стране и за ее пределами, в том числе через голову и за счет «братьев меньших». Какова специфика сети главных российских городов, как на них влияли и как влияют они на просторы страны? Еще викинги звали Русь Гардарикой — царством городов на пути «из варяг в греки». Все историки и географы отмечают связь этих центров а) с ландшафтными рубежами и реками — основой разделения труда и обмена, б) с торговлей дальними и местными (лесными) товарами, в) со славянской колонизацией. Характерна симметрия двух центров, вывозных факторий русской торговли по В. О. Ключевскому. Киев вырос чуть ниже, южнее веера путей, образуемого Днепром с притоками, у выхода из лесной полосы в степь. Великий Новгород — северней веера рек, питающих озеро Ильмень, у выхода из него в Ладогу (Неву, Балтику) и границы смешанных лесов с таежными. В местах пересечения реками тех же межзональных границ стоит много наших центров, от Курска и Пскова до Новосибирска и Красноярска, где тайга переходит прямо в степь и сужается, выклинивается Главная полоса расселения. Эта полоса задана самой природой равнин и отношением к ней городов, хотя морские порты и центры добычи сырья раположены иначе. Интразональны и города Волго-Окского междуречья, включая Владимир и Москву, но они тоже встали на водных путях, в местах контакта плодородных ополий с полесьями. Искони тесна связь между городами и региональной структурой России. По В.О. Ключевскому, в IX веке ее составляли уже не племенные, а городовые области, торговые округа. Занимаясь войной и торговлей, князья до XI века не имели деревень и пашен; «мещанские» законы Русской Правды село оставляли в тени.[2] Центры Руси, мало уступая европейским, резко возвышались над ее землями, заселенными в 5–10 раз слабее. Они дали имена княжествам, губерниям, а потом субъектам РФ (кроме 32 этноавтономий и пяти «позднерусских» регионов: Алтайского и Приморского краев, Амурской, Камчатской и Сахалинской областей). Ранняя централизация страны, не добив регионализма, вписала его в систему административных ячеек, часто прямых наследниц старинных земель с их центрами. В этой связи вызывают иронию официальные 50–60-летние юбилеи областей, имеющих по сути многовековую историю. От исторических провинций в Европе их отличают не племенное и заданное природой дисперсное заселение, а особое полисное устройство, моноцентризм, иерархия центров (младшие «пригороды» Новгорода). И на российских банкнотах мы видим не чьи-то портреты, не архитектурные символы, как на евро, а города, часто с дальними объектами-спутниками (Красноярская ГЭС и др.). В масштабе страны это точки; к ним она и редуцирована, являя образ страны-созвездия.[3] Гряда городов между Балтикой и Черным морем не исчезла после ударов Орды; к ней добавились новые. Но назвать страну городской было бы, писал Ключевский, слишком неточно, как по отношению количества городов к пространству, так и по характеру городов, из которых многие только носили это имя, имея вид и значение большого села. Давно и равномерно обжитым пространствам тоже не хватало центров. Среднее расстояние между ними в основных районах Европейской России начала XX века достигало 60–85 км, на Урале — 150, в Сибири— 500 км. Теперь за Уралом оно вдвое меньше, но на западе страны сократилось лишь до 45–75 км. А центр Европы уже лет пятьсот покрывает сеть городов, отстоящих на 20–30, даже на 8–15 км. Там крестьянин за день пешком успевал на рынок и обратно, горожанин — достигал соседнего города. У нас же и на лошадях могли ехать сутками. Затрудняя обмен, это прививало деревне привычку к универсализму и самообеспечению, в том числе в сфере ремесла, торговли (сельские ярмарки) и т. п.[4] Кажущийся исконным городской динамизм — явление не столь давнее. До1861 года, несмотря на учреждение Екатериной II сотен новых городов, прирост их жителей уступал сельскому, а та скромная доля городского населения (13процентов), с какой мы вошли в XX век, была вторым выходом на рубеж, взятый еще в начале XVIII века. Перемены несли александровские реформы в середине XIX века и рост индустрии во второй его половине, но до поры все равно преобладала внегородская индустриализация. В 1910 году на территории современной Европейской России из более чем 700 истинных торгово-промышленных городов В. П. Семенова-Тян-Шанского лишь 45 процентов имели статус города, а сотня «статусных» — не были истинными экономическими.[5] Промышленные города пугали и славянофилов, и западников.[6] К XX веку у империи были два столичных города-миллионера, Петербург и Москва, десяток меньших «окон в мир» на западных и южных окраинах, а третий чисто российский центр Саратов в общем списке лишь замыкал первую дюжину, насчитывая 137 тысяч жителей. Эту картину не сразу изменили даже сталинские пятилетки. И все же к1970году американский географ Харрис имел основания заявить, что СССР — это земля больших городов, которых больше, чем в самих США.[7] На общем фоне урбанизация России в XX веке выглядит стремительной (рис. 1). Стартуя со среднемирового уровня, в 2–3 раза меньшего, чем на Западе, мы догнали его после всех потрясений по доле городского населения около 1980 года, чуть раньше Латинской Америки, трасса которой очень близка к нашей. Азия и Африка пока что разгонялись. Но ничто не вечно и не линейно, потому кривые на графике имеют S-образный вид: раскачка, взлет и затухание при доле горожан около 3/4; к этой отметке первыми вышли Европа и США. А лет через 20 городское и все население России стало убывать быстрее, чем в Европе, за счет низкой рождаемости и особенно высокой смертности, вопреки притоку мигрантов из СНГ. Исчерпание демографических ресурсов, долгое время служивших источником роста населения почти всех фокусно-городских ареалов страны, проявилось довольно давно и сказалось на позициях этих ареалов. Так, в 1950 году Московская агломерация делила с Парижской 4–5-е места в мире по числу жителей. К1990 году они уступали 15 гигантам, а после 2015 года, по прогнозам, выйдут и из списка первых 30, где станет намного больше представителей развивающихся стран. Итак, по своей поздней, но быстрой урбанизации Россия похожа на другие среднеразвитые страны, а демографически она уже ближе к Западу. Об этом говорит и ситуация с естественным приростом населения, и подобные западным проблемы с мигрантами (гастарбайтерами), которых привлекают наши городские центры. В то же время сеть этих центров далека от западной (особенно от европейской) по уровню развития, доходов и географическим параметрам.
Иерархический (ранжированный) ряд крупнейших городов Российской империи — СССР к 1990 году стал более плавным за счет подросших столиц союзных республик. В рамках РФ до 1960 года так и оставалось всего два города-миллионера. Они выделяются еще резче, чем в Союзе, где разрыв между ними и прочими центрами сглаживало присутствие Киева и Ташкента (рис. 2). Кроме того, за XX век усилился контраст между первым городом, ныне Москвой, и вторым, то есть С.-Петербургом, с его «областной судьбой». Благодаря вновь обретенному столичному статусу, узловому положению в сети коммуникаций, включая авиасообщения, и вопреки сравнительной глубинности положения, Москва в значительной мере перехватила у Питера даже роль окна в Европу. В итоге страна по существу лишилась такой важной черты, присущей ей в течение двухсот лет, как двухстоличность. Зато в пределах собственно России выровнялись 15–20 центров, следующих за лидерами и в известном смысле разобравших былой столичный потенциал Петербурга — Ленинграда. Кстати, одно лишь Подмосковье — самая мощная в стране городская агломерация — даже без его центра по своим масштабным признакам составляет как бы вторую северную столицу, но только рассредоточенную вокруг первопрестольной и не имеющую в своем составе особо крупных городов. В шеренге последних некий перепад людности обозначает Тольятти — 17-й в их списке, первый без статуса региональной столицы, но при этом третий промышленный и даже торговый центр страны (что связано с его специализированным авторынком).
В целом для России характерна более высокая концентрация экономической деятельности и особенно сервисно-торгового оборота, чем населения. Оценки объемов индустрии, общего оборота товаров и услуг, а также сравнительно свободного (или так называемого эластичного) спроса населения в40 агломерациях РФ[8] показали, что все они, вместе взятые, концентрировали около60процентов населения страны, 69–72 процента ее промышленной продукции и оборота,78–79 процентов спроса на предметы потребления, за вычетом самых насущных. По объему последнего Московская агломерация, при ее «сверхдоходах» (за счет нуворишей и среднего класса в самой столице), в 7 раз опережала Петербургскую, не говоря об остальных. Ранжированный ряд агломераций по объемам оборота торговли и услуг падает не так круто, а среди промышленных лидеров контрасты вовсе невелики: узлы Урало-Поволжья и Сибири теперь не слишком уступают столичному. Эта тенденция отмечена давно, но резко усилилась за 90-е годы. После дефолта 1998 года сдвиг индустрии (ставшей в годы кризиса более первичной, топливно-сырьевой) на восток приостановился, однако в принципе с тех пор изменилось немногое. Ориентация российского производства на внешние рынки усилила срединный индустриально-экспортный «хребет», вытянутый по оси Таймыр — Ямал — Урал — Волга — Дон и, так сказать, наискось скрепляющий западную часть России с восточной. Для самой экономики его расположение, учитывая затраты на добычу сырья и его доставку за рубеж, не слишком удачно; для единства и безопасности страны — скорее наоборот. В то же время смещение в эту срединную зону экспортного производства увеличила структурный контраст между ее центрами и теми очагами постиндустриализма, что окаймляют аграрно-промышленный массив России. Даже самые крупные центры со столицами регионов, лежащих между Волгой и Байкалом, функционально проще и архаичнее столичных и приграничных центров-ворот. По словам В. Л. Каганского, поляризация пространства России проявляется в том, что в главных центрах доминирует работа со знаками и символами (политика, масс-медиа и др.), на периферии, а точнее сказать, в глубинке — с вещами (производство или натуральное хозяйство). В центрах жизнь зависит от курса доллара, в провинции — от погоды и урожая картошки, овощей.[9] Люди здесь и там живут как бы в разных эпохах, социальных и ментальных координатах. В течение «переходного» десятилетия поляризация нарастала: центры пытались модернизироваться и монетаризироваться, а периферия нищала, забывала о деньгах, опускалась куда-то в глубь феодальных времен, во власть кормилицы-земли, кормильца-леса и их квазихозяев. Справедливости ради напомню, что это происходит не впервые в нашей и не только нашей истории. Догоняющее скачкообразное развитие и радикальные реформы, типичные для стран глобальной полупериферии, часто требуют мобилизации, «сжатия в кулаки» ресурсов и самого пространства. Достигаемая этим конвергенция, сближение немногих элитных центров с центрами стран-лидеров и образцов для подражания чревата дивергенцией периферий. Но тут есть своя логика, та же, по которой обществу нельзя без элиты — ведь без развитых центров немыслима и развитая периферия.[10] В частности, известно, что судельно-феодальной системой и ее наследием трудно покончить без городских прав и свобод. Впрочем, постсоветская социальная бесконтрольность, вольница в крупных центрах, лишенных прямого государева надзора и коммунальной культуры, дала такой всплеск личной свободы (творческой, созидательной и криминальной, деструктивной), какой и не снится зарегулированному западному обществу. Кроме того, у нас сама схема диффузной модернизации дает сбои. До дальней периферии ее волны могут не дойти, увязнуть на проселках. Вот откуда старое, идущее, пожалуй, от П. Я. Чаадаева, представление о том, что Россия —это царство пространства, а не времени, где слишком много географии и мало истории. Современные теоретики модернизации выражаются иначе: конфликт двух скоростей (укладов, классов и т. п.) дополняет и поглощает конфликт пространств, притом хронический. Реформаторам России порой удавалось обмануть время, пустить его вскачь хотя бы в тех же центрах. Куда труднее обмануть пространство с его инерцией, не потонуть, не утопить в нем даже самые лучшие начинания. И хотя нельзя не видеть сдвигов, произошедших если не с самой землей, то с распределением по ней людей, с пространственной структурой общества за век урбанизации и больших скачков, многие свойства этой структуры на редкость устойчивы. Географически центры России, как уже говорилось, были и остаются подобны разреженному созвездию или архипелагу островов в океане периферии. Периферии первичной и внешней, т. е. окраинной, слабо освоенной, и периферии внутренней, часто вторичной, — результата депрессии и депопуляции, охватившей как сельскую глубинку, так и местные центры. Забудем на миг обо всем океане и посмотрим на особенности и параметры архипелага. Его историческую западно-восточную асимметрию неплохо отражает порядок средних геоцентров, т. е. расчетных центров тяжести населения городов разных «весовых категорий»[11]. Центр всех горожан вот уже более 40 лет топчется в районе Уфы, находясь в 2 400 км к западу от центра территории РФ (Эвенкия) и в 1 200 км от центра ее обжитых земель (между Омском и Новосибирском). Центр больших городов людностью от 100 тысяч жителей и более после 1970 года остался у западной границы Башкирии. У городов с населением свыше 500 тысяч человек он лежит еще на 80 км к западу (Татария), а у городов-миллионеров— дальше на 425 км (630 км от общегородского, северо-западная окраина Чувашии). Значит, при всех сдвигах остается в силе правило: чем крупнее города, тем они в целом западнее, ближе к историческому ядру страны. Кроме всего прочего, это делает их сеть более плотной и компактной. Недаром в СССР разрабатывалась оригинальная концепция каркаса расселения либо территории (трактовки были разные). При избытке разреженных пространств и нехватке опорных центров особый эффект дает внутрикаркасная экономия дистанций. Правда, ее оборотной стороной становится отрыв сближающихся метрополисов от их районов и от периферии в целом. По расчетам О.К. Кудрявцева, у 272 больших и у 45 крупных городов СССР среднее расстояние до соседа составляло 54 процента от расчетного (при гипотезе равномерного размещения центров), т. е. было почти вдвое короче.[12] Новые данные по 10 первым центрам ряда стран приведены в таблице. Для СССР оценка экономии составила почти ту же величину, хотя расчет теоретического расстояния ближайшего соседства не на всей, а на обжитой территории снижал ее вполовину. За 90 лет эффект уменьшился из-за потери Польши и сдвига на восток. Но в рамках РФ он остается большим. Из крупных стран и регионов рядом с ней по относительным показателям — Китай и США, чьи сети центров жмутся к их восточным равнинам; прижатость канадской «ойкумены» к южному рубежу такой роли не играет, ибо центры растянулись вдоль всего этого рубежа. Односторонняя асимметрия обитаемого пространства — не редкость. Но у нас, в отличие от США, Канады, Бразилии и «тонзурной» (с пустынной «лысиной») Австралии, ее дополняет не окраинность, а, наоборот, глубинность главных центров и особенно их удаленность от побережий. Одним из самых ярких примеров служит тот факт, что Россия, в отличие от США и Канады, так и не создала мощного городского полюса на Тихом океане. Волны освоения туда зачастую просто не доходили, гасли в Сибири. До середины ХХ века рост многих приграничных центров сдерживали сознательно, из военно-стратегических соображений. Среднее расстояние 20 городов-лидеров РФ с учетом их размеров до ближайших морей достигает 730 км: это больше, чем в СССР, не говоря о Российской империи (см. таблицу). На американском континенте и в странах Евросоюза оно в три-шесть раз меньше. В Европе абсолютные дистанции до морей и границ коротки, но с учетом размеров территории и типичных расстояний они могут быть весьма значительными (22–29 процентов приведенных радиусов территорий). Россия же, судя по этому параметру, — страна скорее азиатская. Общая степень периферийности ее центров та же, что у Индии и Китая: 12–13 процентов условного радиуса. Трение пространства — общая проблема стран-гигантов — обостряется в России периодически. В 1830–40-х годах не один Пушкин и «безумный Чаадаев», но сам царь Николай I считали расстояния ее проклятием. Почему именно тогда? Да потому, что страна отстала с устройством железных дорог, сжавших уже дистанции в Европе; иными словами, национальный комплекс неполноценности возникал (как он обычно и возникает) от неприятного сравнения. К XX веку этот разрыв явно сократили, началась великая эпоха русского «рельсового империализма». Теперь у России снова комплекс, и снова не так из-за самих расстояний, как из-за способов и цен их преодоления. Мы застряли в эпохе не очень быстрых и технически не лучших поездов. Средние кратчайшие расстояния между 10–20 городами в ряде стран и регионов
Этот все еще самый народный транспорт в 90-е годы сократил перевозки грузов в шесть раз, а пассажиров — вдвое. Студент МГУ Д. Малиновский по отношению тарифов на поездки поездами между Москвой, Новосибирском, Владивостоком и центрами прочих субъектов РФ к душевому доходу их жителей в1985 и 2001 годах выяснил, что для «богатых» москвичей страна стала ближе (увы, до нового подорожания билетов с 2002 года). А большинству провинциалов поездка в Москву уже обходилась в 1,5–3,5 раза дороже, нежели раньше. Жителю Забайкалья и юга Дальнего Востока, чтобы навестить родню на западе России и вернуться назад, нужно было скопить два месячных дохода. Лишь для жителей Петербурга, Самарской области и нефтяного Приобья столица стала экономически ближе, доступнее, чем в советское время. Усилия по ускорению движения пока сосредоточены на направлении Москва— Петербург и отчасти Москва — центры смежных областей (экспресс-электрички). Трехчасовая изохрона доступности Москвы выходит за пределы200км— расстояния до Рязани, Калуги, Твери, Владимира — лишь по Октябрьской дороге, где едва превышает 300 км (Бологое). А вот из Парижа за три часа с небольшим можно доехать до Лондона, Амстердама, Кельна, Франкфурта, Штутгарта, Марселя, Бордо, покрыв до 500–750 км. В ближайший к Москве город-миллионер Нижний Новгород (450 км) поезда идут по семь часов: ни за день обернуться, ни толком выспаться. Нижний Новгород — один из аутсайдеров всероссийских межгородских гонок в широком смысле слова, причем относительная близость к столице его скорее угнетает: там ясно ощущают, что накрыты «тенью» столичного монстра. Недаром Нижний стал одним из эпицентров антимосковских настроений, коих почти не осталось у жителей таких исторических соседей-соперников Москвы, как Рязань или Тверь. В этом смысле положение более дальней поволжской Самары, экономически дополняемой соседним Тольятти, пожалуй, удачнее. Правда, можно еще сблизить Нижний с Москвой при помощи транспорта и связи, плотнее втянуть его в орбиту столичной активности, чего он заслуживает не меньше, чем Санкт-Петербург. Межгородское соперничество вообще-то тем острее, чем тяжелее экономическая ситуация, ‘уже профиль городов, ограниченнее внутренние импульсы их развития. Неудивительно, что черты периферии по сей день присущи многим крупным «каркасным» центрам России. Но как все-таки понять, что изменилось (если изменилось) в самых главных географических параметрах городской жизни России за истекший век? В. П. Семенов-Тян-Шанский почти сто лет назад предложил схему «городских сгущений» Европейской России под влиянием физико-географических, исторических и экономических причин по «принципу кольцеобразности вокруг главного центра»[13] (рис. 3). На ней показаны сгущения городской жизни в сердце Русской равнины (Москва — Нижний) и по ее окраинам: на переходах к Европе (тогдашняя Польша), к Сибири (Урал) и на двух морских флангах, Балтийском и Черноморском. Смыканию внешнего кольца в северо-восточном и юго-восточном «квадрантах» мешают природные условия.
Можно проверить устойчивость этой схемы по статистике населения, разделив примерно ту же территорию (теперь это Европейская часть РФ, западные страны СНГ плюс Польша) на четыре сектора-квадранта, центральный круг, два кольца и два сегмента на западе и востоке. Их пересечение дает 11 элементов.[14] Отнеся число горожан к площади обжитых земель в пределах этих элементов (с плотностью жителей выше 1 чел./кв. км), примем простые градации, кратные средней по всей рассматриваемой территории густоте городского населения на каждый момент времени. Судя по рис. 4, схема выходит абсолютно идентичной в самом начале и в конце века. Единственное отличие от схемы Семенова состоит в том, что он все-таки упустил некоторое сгущение горожан в середине юго-западного квадранта, наблюдавшееся в течение всего столетия. Его послевоенная середина временно повысила относительную плотность горожан в Центре и на Урале. Правда, теперь северо-западная приморско-приграничная дуга с фокусом городской жизни, сосредоточенной, как писал В.П. Семенов, мощной рукой Петра Великого у побережья Балтийского моря, уже мало превосходит средний уровень плотности, уступая дуге юго-западной. А срединный юго-восточный элемент (Средняя Волга и Предуралье) близок к тому, чтобы пополнить число сгущений. Но факт остается фактом: качественная схема городского развития, данная классиком русской географии, почти совпала с картиной, полученной по чисто количественным показателям спустя сто лет! Преемственность пространственного развития, несмотря на все сдвиги, смену столицы, распад страны и т. д., в наше время усугубляет сходство внешней геополитической и геоэкономической ситуации, опять повысившей роль окон в мир; к ним, кроме Балтийского и Черноморского, и даже в первую очередь, относится теперь центральное-столичное «окно».
Вывод напрашивается сам собой. В общей форме он звучит, быть может, тривиально, но от того не менее значительно: с пространством России шутки плохи! Оно недолюбливает эксперименты, экспериментаторов и обычно оказывается сильнее, даже когда на их стороне большие и мобильные материальные ресурсы, непреклонная воля преобразователей. Законы, инерцию и, если угодно, консерватизм пространства следует уважать и понимать глубже (а мы, надо признать, понимаем их слабовато). Главным средством организации и контроля этого пространства служат его основные центры, города. Их сети и системы от него неотделимы, с ним срослись, стали его ключевой частью. Можно сказать, они его и «делают», в то же время обладая собственным строением и логикой развития. Не имея демографических, финансовых и иных ресурсов для расширения этой по-прежнему дефицитной сети, создания новых крупных центров и узлов, придется исходить из того, что есть. Но быть вдвойне осторожными при планировании и осуществлении таких вроде бы доступных и заманчивых административных мер, как перекройка внутреннего деления или перенос столицы. По сути география учит тому же, чему история: перескакивать в пространстве не менее опасно, чем во времени. Этот урок можно понять и применить по-разному. Но если продолжить аналогию с архипелагом центров в океане периферии и допустить, что океан потому так могуч, что хилы острова, то получится, что укреплять в первую очередь придется их. Дальше реанимацию пространства, наверное, надо вести через прибрежные воды, то бишь через пригороды, этот особый мир центро-периферии с его особой средой, бойким (хотя полутеневым) рынком жилья и земли. Однако об этом следовало бы говорить подробно и отдельно. В масштабах же страны остается верной старая истина: земля и люди — два наших главных богатства и две главные боли. [1] К примеру, христианские города Европы экстравертны, обращены вовне и раскрыты на природу (важен вид на здания и вид из них); отсюда мощные перспективы, «прозоры» в старых русских городах. Жилища и города исламского Востока, защищая их жителей от жара пустынь, замкнуты и дробны, их внутренние пространства (дворы, кварталы) по-персидски миниатюрны.
[2] Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. М.: Мысль, 1993. Кн. 1. С. 116, 143, 219.
[3] На этот ее образ, в итоге образ северной, лесной, промышленно-городской, асимметричной и как бы столично-периферийной державы (центры на купюрах, кроме столиц, – не самые большие, притом чаще окраинные) указал В. Каганский в книге «Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство» (М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 451–460).
[4] Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVIII – начало ХХ в.). СПб.: Дм. Буланин, 1999. Т. 1. С. 286; Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. М.: ОГИ, 2001. С. 77.
[5] Семенов-Тян-Шанский В. П. Город и деревня в Европейской России. СПб.: Типогр. Киршбаума, 1910; Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен.
[6] Представитель первых И. Киреевский желал, чтобы правительство «не позволяло фабрикам заводиться внутри городов и особенно столиц, когда они с такою же выгодою могут стоять за несколько верст от заставы». Западнику Н. Огареву не нравилось, что на Западе «город поглотил все»; у нас же «борьба естественно решается в пользу сел, потому что наши города только правительственная фантазия» (цит. по: Вишневский А. Г. Серп и рубль. М.: ОГИ, 1998. С. 95).
[7] Harris Ch. D. Cities of the Soviet Union: Studies of their Functions, Size, Density and Growth. Chicago: Rand McNally, 1970. Р. 1–5.
[8] Общий размер оборота оценивался по суммам фиксируемых статистикой оптовых (включая прямые продажи предприятий) сделок, оборота розничной торговли и платных услуг. Объем спроса, условно названного эластичным, рассчитан по разнице между массой персональных доходов и неизбежных для населения платежей, соответствовавших местному прожиточному минимуму.
[9] В. Каганский. Указ. соч. С. 251.
[10] Грицай О. В. и др. Центр и периферия в региональном развитии. М.: Наука, 1991. С. 106.
[11] Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. М.: ОГИ, 2001. С. 345.
[12] Кудрявцев О. К. Расселение и планировочная структура крупных городов-агломераций. М.: Стройиздат, 1985. С. 68–69.
[13] Семенов-Тян-Шанский В. П. Указ. соч. С. 207.
[14] За точность привязки современных регионов (или их частей) к элементам картоида В. П. Семенова ручаться трудно. Не будем перечислять их полный состав; укажем только, что в центр мы поместили шесть старопромышленных регионов (от Москвы до Н. Новгорода и от Ярославля до Тулы), что восточный сегмент – это старый Урал, а западный – Польша ( с середины века вся современная) и Запад Украины (Галичина). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||