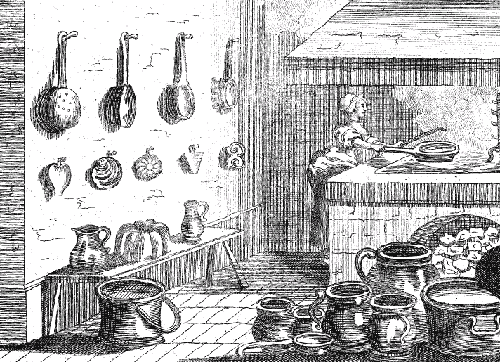Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2002
| На вопросы Татьяны МАЛКИНОЙ отвечает Леонид Семенович, мы попросили Вас об интервью, потому что, с одной стороны, Вы знаете крупный бизнес изнутри, а с другой, в последнее время довольно плотно занимаетесь методологическими разработками налоговой реформы. Налоговые чиновники обычно уговаривают платить налоги, а бизнесмены объясняют, почему платить налоги невыгодно. Ваша же позиция в некотором смысле уникальна. Давайте попробуем обсудить не собственно технические аспекты проблемы, а, скорей, философские. Например, применительно к налогам принято говорить о некоем «общественном договоре» между государством и гражданами, о консенсусе, который требуется достичь, для того чтобы налоговая система была эффективной. Что вы думаете о параметрах подобного договора в России и о перспективах достижения налогового консенсуса? Я не верю в то, что налоги и слово «согласие» имеют знак равенства или даже могут быть членами одного уравнения. Я вообще не верю в то, что кто-то готов добровольно отдавать деньги. Благотворительность — это другое. Благотворительность и сходные с ней явления есть некоторые функции количества денег, которыми владеют люди. И когда денег очень много, тогда возникает мысль, что так много тебе в общем-то и не надо, и мысли о душе, кстати, возникают обычно в тот момент, когда денег или очень много, или совсем мало. Разговор о налогах— это, прежде всего, разговор о нормальных людях, так ведь? И поэтому рассуждения в привычных терминах — мол, давайте достигнем согласия: мы сделаем вашу жизнь безопасной, а вы, ребята, нам будете платить за это — это ерунда. Налоги — это вовсе не вопрос согласия. Я бы составил другое уравнение: налоги = государство. Это просто: если нет бюджета (а бюджет, если у нас, конечно, демократическое государство, собирается только из налогов), — то нет и государства. И поэтому вопрос о налогах в России сегодня – это, в общем, вопрос о том, в состоянии мы построить государство или нет. А государство — это в большой мере просто компания. Очень большая компания. Строго говоря, таких больших компаний в мире нет, однако все законы, которые действуют в управлении крупным бизнесом, будут действовать и в управлении государством. В большой компании есть все: есть политика, есть интриги, есть разные группировки, партии, борьба за власть — все что угодно. Так что, с моей точки зрения, будет вполне приемлемым допущением сказать, что есть корпорация «Россия» — это такая большая компания, у которой есть 140 миллионов акционеров, которые голосуют раз в четыре года на акционерном собрании, голосуют и выбирают себе менеджмент, ибо борьба за эти голоса идет такая же точно, как на акционерном собрании в любой другой компании. Государство — это финансы, как и любая компания. Если у компании есть деньги, она — компания. Если у компании нет денег, она — тьфу. Так же и государство. Почему американцы такие крутые? Потому что у них все хорошо с деньгами. И почему мы такие хилые? Потому что у нас амбиций много, а денег мало. На страну, мне кажется, имеет смысл смотреть так же, как и на компанию — через призму науки об управлении. И что же наука об управлении предписывает делать с налогами в стране-корпорации «Россия»? Глядя на сегодняшнюю налоговую ситуацию в стране, можно вообще сказать, что страны не существует. Не существует страны, так как не существует бюджета. Кое-какой бюджет, конечно, есть, но это — бюджет, адекватный стране размером, скажем, с Латвию. Самое смешное, что если по большому счету посчитать, то мы — одна из самых богатых стран мира. Ну, это всем известно… Да, всем, в общем, известно, что Россия — очень богатая страна, но также известно, что у нее мизерный бюджет. Мне кажется, это сочетание должно заставлять задуматься: может, что-то здесь неправильно? Налоги — это насилие. Точнее, насильственный отъем части доходов граждан с элементом компромисса. В том, что этот насильственный компромисс продиктован заботой о благе общества, нет никаких сомнений, и в этом смысле насилие, о котором я говорю, — особенное. Насилие такого рода мы часто совершаем над собой сами: когда бегаем, чтобы похудеть, когда не едим то, что нам нравится, потому что это вредно, ну и так далее. Именно в этом смысле налоги — это насилие. Главное, чтобы оно не превращалось в издевательство. А в России налоговая система и практика пока выглядят как издевательство. Так что же наука об управлении? Единственное, в общем, фундаментальное правило, касающееся налогов, состоит из двух параграфов. Первый: для того чтобы люди платили налоги, во-первых, они должны бояться их не заплатить. Второй: по мере того как люди боятся и платят, у них вырабатывается привычка это делать и впредь, которая при правильном идеологическом обеспечении может даже превращаться в чувство гордости. В мире есть некоторый опыт следования этому правилу. Скажем, Соединенные Штаты — замечательный пример того, как боязнь людей превратилась в осознанный долг, иногда окрашенный в патриотические тона. Всего за век они прошли такой длинный путь — от страны, в которой никто не хотел платить налоги, — вспомните 20–30-е годы прошлого века. У них же до середины XIX века не было федеральных налогов. Это неважно — были муниципальные налоги. Тем не менее, американские граждане дружно не хотели их платить, а американские власти не очень удачно пытались их собирать. Когда Аль Капоне посадили за неуплату налогов, они приводили это как пример блестящего полицейского хитроумия, а в Америке в это время за неуплату в принципе можно было бы посадить любого. Совсем как у нас? Ну да. То есть по развитости фискальной системы мы сейчас как раз примерно на уровне Америки в 30-х: все понимают, что не платят, но риска большого нет. Что, не страшно не платить налоги? Сегодня не страшно. Разве?! Конечно, нет. Что формирует мотивацию платить налоги? Все люди живут по принципу оценки рисков. Мы как дорогу переходим? Смотрим: вон машина, она еще далеко, вроде риск небольшой, можем перейти даже на красный свет. А когда машина приближается, риск начинает возрастать, возрастать, возрастать, и мы уже решаем дорогу не перебегать — потому что риск растет. Пример, возможно, примитивный, но универсально верный: в жизни все так устроено. Каждый раз, когда мы что-то собираемся сделать, мы сначала пытаемся понять: а какие риски? Риски бывают разные. Например, риск сказать начальнику, что ты о нем думаешь. Иногда мы говорим, потому что начальник, по-видимому, проглотит, и мы получим удовлетворение. А другой начальник явно не проглотит, и вы думаете: может, не надо, потому что неприятностей не оберешься. Всякий раз мы взвешиваем риски.
Впрочем, не только риски. Мы всегда оцениваем сразу две вещи: риск и премию. Думаю, что никто из нас не станет ходить по карнизу 50-этажного здания просто так. Но вопрос, сколько людей согласятся пройти по карнизу, если за это будет предложен миллион долларов. Может оказаться, что много. То есть если нам кажется, что риск высокий, но при этом оказывается, что объявленная премия значительная, то мы допускаем этот риск. В России сегодня риск не платить налоги крайне низкий, а премия крайне высокая. Я имею в виду не конкретные налоги, скажем, на физических лиц, а налоги вообще: компании не платят, бизнесмены не платят и так далее. То же с таможенными пошлинами— это тоже налоги. Теперь возникает простой управленческий вопрос: а что надо делать, чтобы платили налоги? И ответ на это очень простой. Надо повысить риск и понизить премию. Почему в Америке все платят налоги? Там существует легенда, что если ты не заплатил налоги, то тебя обязательно поймают или вероятность того, что тебя поймают, крайне высока. Конечно, находятся люди, которые все равно рискуют. Но их неизмеримо мало — нормальные люди не хотят рисковать, потому что премия не очень большая. Лучше заплатить положенную сумму налоговых отчислений, чем потом всю жизнь мучиться, сидеть в тюрьме и так далее. Понятно, что риски и премии — это понятия относительные. Банки, например, усиленно охраняются, внутри банков лежит очень много денег, но в бронированных сейфах, а вокруг сейфов — вооруженные охранники. Понятно, что там очень высокие риски. Но находятся же люди, которые грабят банки. В общем, все относительно, и не «вообще», а относительно каждого человека. Каждый оценивает свои риски и премии. Разве российское правительство не попыталось как раз понизить премию, вводя плоский подоходный налог, ставкой которого нам сегодня предлагают гордиться? И собираемость вроде повысилась… Вообще-то бессмысленно понижать премию, не повышая риски. Это будет действием без серьезных последствий. Ну хорошо, относительно снизили премию, ну и что? Люди не платили очень большие налоги, но и чуть сниженные они платить не будут. Платить-то не хочется. Понижение премии должно сопровождаться повышением риска, иначе оно будет неэффективным. Отчего же никто не делает этого очевидного хода — понизить премию, повысить риски? Нет, ход не очевидный. То есть как не очевидный? Вы же только что доказали его очевидность. С точки зрения теории управления ход-то, конечно, очевидный. Но вот насчет применения на практике — тут дело посложней, все начинает казаться не таким уж очевидным. Или неочевидно простым. <…>
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||