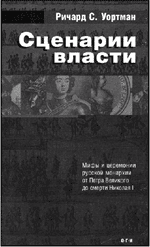Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2002
Похоже что политический миф, утративший свои позиции в «век разума», снова стремится их занять. Сегодня умение создавать и воссоздавать мифы, интерпретировать символы и манипулировать значениями становится едва ли не основной политической технологией. Пресловутый PR, которому поклоняется наше политическое сообщество, есть не что иное, как стыдливое технологическое наименование манипулятивной мифологии. Порою кажется уже, что нет ничего кроме семиосферы, а сама семиосфера поделена между полусферой тотемических зверей и полусферой магических табу. Хотим мы того или нет, но публикация на русском языке первого тома монографии американского историка Ричарда Уортмана, посвященной мифологической саморепрезентации русской монархии, есть факт политический. Специалистам Уортмана и его труд представлять не надо— он был прочитан и оценен несколько лет назад, сразу же по выходе, и перевод имеет значение, прежде всего, для студенчества и для широкой интеллектуальной общественности, которую вряд ли заинтересуют споры вокруг интерпретаций тех или иных тем и источников, но которая порядком соскучилась, при всем нынешнем книжном многообразии, по увлекательным интеллектуальным приключениям. Тем более что приключение совершается в пространстве родной истории, где не приходится спрашивать о значении каждого предмета. Оценим книгу прежде всего с этой стороны— Уортман и в самом деле предлагает читателю занимательное, полное драматизма историческое путешествие через два послепетровских столетия: захватывающие баталии и церемонии— читателю, полагаю, обязательно запомнятся малоизвестные описания военного смотра при Вертю в 1815 году и открытия Александровской колонны в 1834. Живые фигуры исторических персонажей и, прежде всего, монархов — Павла I и его двух сыновей (более ранние фигуры Уортману как историческому портретисту удались хуже). Пикантные анекдоты и детали вроде пересказанных забавных эпизодов о поездках Александра I по России из свиньинских «Отечественных записок» или замечаний о неустройстве внешне уютного «Коттеджа» Николая I в Петергофе, где после дождей в будуаре императрицы прыгали лягушки, а в гардеробах росли грибы. Другими словами — читателю гарантировано несколько дней удовольствия от текста, поданного, к тому же, в хорошем переводе[1]. Уортмановская повествовательная манера, желает того сам автор или нет, претендует на то, чтобы предложить определенное осмысление русской истории, в особенности — истории императорской России. Перед нами не ряд сброшюрованных общей темой частных исследований, а единая историческая концепция, если угодно — сценарий, написанный американским историческим постановщиком. Нет сомнения, что во многих своих частях уортмановский сценарий окажет формирующее влияние на исторические концепции будущих десятилетий, хотя бы потому, что историко-семиотический подход американского исследователя позволяет заполнить ощутимую концептуальную пустоту, и по сей день остающуюся после обвала марксистских интерпретаций. Подход Уортмана тем более привлекателен, что он соединен с уважением и даже любовью к своему историческому материалу, — большая редкость среди американских «советологов» и «русологов», да и среди многих отечественных историков, которые и по сей день считают своей обязанностью, подобно герою известного анекдота, «ругать царское правительство». Исследователь воздерживается от каких-либо агрессивных и насмешливых замечаний, даже когда описывает вещи, представляющиеся ему не очень привлекательными, но главное не в этом, а в том, что он показывает русскую монархию и ее представителей как живой общественный институт, оказывающий глубокое и позитивное влияние на историческое развитие России. История императорской России у Уортмана — отнюдь не 23 ступени вниз, и отечественный читатель, порядком подуставший от высокомерных поучений иностранных авторов о «неэффективности», «нежизнеспособности» и «исторической обреченности», может наконец-то отдохнуть за хорошей книгой. Однако на более высоком уровне, там, где от повествования исследователь переходит к обобщению, к его концепции русской истории, рассмотренной через призму мифологии власти, возникает немало вопросов и претензий. Уортман начинает разворачивать свою историческую конструкцию утверждения, что для своего поддержания и укрепления власть нуждается в целой системе символов, мифов и ритуалов, которые убедили бы подданных в том, что подчинение ей не за страх, а за совесть совершенно необходимо, что сама власть священна и слово ее непререкаемо. Ритуал есть средство легитимизации власти, прежде всего в глазах ее собственных подданных. Тот специфический набор средств, к которому прибегает тот или иной правитель для убедительной саморепрезентации (манифесты о восшествии на престол и коронации, встречи с народом и военные парады, парадные портреты и торжественные оды), американский исследователь предлагает именовать сценарием, имея в виду прежде всего «театральный», репрезентативный, обращенный к зрителю характер действия. Но на русской почве уортмановский «сценарий» попадает в забавную смысловую ловушку, у него возникают «проблемы с кодировкой», и перевод, в лучших тартуских традициях, оказывается «условно-адекватным». Когда мы слышим о сценарии в связи с политикой, более того — в связи с любой сферой, кроме театра и кино, мы думаем не столько об игровом «представлении себя другим» в повседневной и неповседневной жизни, сколько о серьезной и ответственной последовательности отнюдь не игровых действий. Эта последовательность существует, конечно, в условно-сослагательном наклонении — сценарий это не то, что было и есть, сколько то, что возможно, и то, что «может быть, так и есть». Это идеальная схема действия, но любого действия, а не только «презентации». То ли с легкой руки Сергея Кургиняна, то ли с чьей-то еще, но для нас «сценарий» ближе не к представлению, а к военному стратегическому плану или к политической программе. Большинство читателей не будет слишком вчитываться в небольшое теоретическое предисловие и не заметит, скорее всего, этих терминологических тонкостей, а потому поймет уортмановский «сценарий» без слишком явных театральных коннотаций, в более общеупотребительном у нас смысле, тем более что в дальнейшем автор не даст ни одного повода усомниться в ошибочной интерпретации. Уортман, по ходу изложения, очень быстро увлекается темой и переходит от анализа репрезентаций власти, к анализу технологии власти, более того — к анализу властной деятельности. Описываемые им сценарии власти охватывают всю страну сверху донизу, подчиняя замыслу одинокого коронованного сценариста каждое историческое движение огромной страны. Уортману удалось блестяще передать политическую природу самодержавной власти, в которой личный сценарий одного человека становится через механизмы мифа и ритуала сценарием огромной империи, формирует единый исторический стиль эпохи. Микросценарий одной жизни становится макросценарием народа и государства. Но подобная двусмысленность в понятии «сценария» ставит под сомнение первый из двух тезисов Уортмана, на которых он особенно настаивает (и которые, парадоксальным образом, составляют самую слабую сторону работы) — это тезис об изначальной исключенности народа из разыгрывания «сценариев власти». Сам Уортман старается видеть только один уровень сценария — «спектакль» и потому энергично настаивает, что «театр власти в период, которому посвящена эта книга, был спектаклем, исполнявшимся по преимуществу для самих властвующих. Разные слои элиты собирались, чтобы торжественно отпраздновать свое коллективное властвование и оправдать его… прежде всего для самих себя … Элита создает и представляет свою…«героическую историю», тогда как массы пребывают «вне истории» и бессознательно следуют основополагающим символическим моделям своего общества» (с. 20). Другими словами — народ в«сценариях власти» — это толпа зевак, с раскрытым ртом смотрящих на дефилирующие мимо него колонны войск и ряды роскошных карет, причем автор сомневается даже в том,— были ли эти кареты предназначены на посмотрение народу, или же только для самовозвышения тех, кто сидел внутри. Уортман предлагает читателю стройную концептуальную схему постепенной «национализации» русской власти, постепенного включения народа в сценарий, по мере накопления кризисных для самодержавия явлений, потребовавших дополнительной легитимизации через «народность», через представительство нации, такая «национализация» царя из «первого европейца» в «первого русского» происходит в два приема — при Николе I и при Александре III. Схема не нова и с нею согласились бы многие от Георгия Флоровского до Александра Дугина. Но эту схему убедительно опровергает… Ричард Уортман — его описания «больших сценариев» (которых на теоретическом уровне он не видит, но с которыми работает на уровне повествования) включают народ, транслируются на народ и, иной раз, создаются самим народом. Автор, как может, борется со своим материалом, но, будучи добросовестным исследователем, его не скрывает. Особенно ярко эта диалектика видна в описании «диссонанса» между императором и народом в1812 году, когда народный патриотизм выступает на сцену. Диссонансный аспект подчеркивает автор, а его материал свидетельствует о значительном взаимопроникновении и взаимонастраивании царского и народного сценариев. К сожалению, автор оставляет за рамками рассмотрение народных толков и легенд об императорах, а между тем они подвели бы его к выводу о творческом и самостоятельном усвоении народом основных мотивов императорских сценариев — фактическую канонизацию массовым сознанием Павла I как мученика и заступника обиженных, легенду о старце Феодоре Кузьмиче как логичное завершение Александром Благословенным сценария личного религиозного «пути странника», отягощенного бременем власти… И на уровне государственной властной технологии и на уровне массового сознания личный сценарий самодержца, во всей его биографичности, превращается в политический и культурный сценарий страны, — этот факт, задокументированный Уортманом со всей тщательностью, дает нам ключ к пониманию специфики русского самодержавия не только как политической, но и как культурной системы. Однако сам американский исследователь на этот уровень не выходит, на его пути стоит второй предварительный тезис, от которого он старается не отступать даже тогда, когда собственное изложение должно убедить его в обратном. Второй тезис Уортмана состоит в утверждении «иноземности», «чужестранства» российской власти как главного содержания ее презентаций и как главной темы всех ее сценариев. «В изображении политического и культурного превосходства правителя чужеземные черты вели к положительной оценке, отечественные к нейтральной или отрицательной»— утверждает исследователь со ссылкой наЮ.М.Лотмана и Б.А. Успенского (с. 21). Не будем обрушивать на американского ученого совершенно незаслуженный им «патриотический гнев» и попытаемся разобраться в интеллектуальных и методологических корнях этого отнюдь не бесспорного фактологически утверждения. Русские философы и историки вслед за славянофилами много говорили об отчуждении императорской власти от русской культурной почвы в послепетровский период и здесь Уортман открытия не делает, но впервой главе первой части книги «Князья-викинги и византийские императоры. Иноземное родоначалие и аналогия» автор пытается распространить свой подход и на весь допетровский период, сделав модель «чужестранной власти» универсальной культурной темой для русской монархии. Здесь уже проглядывает не столько давление предшествующих историософских концепций, сколько методологическая зависимость Уортмана от «дуальных моделей» тартуской семиотики. Любая кодовая система нуждается как минимум в двух рядах соотносимых элементов, а потому, берясь расшифровывать коды русской власти, Уортман нуждается в том, чтобы «русскому» было соотнесено что-то иное, чтобы существовал другой язык, с которого и на который мог бы осуществляться в ходе властного спектакля перевод. «Чужеземство» власти, противопоставляемое автохтонности народа оказывается для исследователя таким удобным языком, введение которого придает русской властной семиотике обманчивую стройность. Власть подчеркивает свое отличие от народа через чужестранство, мало того— через символику завоевания (на «сценарии Петра», как на сценарии «завоевания России», Уортман делает особенный акцент). Американский исследователь оказывается хорошим семиотиком, но плохим политтехнологом. Предложенная им реконструкция схемы построения властных сценариев, так сказать «метасценарий» власти, красива извне, но совершенно нетехнологична изнутри, она была бы попросту самоубийственна для того, кто захотел бы всерьез взять ее на вооружение. Начнем с того, что совсем незадолго до Петра Русь уже видела иностранное завоевание и власть, презентирующую свое чужестранство, эту власть она восприняла как самозванчество, рассеяла по ветру выстрелом из пушки и изгнала из Москвы народным ополчением. Позволь себе Петр при всех своих всепьянейших проделках дать повод реально усомниться в своей русскости, и Россию бы захлестнула новая волна масштабной смуты, ему пришлось бы завоевывать свою страну не в театральных представлениях, а на самом деле. Но, к чему гадать — сам Уортман свидетельствует о том, что сценарии Елизаветы Петровны и даже Екатерины были во многом основаны на мотиве преодоления власти иноземцев, возвращения к «русской власти» после бироновщины и после «пруссачества» Петра III. Обе императрицы, особенно Елизавета, обретают легитимность не через чужестранство, а, напротив, — через демонстрацию своей русскости и «природной православной персоны», через интерпретацию дела Петра, которое они продолжают, как русского национального дела (и напротив, бироновщина в политической мифологии того времени трактуется как измена духу петровских преобразований). Уортман дает объяснение этому парадоксу (парадоксальному, правда, только в его концептуальной схеме) вполне семиотическое и бахтинианское, но не слишком убедительное: «символический императив мифа: исполнять роль иностранки оставаясь русской»(с. 148). При том, что верно подмечена театральная природа этого иностранства, остается загадкой, как этот «императив» сочетается с исходной гипотезой о презентации чужестранности и легитимизации власти через эту чужестранность. Представляется, что в действительности символическая технология императорской власти в описываемый Уортманом период была совсем иной — народу презентировалась не чужестранность, а, напротив, отечественность и православность царской власти. Народ, наблюдая за петровскими триумфами и екатерининскими выездами, видел «православного государя», при посещении Екатериной провинции народ ставил перед императрицей свечки, как перед живой иконой Всевышнего Бога (в соответствии, пусть и несколько вольном, с византийской концепцией царской власти). Народу предъявлялось «свое» и, что еще важнее, представленное прочитывалось как «свое» народом. Русский крестьянин видел не Марса, не Астрею, а «царя-батюшку» и подключался к императорскому сценарию, оставаясь при своем видении мира и государства. Властители способны были с великим искусством включаться в эти народные сценарии и объясняться на понятном языке, без «переводчиков», достаточно вспомнить «презентацию» Екатериной не просто благочестия, а аскетического подвига, немыслимого даже для московских царей — пешего паломничества в Ростов на открытие мощей Св. Димитрия Ростовского (Уортман его описывает нас.167). Предоставляемый внимательному читателю самим исследователем материал опровергает гипотезу о том, что императорская власть в России легитимировалась в народных глазах через представление своего чужестранства. И ход Николая I с введением в царскую коронацию поклона народу с Красного крыльца получает объяснение не только через «национализацию» европейских монархий той эпохи, но и в собственно русском контексте. Царь сделал именно то, что ожидалось от него народом и что идеально укладывалось в народную «концепцию» царя — вряд ли кто из стояших на площади простых людей, бурно приветствуя поклон царя, заметил, что произошло что-то необычное, — царское и народное понимание властного сценария здесь находятся в конвергенции, но не следует видеть здесь радикальное новшество, как делает это Уортман. Русская монархия и раньше и позже охотно пользуется «отечественным» языком для презентации себя народу (отнюдь не незначимой в системе послепетровской монархии), и в презентации себя элите охотно играет как европейской, так и русской символикой, но и сама элита не прочь прибегнуть к языку «представительства народа» перед монархией. Во втором, еще неизвестном русскому читателю томе исследования американского ученого проводится прямая связь между окончательной национализацией русской монархии при Александре III и конфликтом между нею и западнической бюрократической элитой, приведшим в конечном счете к падению самодержавия. Концепция сильная, но, на наш взгляд, не учитывающая реально имевшего место процесса конкуренции между самодержавием и элитой (прежде всего дворянской) за представительство народных интересов. Выражением национальных претензий последней было, скажем, славянофильство, отнюдь не исчерпывавшееся интеллигенцией и имевшее влиятельных союзников в сановной и чиновной среде. Трагедия императорской России была не столько в том, что ее «национализировавшаяся» власть вошла в противоречие с «вестернизированной» элитой, сколько в том, что в соревновании за «национализацию» между элитой и властью каждая из сторон претендовала на большую «национальность», выпихивая конкурента в меньшую «национальность», а то и вовсе в «антинациональность». А что же с «иноземством», откуда оно и почему оно так много места занимает в сценариях власти петровского времени. Терминологией завоевания России Уортман, к сожалению, только запутывает сам себя и читателя. Для него триумфальные въезды Петра I (создателя той стилистики властных сценариев, которой исследователь посвящает свою книгу) в Москву есть… символическое завоевание Москвы «царем-иноземцем». В качестве подтверждения своей гипотезы автор приводит рассуждения американского антрополога Маршалла Салинза о символике героического мифа. Автор не хочет замечать простого, прямого, лежащего на поверхности смысла этих событий — торжество победы над врагом и демонстрация победных трофеев, символизация завоевания не России «царем-иностранцем», а тех или иных иноземных земель (турецких, шведских и т. д) царем-героем. То, что по Уортману символизирует отчужденность властителя от своего народа, есть, по нашему мнению, — трофей, присвоенное имущество побежденного иноземца, символ победы. Проанализировав при помощи понятия трофея петровскую эпоху, мы бы действительно кое-что в ней поняли. Почему Петр берет за образец при создании системы коллегий государственные учреждения побежденной Швеции (с. 82). С точки зрения обычной политической логики победа над Швецией доказывает как раз несостоятельность этих учреждений, лучше было бы взять французские, прусские, какие угодно еще «выигравшие» образцы. Шаг Петра может становиться понятен только если учесть, что именно учреждения побежденного врага после Полтавы становятся для Петра своими, побежденное присвоено. Вся евроепеизаторская деятельность Петра это ряд таких присвоений трофеев побежденных или же похищений («похищений Европы» по терминологии Вадима Цымбурского) тех или иных европейских, прежде всего— французских, артефактов — Петр приказывает обмерить версальские сады, чтобы перенести их на русскую почву, приказывает создать свою статую по образцу статуи Людовика XIV, учреждает по образцу парижской петербургскую полицию. Сам Санкт-Петербург — это огромная выставка трофеев, огромная Кунсткамера вывезенных из Европы редких необычностей, которые присваиваются и становятся русским достоянием через подвиг культурного героя — Петра. Если уж говорить о мифологической типологии, то культурный герой не завоевывает пространство, а приносит в него новые предметы и навыки, чаще всего похищенные, как похищен Прометеем огонь. Он, подобно Гераклу, борется с хаосом, но эта борьба осмысляется не как завоевание, а как очищение. Герой основывает город, подобно Ромулу, и подобно ему же похищает женщин. Женщина есть трофей трофеев, высший трофей, высшее доказательство победы, которое может быть предъявлено. Блестящие, увлекательно написанные и полные богатого фактического материала страницы Уортмана, посвященные Екатерине I, были бы еще содержательней, если бы в иноземстве супруги монарха и в ее первоначальном статусе пленницы была бы усмотрена все та же логика трофея. Петр предъявляет прекрасную пленницу, захваченную у врага, в качестве несомненного доказательства своей победы, и позднейшая традиция браков особ императорского дома с европейскими принцессами может быть осмыслена не столько как механизм «отчуждения» их от русскости, сколько как присвоения европейскости в ее символически высшей форме, форме женщины. Уортман удивительно красиво и точно (и, если мы не ошибаемся, впервые в научной литературе) дает интерпретацию «женского царства» в эпоху после Петра как века «любви, красоты и цивилизации» в европейском стиле. По сути, это наслаждение трофеем после первой бурной поры его завоевания. Мы даже рискнем предположить, что имеем дело с символически пролонгированным царствованием Екатерины I (символическое значение которой подробно разъясняет исследователь) в ее дочери Елизавете и в «символе символа» Екатерине II, не только тезоименитой супруге Петра, но и чистокровной иностранке. Усвоение императорской Россией европейского трофея доходит в образе Екатерины до небывалых высот — культурнейшая, утонченнейшая европейская женщина-философ в роли «царицы-матушки» бескрайней России, собирающая сведения о Сергии Радонежском, ходящая пешком на богомолье и поучающая Дидро о благодетельности для русских самодержавного правления. Итак, мы приходим к той точке, где блестящее исследование Уортмана приобретает невозвратную политическую актуальность для современной России. Американский исследователь, скорее всего помимо своей воли, предлагает определенную стратегию мифологизации русской власти через ее символическое отчуждение, через приписывание ей игрового «чужеземства», через спектакль «чужеземства». Ход, для нашей политической мифологии отнюдь не незнакомый, в чем убеждаешься, наталкиваясь на книги с названиями типа «Владимир Путин. “Немец” в Кремле», репрезентирующие российского президента как носителя чуждого русской стихии ordnung‘а. С другой стороны — вполне возможна и иная, сугубо «почвенная» репрезентация власти, укладывающаяся в формулу, иронично перессказанную Татьяной Малкиной следующим образом: «Симеон родил Алексея, Алексей родил Ивана, Иван родил Прохора, Прохор родил Петра, Петр родил Ивана, Иван родил Спиридона, Спиридон родил Владимира, Владимир родил Путина Владимира Владимировича, президента Российской Федерации»[2]. Как политический факт книга Уортмана склоняет нас к выводу, что первый путь презентации власти для российской политической традиции естественен и достаточно успешен. По мнению рецензента — это утверждение Уортмана не доказано и, более того, опровергается приводимым им фактическим материалом (что нимало не умаляет значения этой блестящей, действительно редкой по достоинствам, книги). Это не значит, впрочем, что «почвенная» репрезентация более выгодна, — пока идут наши споры, сценарий власти на ближайшие годы вполне определился и втянул в себя массу, это сценарий удивительно полифоничный и выходящий за рамки не то что бинарных оппозиций, но и «тернарных» структур, грезившихся нашим семиотикам. Современный сценарий власти— это торжество самого радикального мультикультурализма, допускающего и почвенно-державническое, и западнически-либеральное, и многие иные истолкования мультикультурализма, лишь слегка придавленного личностной доминантой одного «хорошего человека» со стальным взглядом Штирлица, европейскость которого есть европейскость разведчика, похищающего Европу изнутри и рациональными уговорами, и светским обольщением, и демонстрацией силы, дабы предъявить укрощенную Европу подрастерявшейся от культуршока нации. Никакого иного сценария покамест не предвидится. [1] Авторизованный перевод несколько портит, правда, не всегда качественная работа редактора. Ни автор, ни переводчик, не обязаны, конечно, знать, что у таких «фамилий» как «Геертц» или «Гельнер» есть каноническое и общепринятое в научной литературе русское написание — Клиффорд Гирц, Эрнст Геллнер, а вот редактору это знать следовало бы. [2] Татьяна Малкина. Жизнь Путина // Время новостей. № 33 (469). 22 февраля 2002. С. 4. |