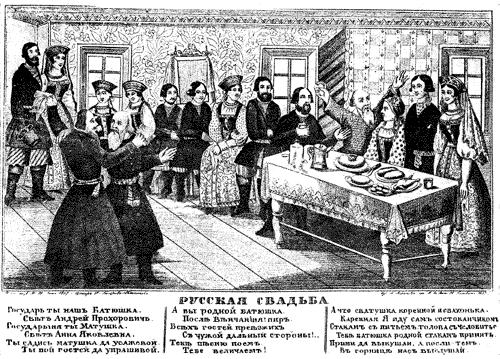ГЛАВНАЯ ТЕМА
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2002
| История идеи «национального характера» столь же древняя, как и само разделение человечества на народы и племена. Мысль, что этнические различия выражаются не только в различии вещей, обычаев и способов хозяйства, но и в разнице темпераментов и поведенческих черт, приходила и Геродоту, и Нестору, и Монтескье, и десяткам и сотням их менее знаменитых современников. Довольно долго описания национального характера были уделом беллетризованной эссеистики. Путешественники описывали нравы жителей ближних и дальних стран, политические памфлетисты обличали пороки своих народов или подлости внешних врагов, ученые и философы пытались, вслед за Гердером, разгадать тайну «духа народа». Все это удобно упаковывалось в обертку «национального характера», склеенную из стереотипов — немцы склонны к порядку, англичане чопорны, французы ветрены, китайцы церемонны, русские добродушны и ленивы, зато «быстро ездят». В зависимости от таланта и наблюдательности автора, у кого-то картинки получались красивыми и убедительными, у кого-то — ходульными и недостоверными, но все они рассыпались от первого же соприкосновения с реальностью. Чего стоил, например, пресловутый «немецкий порядок», на собственном опыте убедился в 1930-х годах русский публицист Иван Солоневич, запутавшись в хаотичной нумерации домов на берлинской Клайнштрассе. В Санкт-Петербурге и даже в Москве уже в начале века нумерация домов была безукоризненной. «Русскому характеру» тоже немало досталось от стереотипных построений — и враждебных, и самых что ни на есть благожелательных. Французский путешественник Адольф де Кюстин с ненавистью описывал «Россию в 1839 году» как страну рабов, в которой все пронизано страхом, а апатичные и трусоватые русские даже дышат не иначе как по приказанию императора. А всего несколькими годами ранее Александр Пушкин писал: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна». Разгадать «загадочную русскую душу» пыталось не одно поколение русских и иностранцев, выдумывая для нее все новые и новые алхимические формулы. «В русском человеке сочетаются Петр Великий, князь Мышкин и Хлестаков», — утверждает англичанин Бэринг. А один из отечественных авторов находит другой образ — братьев Карамазовых: «Бескорыстие любви Алеши, неудержимость национального порыва Дмитрия, до конца идущая рефлексия Ивана, подлая маргинальность Смердякова» (остается спросить — а как быть с глумливым сластолюбием Федора Павловича?). В общем, повторяя слова одного из помянутых братьев: «Широк русский человек. Я бы сузил». Время разочарования в стереотипах наступило для антропологии, когда она отказалась от соблазна построить все народы по ранжиру эволюционной лестницы. «Первая заповедь, которая должна быть усвоена этнографом-практиком, — писала Маргарет Мид, — гласит: очень вероятно, что ты столкнешься с новыми, неслыханными и немыслимыми формами человеческого поведения». Учитель Мид, «отец-основатель» современной антропологии Франц Боас считал, что сравнивать народы и культуры невозможно. Но в этом случае на долю антрополога не оставалось ничего, кроме поверхностного описания (ведь уже глубинное описание культуры требует интерпретаций и теоретического аппарата), а потому другая ученица Боаса — Рут Бенедикт предложила концепцию «моделей культуры», позволявшую исследователю свести концы с концами. Началась полная драматических взлетов и падений история научных поисков «национального характера» и «этнической картины мира». Современная этнопсихология началась там, где закончилась вера в существование «души народа», которая могла бы стать носителем особой «народной психологии», а потому ключевой проблемой, которую так или иначе пытались решить антропологи, была проблема соотношения индивида, человеческой личности, и народа, культуры. Почему представители одного народа в сходной ситуации поступают сходным образом (проявляя таким образом свойства «национального характера») и каким образом каждый народ сохраняет «лица необщее выражение», несмотря на то, что сами по себе люди весьма и весьма сходны? В зависимости от ответа на этот вопрос психологические антропологи разделились на два направления. Одно, «культурно-центрированный подход», видело в индивиде функцию от культуры. Человеческая личность полностью сформирована «культурными конфигурациями», институтами и обычаями — браком, семьей, воспитанием и так — вплоть до манеры пеленать ребенка. По мнению американского антрополога Джефри Горера, высказанному им в книге о русском характере, туго спеленывая младенца, «русские информируют своих детей о необходимости сильной внешней власти», а проинформированные таким образом младенцы вырастают послушными и терпеливыми, покорными даже тоталитаризму, но склонными к кратковременным бунтам и анархии. Для «личностно-центрированного» подхода основным предметом внимания выступает не культура, а личность, причем не личность индивида, а «основная личностная структура», доминирующая у большинства представителей того или иного народа. При помощи многочисленных тестов, составленных в основном психиатрами, сторонники этого подхода пытались составить представление о национальном характере. По мнению перенесшей этот подход на русскую почву Ксении Касьяновой, автора книги «О русском национальном характере», русские имеют в психиатрической классификации «эпилептоидную» личностную структуру. В конечном счете, оба направления к 1960-м годам оказались в тяжелом кризисе. Их основные теоретики признали, что современными научными методами невозможно ни определить национальный характер, ни даже доказать само его существование. Представители каждого народа оказывались при ближайшем рассмотрении слишком разными. Возрождение психологической антропологии началось только в 1990-х годах, и связано было с принятием исследователями нескольких принципиальных положений. Во-первых, благодаря заслугам школы «культурной психологии» было осознано, что личность любого человека носит интерпсихический характер. Так наша память имеет естественное продолжение и в наших записях, и в семейных фотоальбомах, и в памяти других людей, которых можно о чем-то спросить, — и этой «внешней памятью» человек пользуется так же часто, как и «внутренней».
Далее, было признано, что бессмысленно искать статистическими методами «общие черты» представителей того или иного народа. Не только культура, но и то, что можно назвать «народной психикой», распределены между носителями культуры. Когда люди собираются вместе сделать то или иное дело, разные психические функции и разные черты характера разных людей находят себе различное применение. Если бы народ состоял из представителей одного и того же психотипа, то никакая конструктивная кооперация между ними была бы попросту невозможна. Представим себе, что все русские, как представляли это авторы многочисленных эссе о «характере русского народа», были бы способны только к кратковременному напряжению, только к «взрывной» активности, перемежаемой длительными периодами бездействия… Каким образом, в этом случае, могли бы существовать на наших просторах структуры цивилизации, требующие постоянной и интенсивной деятельности? Возможна ли была бы у народа, неспособного к долговременному регулярному напряжению, такая картина, описываемая голландским путешественником начала XVIII века Корнелием де Бруином: «На каждой версте от Москвы до Воронежа стоит верстовой столб… Между всеми этими столбами посажено по девятнадцать и по двадцать молодых деревьев по обеим сторонам дороги… Таких верстовых столбов числом 522. Полагаю, что число таких деревьев, рассаженных между верстами, никак не меньше 200 тысяч. Сказанные версты и деревья тем более полезны, что без них зимою трудно было бы найти дорогу, покрытую снегом, и притом в России ночью ездят так же, как и днем». Де Бруин, кстати, много пишет о давно уже ставших притчей во языцех «русских дорогах», отмечая их удобство для передвижения и высокое для своего времени качество. Соединение людей в общем культурно-обусловленном действии происходит посредством культурных сценариев — многоуровневых и многофакторных поведенческих схем, в которых могут быть задействованы и один человек, и несколько, и сотни тысяч, и миллионы. Освоение культуры, например ребенком или иностранцем, состоит не в «обучении», а во включении в присущие этой культуре сценарии; человек учится правильно себя вести в них, находить, а потом грамотно и творчески исполнять свою роль. Любую культуру можно представить как иерархическую систему сценариев — как самых простых, применимых в одной-двух ситуациях, и до предельно обобщенных, описывающих и задающих поведение большинства членов этноса в большинстве ситуаций. Современные этнопсихологи перешли от изучения «национального характера» в его статике к динамическому изучению этноса. Отличительные черты и особенности того или иного народа, те сценарии, которые он «разыгрывает», видны только в истории. Иногда исследователю приходится охватить не одно столетие истории народа, чтобы уловить подлинные черты его «характера». Только в истории мы можем понять, что в этнической системе остается при любых обстоятельствах неизменным, что отбрасывается, что и как видоизменяется. Этнопсихология неизбежно становится исторической этнологией. При той постановке вопроса, какая существует в современной науке, правильнее говорить не о «русском национальном характере», а скорее о «русском сценарии», который разыгрывается народом в его истории. * * * Русские пережили в своей истории немало драматических перемен — трудно было стать из язычников христианами, трудно было из свободной городской вольницы попасть под монгольское иго, трудно было перешагнуть из Руси московской в петровскую Россию, трудно было вместо царской России оказаться в ленинском и сталинском Советском Союзе, трудно было из тихих советских заводей нырнуть в постсоветские водовороты. В каждый из этих периодов разные группы русских людей очень по-разному смотрели на мир и оценивали происходящее, но при этом оставались русскими вне зависимости от своего социального статуса и идейных установок. Выделить «содержательные» признаки «русскости» очень сложно— прекрасно работая на одном историческом этапе, для одной картины мира, они дают сбой на другом. Остается искать те самые неизменные элементы, которые скрепляют любую русскую картину мира в любой ее конфигурации. Эти неизменные элементы можно назвать системой этнических констант, а формируемую ими динамическую схему — генеральным культурным сценарием. Этот генеральный сценарий влияет на формирование всех сценариев разных уровней, существующих в данной культуре, задавая определенный алгоритм действия во множестве ситуаций. Этнические константы, будучи формальными характеристиками действия, не предписывают, что делать, но довольно жестко предопределяют — как достигается та или иная поставленная народом цель. Константны в генеральном культурном сценарии не роли, не слова и не действия, характеризующие персонажей, а их диспозиция, расположение друг по отношению к другу и характер взаимодействия. Если искать какую-то аналогию константам, то наиболее точная— маски комедии дель арте, с неизменным набором из Арлекина, Коломбины, Пьеро, которые, однако, могут пускаться в самые разные приключения. Этнические константы задают ту диспозицию, при которой действие совершается наиболее психологически комфортным для этноса способом. Не имеющие конкретного содержания константы могут быть описаны только как система формальных образов. Прежде всего — это «образ себя», или «образ мы» — т. е. определенное представление субъекта действия о себе, своих возможностях, своих сильных и слабых сторонах, своих намерениях. С образом себя в этнической картине мира почти всегда связывается «образ добра». Затем — «образ источника зла», того препятствия, которое необходимо устранить, чтобы установить желаемое положение вещей. Иногда этот образ конкретизируется в «образ врага». «Образ поля действия» задает ту психологическую структуру пространства, в котором совершается действие. «Образ способа действия» определяет тот метод, которым достигается желаемый результат. «Образ условия действия» формирует представления о том условии, той ситуации, которая необходима, чтобы действие было совершено. Наконец, «образ покровителя» оказывает воздействие на формирование представления о той, внешней по отношению к «мы», силе, которая может помочь в победе над «злом». Этнические константы проявляются в этническом самосознании исключительно в форме «трансферов», переносов на те или иные реальные объекты и ситуации, с которыми этнос имеет дело по ходу своей истории, что и обеспечивает их живучесть — ведь когда та или иная картина мира этноса рассыпается, под сомнение ставится только ее конкретная форма, оспаривается правильность совершенного трансфера, но не сами константы. Русский «образ себя» (мы-образ) существует как бы в трех ипостасях, но всегда очень связан с образом себя как носителей добра. Эти три ипостаси можно представить следующим образом: хранители и возделыватели добра — крестьянская община, созидатели «великих строек» и творцы космических ракет и т. д.; миссионеры и просветители, готовые всегда нести «свет миру», в чем бы он ни заключался; воины — защитники добра, борцы со «злодеями» и покровители народов, которым зло угрожает. Осознание себя в образе покровителей и защитников очень четкое: «И Божья благодать сошла на Грузию. Она цвела, не опасаяся врагов, под сенью дружеских штыков». Любые вошедшие в сферу Российской империи или СССР народы, даже завоеванные, считаются освобожденными. Русских невозможно обидеть сильнее, нежели пренебречь их покровительством, и невозможно дискредитировать в русских глазах идею сильнее, чем если представить ее плодом внеморального расчета. Поле действия — мыслится как пространство без границ и препятствий. Какое именно пространство представляется «потенциально русским», определяет доминирующая в данный момент культурная тема. Это пространство в принципе может охватывать весь мир, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…». Это пространство без границ и препятствий, тем не менее, имеет неоднородную, иерархическую ценностную структуру. Пространство «пустое» выступает для русских прежде всего пространством колонизации, заполнения этих пустот самими собой, а вот пространство, заполненное другими народами, оценивается в зависимости от возможностей осуществления над ними покровительства. Есть векторы наибольшего притяжения, как в прошлом веке Проливы — Константинополь — Палестина. Выделяются и места, имеющие особое значение в рамках доминирующей в данный момент культурной темы, — Иерусалим, Константинополь. Значимыми являются места поселения народов, нуждающихся в защите от чего бы то ни было. Места расселения «злодеев» имеют значение только в контексте защиты от них покровительствуемых народов. Отсюда «матрешечная» геополитическая иерархия зрелого «соцлагеря», строившаяся именно по «степеням защиты». Россия и вокруг «пятнадцать республик— пятнадцать сестер» — это центр пространства (в нем, впрочем, тоже есть высшая степень защиты — Москва). Следующая зона — «социалистическое содружество», это уже не «Союз нерушимый», но совокупность привилегированных подзащитных. Затем — страны «социалистического выбора», вроде Анголы, Мозамбика или Никарагуа, по отношению к которым формальных обязательств нет, зато есть моральные обязательства. И, наконец, миролюбивые и демократические страны, вроде Индии и ей подобных, — тоже подзащитные, но уже не по долгу, а по дружбе. Эта пространственная структура не закрыта, не имеет замкнутых контуров, поскольку к каждому из составных уровней может быть что-то «привинчено» и круг подзащитных может расшириться в любой момент (вспомним, что последние «подзащитные» появились у СССР чуть более чем за десять лет до его падения). Условием действия является защита себя и всех своих многочисленных подопечных — покровительство. Любая война истолковывается как оборонительная, любое внешнеполитическое действие является «вынужденной самозащитой», любое действие на чужеземной территории — «освобождением» или «помощью». Идея «интернационального долга» намного старше позднесоветской доктрины — вспомним русско-турецкую войну 1877–78 годов, истолковывавшуюся «образованным обществом» как помощь «братьям славянам», а простым народом — как заступление за «грека» (т. е. православных вообще, а не славян). Условием действия является осознание себя как могущественной и самой правой (справедливой) силы. «Сила в Правде»— такова установка, проходящая от древней пословицы к новейшему «брату», Даниле Багрову (идея «братской помощи», сквозная для обоих знаменитых фильмов, в описанном нами контексте сама собой разъясняется, братство — привилегированное положение для осуществления покровительства). Напротив, блокирование этого условия, как то произошло в Афганистане и в «первой чеченской», автоматически лишает русских дееспособности, они теряются, поскольку утрачивается основание для действия. Способом действия, при таком условии, является «служба», «служение», т. е. то, что представляется русским выполнением какого-то нравственного долга перед высшим добром. При этом в данной службе нет никакого элемента «стоицизма», элемент самопринуждения очень слаб — логику этой константы хорошо передают строки Дениса Давыдова: «я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской…» «Служба» идет скорее в удовольствие, точнее службой считается то, что нравится и соответствует устремлениям человека. Безудержный порыв крестьянской колонизации, которая на внешнем уровне была типичным бегством от государства, самим крестьянам представлялся исправлением царской службы, некими таинственными «царскими работами», для которых народушко российский зовут на новые земли. Действие как служба может быть организовано в целую цепочку провокативных действий — так, с одной стороны, русские вполне могут кого-то втравить в самую дерзкую авантюру, для того чтобы потом спасти, защитить и послужить. Искусственно создается ситуация, комфортная для действия русских, а потом уже действие разворачивается. С другой стороны — через механизмы службы, или помощи, легитимизируются в глазах русских те действия, которые неприятны и тяжелы — будь то «государево тягло», воинская служба или что-то еще в том же роде. Но здесь всегда есть угроза обмануться — та или иная служба может быть не признана, распознана как «обман».
Образ врага у русских ситуативен, он определяется не какими-то неотъемлемо присущими ему чертами, а через постановку себя в оппозицию русским. Враг— это тот, от которого надо защищаться, или, в еще большей мере, тот, от кого надо защищать. Иногда при этом подзащитным оказывается свой собственный народ, которого государство защищает, например, от «тлетворного влияния Запада» и «внутреннего врага». Есть, впрочем, у «образа врага» одна черта, которая прощупывается не сразу и не всегда, но вполне отчетливо — это, если так можно выразиться, «конкурентный мессианизм», претензия на представление добра в большей степени, причем добра более «доброго», чем у русских. Носитель подобной претензии сразу попадает в русском космосе в положение «антихриста» — будь это Наполеон, Гитлер или кто еще. Русские порой оказываются готовы перекреститься в «чужую веру», но вот поставить их в рамках этой веры на положение людей второго сорта означает гарантированную и активную враждебность. Образ покровителя может быть передан емкой пушкинской метафорой — «русский Бог», тот самый Бог, который «не выдаст». Через этот образ передается уверенность в благожелательности, комплиментарности мироздания по отношению к русским. Русским не приходится быть «против всего мира», потому что как раз «мир» обычно оказывается за них. Для сравнения — в картине мира финнов мироздание, природа, — это грозный противник, с которым финн борется и побеждает, обуздывая и окультуривая хаос природы. Русский же природу переигрывает. В. О. Ключевский в своем знаменитом этнопсихологическом очерке очень точно подметил, что природа России «часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса: своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский “авось”». Однако условие покровительства — действие. При бездействии покровительство отсутствует. Когда действовать нет необходимости — лучше лежать на печи, сохранней будешь. В процессе же действия наступает некий переломный момент (активизация образа покровителя), когда русским начинает «идти карта». Проигрывая по мелочам (и даже не по мелочам), русские уверены, что в «большой игре» они все равно не останутся в накладе. Это очень важное уточнение ко всей характеристике глубинных основ «русского действия». Оно может показаться безнадежно альтруистичным, лишенным ориентации на прагматическую выгоду. «Русским ни от кого ничего не нужно, они хотят только принести себя в жертву», считал немецкий философ Вальтер Шубарт. Но такое впечатление русские скорее стремятся создать у других (образы «рубахи-парня» или «жертвы несправедливости» чаще всего используются русскими в качестве «образа себя для других»). Этнические константы формируют адаптивно-деятельностную схему, ответственную за успешное выживание народа, а потому очевидно, что такой образ действия должен приносить русским определенные конкурентные преимущества. И в самом деле, не так много найдется в истории народов, которые так крепко вцеплялись бы в свою «добычу» и которые умели бы использовать альтруизм как мощное оружие экспансии (во всех смыслах слова). Вот как описывается в статье начала ХХ века русское колонизационное проникновение в киргизские степи: «Влиятельный киргиз привлекает или из жалости принимает два-три двора, входит во вкус получения дохода за усадьбу, покос или пашню деньгами или испольной работой, расширяет дело все более и более, пока заимка не превращается в поселок из 20–30 и более дворов». От такой крестьянской колонизации чрезвычайно далеко до «колониализма», однако, что характерно, статья посвящена «киргизскому вопросу». В итоге «под вопросом» оказываются отнюдь не русские. Покровительство со стороны русских никогда не обусловлено благодарностью, но при этом сами русские подсознательно ожидают, что подзащитный будет «обязан», и неприязненно относятся к тем, кто «добра не помнит», а стало быть, ведет себя «не по-людски»… * * * Описанная нами система этнических констант — это как бы едва различимая, а чаще всего невидимая основа «национального поведения». Для того чтобы как-то передать ее словами, приходится прибегать к языку метафор и говорить о константах не в их исходном виде, а в виде, проявленном при помощи трансфера, т.е. переноса бессознательных установок на те или иные конкретные обстоятельства. Такой трансфер позволяет вместо «жанрового» генерального сценария получить конкретную «пьесу». Направление и характер трансфера этнических констант, «сюжет» этнической истории задается центральной культурной темой этноса, представляющей собой обыгрывание в многообразных внутриэтнических вариациях ключевых символов и смыслообразов культуры, составляющих ее центральную зону. Предложивший понятие «центральной зоны» американский социолог Эдвард Шилз определяет ее следующим образом: «Это центр порядка символов, ценностей и мнений, который правит обществом… Центральная зона активно задействована в формировании в данном обществе понятия священного, которое имеется даже в обществе, не располагающем официальной религией». Говоря другим языком, при помощи символов центральной зоны культуры этнос осуществляет как бы свою самосакрализацию, формируют свою идею как священную идею. Центральная культурная тема формируется в результате совершенного на заре этнической истории успешного (т. е. давшего возможность долговременной успешной адаптации) трансфера констант, а затем в ходе этнической истории разворачивается борьба различных внутриэтнических групп за доминирование той или иной интерпретации этой темы, в зависимости от различных ценностных и идеологических ориентаций. Центральная культурная тема этноса никогда не бывает «абстрактна», поскольку сохраняется она прежде всего в рамках «большой традиции» (в терминологии Роберта Редфильда), т. е. «традиции школ и храмов» (применительно к современному состоянию общества — скорее университетов и идеологий), — фиксируется в литературе и «высокой культуре», религиозных и идеологических установках, канонах образования и воспитания, в дописьменных обществах— в мифе и ритуале. Это означает, что, обретя один раз некую «каноническую» форму, она впоследствии существует как череда модификаций, ревизий или реставраций этой формы. С этим связано особое место у русских культурного комплекса, который можно условно назвать «комплексом Третьего Рима». В этом комплексе дана каноническая фиксация русской центральной культурной темы как темы особого предназначения русских в эсхатологической, связанной с концом истории, перспективе. После фиксации этого комплекса может происходить распределение в рамках культуры ее интерпретаций — в форме государственной идеологии, в форме неофициального, старообрядческого взгляда, в форме коммунистической «модернизации» этого мессианизма или же в форме жесткого, фанатичного отрицания этого мессианизма, вряд ли возможного в культуре, которая не тематизирована мессианством. Неслучайно ведь все призывы «идти общей дорогой с человечеством» начинаются с пространных и взволнованных опровержений идеи «особого пути», то и дело переходящих на объяснение нашей «особости» нашей безмерной, ни с чем не сравнимой отсталостью. Однако ключевой для русской истории функциональный конфликт разворачивается не между конкурирующими идеологическими группами, а между народом и государством, и основан он на разном понимании «способа действия», т. е. службы мессианскому идеалу. До ХХ века, в течение столетий, это был конфликт между русским государством и русской крестьянской общиной. Крестьянство соотносило «образ мы» прежде всего с самим собой, с народушком российским, а значит, считало необходимым нести свое служение исключительно по своему разумению (иногда — довольно глубокому и верному), московское, а затем имперское государство видело цель существования всего русского государственного организма в служении высшему идеалу, ради которого готово было всех поставить под ружье, всех заверстать на весьма стеснительную службу, и никаких вольностей в отношении служения не признавало. Крестьянская община, бывшая для себя самодостаточным «миром», для государства была не более чем фискальным инструментом. Наиболее отчетливо этот конфликт заметен в механизмах русской народной колонизации — крестьяне бегут от государства на окраины, сами про себя думая, что в этом-то и состоит их служба государю; государство пытается восстановить над крестьянами формальный суверенитет, и через то расширяет сферу своей экспансии на все новые и новые регионы — именно таким путем была осуществлена колонизация сперва причерноморских степей, затем Сибири, а позднее Туркестана и т. д.
Для каждой из вовлеченных в функциональный конфликт групп выстроенная ею на основе констант и культурной темы картина мира кажется единственно возможной и самодовлеющей — крестьяне мыслили всю «Русскую землю» как федерацию самоуправляющихся крестьянских миров. Все, что есть хорошего в остальных группах, понимается по аналогии (например, крестьяне представляли себе царя таким же землепашцем), а все остальное воспринимается как безобразие, отступничество и «ересь» — откуда, собственно, и конфликтность. Для устойчивости этнической системы необходима фигура, которая в ходе конфликта всеми или почти всеми записывается в «свои», фигура, которой приписывается суверенитет над этнической системой и которой приписывается исключительно высокая ценность. Для дореволюционной России это была фигура царя, падение ее значения, отвержение «царя» как универсального «медиатора» и суверена в рамках системы передало его роль значительно более расплывчатой фигуре «народа», от имени которого кто только не выступал. Постепенная дискредитация идеи «народа» привела к оформлению, отчетливее всего к 1990-м годам, идеи «России» как верховного суверена и символического центра всех происходящих с русскими процессов. Чем более абстрактен образ «суверена», тем он менее энергетичен, менее нацелен на изменения и какой бы то ни было прогресс общества, поэтому динамизация перемен в России в начале XXI века привела к конкретизации образа суверена в лице президента Путина. Эта конкретизация стала причиной значительного психологического подъема — самые разные группы стали связывать с фигурой живого властителя свои ожидания и надежды на переустройство России в соответствии со своей картиной мира. Властная система оформилась как система сигналов, которые могут быть раскодированы и благоприятно истолкованы разными внутриэтническими группами в зависимости от их картины мира. Следует обратиться к той форме, в которой центральная культурная тема этноса принимается и осмысляется большинством членов этноса, не относящимся к изолированным или выделенным в качестве элиты внутриэтническим группам. Это массовое ядро этноса формирует на основании определенной интерпретации центральной культурной темы свое традиционное сознание, существующее прежде всего в формах «малой традиции», если пользоваться терминологией того же Редфильда. «Малая традиция» — это традиция крестьянской общины, а для современного этапа истории — это традиция провинциальных городов или больших спальных районов современного города. В этих социальных структурах этническая культура оформляется в конкретные поведенческие схемы, в нравы, обычаи, бытовую культуру и требования «обыденной морали». Институционализация, оформление традиционного сознания происходит через тот или иной «жизненный мир», т. е. первичный коллектив, с которым соотносят себя члены этноса, говоря «мы» в узком смысле. Это может быть вполне реальный коллектив крестьянской общины-«мира», а может быть «воображаемый» коллектив уходящего в глубь веков рода или семейства, а может быть полунеформальный коллектив определенного «круга общения» (распределение по таким кругам общения стало характерно для российского общества после окончательной его урбанизации, где-то со второй половины 1960-х). Важно, что именно мнение этого коллектива первично при социализации индивида, и на мнение этого коллектива он ориентируется, решая, «что такое хорошо и что такое плохо». Традиционное сознание существует как картина мира обитателей таких «жизненных миров», однако сами эти обитатели могут воспринимать ее по-разному, в зависимости от присущего им того или иного типа этического сознания. Большинство выступает носителями обычного традиционного сознания, принимая его нормы «на веру» и считая, что они имеют под собой прочное идеальное и нравственное основание. Для носителей традиционного сознания поступить нравственно означает поступить «нормально». Эти люди составляют ту устойчивую группу, которая и поддерживает стабильность поведенческих и мировоззренческих норм. Оформление, структурирование и хранение традиционного сознания, убережение его от деградации принадлежит носителям личностного сознания, т. е. тем, для кого следование нормам этического сознания является не привычкой, а совершенным в определенный момент сознательным нравственным выбором. Обычно ситуации выбора связаны с «малыми пограничными ситуациями» — кризисными ситуациями в жизни человека, требующими самостоятельного поступка. Именно в малой пограничной ситуации и происходит соединение между личным поведением человека и «национальным характером» — только в подобной ситуации человек может «поступить как русский» (в остальных случаях поведение получает этнокультурную окраску через подключение к внутрикультурным сценариям, не носящим личного характера). Через поступки носителей личностного сознания в пограничных ситуациях осуществляется синтез идеального понимания картины мира в «большой традиции» и конкретной поведенческой нормы в «малой традиции», расширяется и ранжируется само пространство поведенческих норм. Носитель личностного сознания достаточно часто оказывается «пророком в своем отечестве» — т. е. примером, советчиком и жизненным наставником в рамках своего «жизненного мира», а концентрация носителей личностного сознания вокруг той или иной внутриэтнической альтернативы, той или иной интерпретации культурной темы обычно дает ей перевес над другими. Для этнической истории достаточно характерны и дисфункции внутриэтнического конфликта, при которых связь между «верхним» этажом центральной темы и «нижним» этажом традиционного сознания утрачивается. Традиционные поведенческие нормы теряют свой идеальный смысл, становятся «ни для чего», поддерживаются лишь по привычке, в рамках квазитрадиционного сознания, в то время как представители квазиличностного сознания сами для себя симулируют ответственное нравственное поведение, на самом деле обыгрывая лишенные прочного обоснования идеологические лозунги. Типичной фигурой носителя такого квазиличностного сознания, разрушительного для культуры, является фигура русского «нигилиста» — свято уверенного и в ответственности, обусловленности личностным выбором своих действий, и в своем праве выступать в качестве советчика и учителя жизни. Подобная дисфункция, вызванная обессмысливанием традиционных норм и утратой реальной почвы для внутриэтнического конфликта, характерна для периодов внутриэтнической смуты. Состояние смуты характеризуется, во-первых, утратой связи между традиционным сознанием и центральной культурной темой, ощущением утраты народом своей «миссии», во-вторых, неустойчивостью и хаотичностью совершаемых этносом трансферов этнических констант на реальность, утратой этносом гибкости и адаптивной успешности в его действиях, в-третьих, подавлением деятельности носителей личностного сознания со стороны носителей квазиличностного сознания, преобладанием лозунгов над идеальными императивами. Россия находится в устойчивом состоянии смуты с 1905 года, когда обнажилась утрата крестьянством традиционных религиозных ориентиров для традиционного сознания. Торжество в1917-м квазиличностных лозунгов дало российскому обществу некое подобие новой интерпретации «мессианской» центральной культурной темы в новом ключе, и во имя этой темы традиционное мировоззрение было безжалостно раздавлено в ходе коллективизации и сопровождавшей ее урбанизации. Система жизненных миров старого русского общества была безвозвратно разрушена. К 1960–70-м годам оформилась новая система отношений в городах, имевшая все возможности перехода от квазитрадиционного к традиционному типу. Сформировался идеальный образ «советского человека», легший в основу культуры этих лет, до сих пор вызывающей у значительной части общества ностальгию по «старым песням о главном» (т. е. дружбе, любви, взаимопомощи и прочих важных для хорошего человека вещах). Однако идеальные основания этой новой «традиционной культуры» были крайне слабы — они не были связаны с коммунистической идеологией, и, пожалуй, наиболее значимым ориентиром для этой культуры была Великая Отечественная война как отнюдь не «малая» пограничная ситуация, предопределившая культурный образ позднесоветского человека в таких существенных его чертах, как радикальный «гуманизм». Возродилось даже некоторое подобие дореволюционного функционального конфликта. Конфликт вновь протекал в форме игры в «кошки-мышки» — с одной стороны, «вы делаете вид, что вы платите, а мы делаем вид, что мы работаем», а с другой — работа не за деньги, не за славу, а за подлинный энтузиазм (например — энтузиазм научного поиска у поколения «физиков и лириков»). Однако «перестройка» безжалостно разрушила это еще не окрепшее общество — распалось большинство его связей, ритуалов, дискредитированы были многие его символы, — разрушено было жизненное пространство Советского Союза, идеально соответствовавшее образу «дружащих народов» (а значит и дружащих людей). Русские как этническая система вступили в полосу тяжелейшего кризиса идентичности, вплоть до беспрецедентной активизации «негативного образа мы». В начале 2000-х годов этот кризис, казалось бы, начал преодолеваться через «путинизацию» страны — активизацию культурных символов, связанных в русской большой традиции с идеей сильного государства. Трудно анализировать этнические и этнопсихологические процессы в сверхкороткие сроки, с точностью до месяцев, но все же есть основания полагать, что в последние месяцы массовое сознание сотрясают подземные толчки нестабильности; то, о чем с уверенностью можно было говорить еще несколько месяцев назад, сейчас выглядит значительно менее однозначным и с трудом поддается прогнозам. Однако — будем оптимистами. В борьбе внутриэтнических альтернатив спонтанное самоструктурирование этноса продолжается. Скорее рано, чем поздно должно выкристаллизоваться новое, приемлемое для нынешнего русского общества понимание русской «миссии», и она, разумеется, будет невыполнима. Других миссий у народов и не бывает.
|
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» О . . . | ||||||
| ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА ИЗДАТЕЛЯ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» К РЕДАКТОРУ | ||||||
|
Еще новый способ иностранцев распространять просвещение в России | ||||||
| ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||