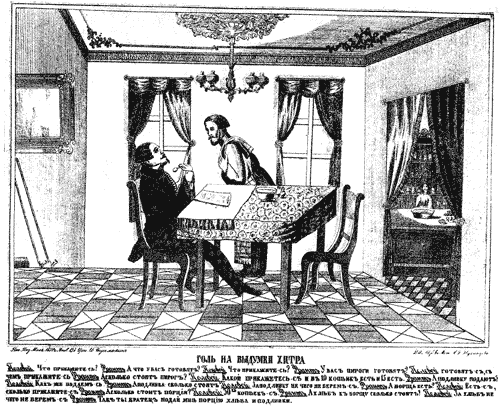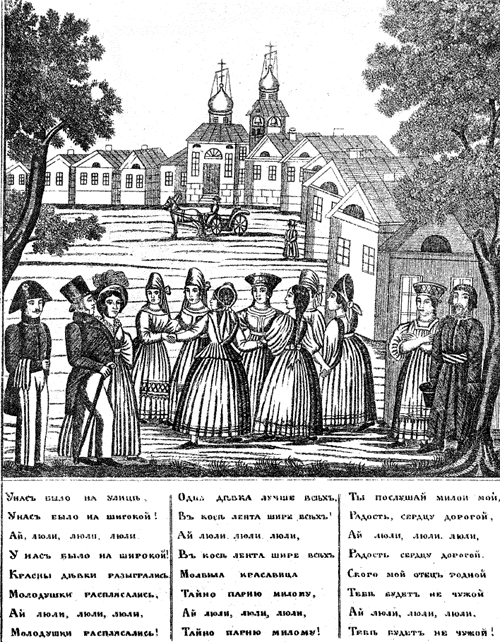ГЛАВНАЯ ТЕМА
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2002
| Понятие «мультикультурализм» возникло в конце 1980-х — начале 90-х годов в среде американских интеллектуалов и к середине 90-х было занесено к нам в Россию вместе с множеством новых словечек и ярлычков, таких как «постмодернизм», «новый историзм» и проч.[2] Все они остаются плохо проработанными и неотрефлексированными. Несмотря на это, многие из них приобрели важность и силу. Случилось это только потому, что на тот момент были разрушены все поддерживающие или связанные с прежней научной или культурно-идеологической номенклатурой предметные конструкции и доктринальные системы. Специалисты от научного коммунизма и исторического материализма хватались за первые попавшиеся западные «соломинки», пытаясь спешно переквалифицироваться в политологов, социологов, психологов или, на худой конец, культурологов. Однако победное шествие «мультикультурализма» в России после первых успехов вдруг остановилось. «Мультикультурализм» не стал таким же поколенческим знаменем, как, например, постмодернизм. И обязан он этому своей недостаточной пустоте. Ценностный потенциал, который заключался в признании сосуществования многих культур (а значит, допущения известного минимума открытости, готовности к контактам, терпимости), оказывался в глубоком противоречии с традиционной для России державно-национальной легендой власти. Незавидную судьбу «мультикультурализма» в России можно рассматривать как показатель общего сопротивления изменениям в российском обществе, как индикатор блокировки импульсов его развития в сторону большей функциональной дифференцированности, автономности отдельных подсистем. Это отторжение может принимать самые разные формы. Я остановлюсь лишь на одной из них — неотрадиционализме, под которым буду понимать не только растущую ностальгию по недавнему прошлому, его идеализацию (точнее — своего рода строительство задним числом потемкинских деревень), но и механизмы консервации представлений (антропологических, социальных, политических, символических и проч.), характерных для советской системы. Ретроориентации: динамика массовых установок Будучи эмпирическим социологом, я вынужден с осторожностью относиться к понятиям предельной логической общности — цивилизациям, культурам и т.п., поскольку чем выше уровень концептуальных «предметностей», тем выше опасность неконтролируемого ценностного постулирования, гипостазирования или натурализации идеологических или групповых представлений. Как правило, социологи работают с более четко определенными в теоретическом и методологическом плане понятийными «единицами», связывая те или иные смысловые конфигурации с пониманием ситуации членами соответствующей группы или института. После перестроечной эйфории 1988–1991 годов и недолгих гайдаровских реформ волна интеллигентского лозунгового либерализма стала спадать. После подавления попытки коммунистического реванша в октябре 1993 года ее сменили нарастающий поток «чернухи» и цинического «стеба», утрата уверенности в ближайшем будущем, чувства нестабильности, потерянности («безотцовщины») и массового разочарования в демократии. К этому прибавились фрустрация от заметного социального расслоения, травмирующее сознание, что большинство россиян не в состоянии достичь столь же высоких материальных стандартов жизни, какими обладают люди «в нормальных странах запада», и отсюда – усиливающийся общий тон депрессии, с одной стороны, и утрированного национального самоутверждения, с другой. Первое время проявления русского национализма расценивались прозападно настроенными людьми как своего рода пена, «культурный» ил, поднятый со дна потоком перемен. Но по прошествии времени оказалось, что «муть» не торопится оседать на дно. Поэтому исследовательский интерес группы социологов, к которой я принадлежу (связанных с программой ВЦИОМ «Советский человек»), сместился с изучения ресурсов изменения на изучение механизмов репродукции советских принципов. Неспособность политического слоя обеспечить интенсивное модернизационное развитие России, которое бы сблизило Россию с Европой по главным социальным параметрам, дискредитировало не только самих политиков, но и идеологию реформ, лозунги демократии и рыночной экономики. Это, в свою очередь, стало причиной инверсии — широко распространенной ностальгии по прежним временам идеализированной стабильности и относительного благополучия. Одновременно эрозии подвергся уровень самых общих коллективных представлений, что способствовало резкому увеличению значения повседневности, привычного, инерционного, а стало быть — и тех институтов, тех социальных форм, которые регулировали и упорядочивали частную, семейную, неформальную сферу существования и ее аморфные и неартикулируемые смыслы. Можно сказать, что в такой ситуации вектор символической значимости был направлен снизу вверх, т. е. не элита задавала новые идеи и идеалы, а напротив, сама принимала и ориентировалась на наиболее массовые, низовые, тривиальные эталоны человека и общества. Знаки оценки в данном случае не важны: это могут быть и положительные клише советского или русского патриотизма (вера в то, что русские «самые добрые и открытые, миролюбивые, отзывчивые и т. п.» люди в мире), так и негативно-цинические, лагерно-блатные, матерные модели (кураж шпаны или начальства над безответно-терпеливым и беспомощным человеком, по-разному описанные, например, Варламом Шаламовым или Владимиром Сорокиным). Важно, что полнотой определенности и значимости, убедительности, очевидности обладали лишь сравнительно простые истины выживания. Внутренняя работа в обществе на протяжении последних двадцати лет шла не над поисками более высоких целей и стандартов, усиливающих, повышающих достоинство людей, их самооценку и уважение, а на понижение — утверждение таких стандартов или шаблонов действия и интерпретации реальности, которая соответствовала лишь кругу вынужденных, непосредственно личных, частных отношений. За прошедшие 10–15 лет в российском обществе не возникло реальных представлений о качественно новых социальных институтах (рынка, представительства, баланса сил, взаимного сдерживания и контроля и проч.), т. е. таких, которые не были бы по инерции связаны с системой обеспечения или воспроизводства тоталитарных структур (мобилизационно-героических, а потому требующих аскетизма). Заимствуемые из арсенала западной политической или гражданской культуры лозунги, риторические фигуры, слова и проч. были лишены связи с собственно российскими событиями и проблемами. Западный опыт и идеи, если и упоминались российскими политиками и публицистами, то лишь в форме рецептурных пожеланий или предписаний (как надо делать) или как основание для критики прошлого или настоящего положения дел, как условие признания их ошибочности и необходимости возвращения к опыту прошлого. Нельзя сказать, что не было дискуссий о правовом или гражданском обществе. Однако эти представления не были развиты и остались идеологическим фантомом даже для политической элиты, не говоря уже о массе. Крах реформационных иллюзий и ожиданий неизбежно должен был обернуться возвратом к каким-то разновидностям идеологии «целого». И поскольку настоящее трактовалось как «развал», «хаос», распад и т. п., то таким целым могла быть лишь фикция «народа» в его прошлом. Постараемся разобраться с тем, что же входит в круг значений «прошлого».
В общем и целом «неотрадиционализм» включает в себя 1) идею «возрождения» России (тоска по империи, мечтания о прежней роли супердержавы в мире), 2) антизападничество и изоляционизм, а соответственно, — восстановление образа врага, 3) упрощение и консервацию сниженных представлений о человеке и социальной действительности. Быстрое разрастание значимости таких представлений может служить признаком деградации элиты, переориентирующейся на самые расхожие и массовые мнения и взгляды, прагматическое заигрывание с «электоратом», под которым подразумевается даже не большинство населения, а только самые зависимые, наименее защищенные и слабые в социальном плане его категории. Первая фаза общественных изменений в СССР (1987–1991) захватила главным образом более образованные слои населения крупных городов, а в них — статусно более высокие и, соответственно, более благополучные в материальном отношении группы. Именно они испытывали в поздний период существования советской системы растущую неудовлетворенность и дискомфорт, вызванные бюрократическим характером организации всей социальной и повседневной жизни. Годы брежневского правления воспринимались как застой, состояние гниения, нищеты и маразма. С 1989 по 1992 год число опрошенных, полагающих, что история страны была цепью преступлений, коллективного безумия, массовых репрессий и нищеты, поднялось с 7 до почти 50 процентов; общим стало мнение, что из-за экспериментов советского времени, репрессий, коллективизации и проч. страна оказалась на обочине истории и т. п., что «так жить больше нельзя», надо выбираться из этой ямы. Однако социальная мысль в годы перестройки не была связана с выработкой новых целей и ориентиров общества. Дискутировался лишь вопрос, что лучше — шведская модель социализма или китайская. Несоциалистические модели — американская или западноевропейская — казались привлекательными лишь единицам (два-три процента от общего числа опрошенных). Демократическая мобилизация против союзной номенклатуры разнородных (от прозападных и либеральных до патриотически-фундаменталистских и полудемократических) групп, а также широкая, хотя и крайне поверхностная и примитивная критика коммунизма как «сталинизма» (критика, в принципе не выходящая за рамки представлений о «социализме с человеческим лицом», разделяемых либеральным крылом советской бюрократии), не затронули ни базовых структур массового сознания, ни сознания образованного сословия. Но влияние критики советского прошлого было какое-то время весьма заметным. Так, в 1991 году 57 процентов опрошенных (репрезентативное общесоюзное исследование, 2000 опрошенных) были согласны с тем, что в результате коммунистического переворота страна оказалась на обочине истории, что ничего, кроме нищеты, страданий и массового террора людям она не принесла. Однако эффект этой журнальной пропаганды был очень кратковременным и противоречивым: затронув в публичном обсуждении табуированные ранее темы и оценки прошлого, эта критика освободила от страха перед репрессиями широкие слои общества, одновременно «разбудив» и наиболее пассивные и консервативные группы. Уже к 1991 году опросы показывали нарастание защитных реакций социальной и культурной периферии, мнений респондентов, что пресса «слишком много уделяет места теме сталинских репрессий» (62 процента; что «слишком мало» – всего 16 процентов; ноябрь 1990 года, 2074 опрошенных), что она «очерняет героическое прошлое» и т. п. Антисталинизм быстро приелся и надоел, поскольку не нес в себе ничего позитивного, связанного с повседневными интересами и представлениями людей. Вся острота негативизма была направлена на персоны прежних правителей, что создавало динамичные основания легитимности («от противного») для новых политических лидеров перестройки. Не меняя самих принципов патерналистско-бюрократического понимания организации общества, этот механизм критики «коррумпированности» правящей элиты оказался весьма эффективным средством переноса массовых ожиданий с одного отца нации на другого (с Брежнева на Горбачева, с Горбачева на Ельцина, Руцкого, затем — Лебедя, Немцова, Кириенко, Примакова и, наконец, Путина). Менялся состав руководства и ситуативное положения вещей, но общая композиция или структура ориентаций сохранялась, т. е. имела место репродукция основных представлений о реальности. И в 1989 году, и позже большая часть опрошенных была убеждена, что советская система обладала рядом несомненных достоинств (в частности, бесплатными и всеобщими институтами социального обеспечения, медицины, образования и т. п.). Проблема заключалась не в системе, а в «плохих правителях». Переворачивание патерналистских представлений способствовало распространению всеобщей уверенности в тотальной коррумпированности, всесилии мафии, продажности и неэффективности чиновничества, кознях олигархов и прочих всемогущих и злых сил. Чем сильнее было разочарование, тем сильнее становилась ностальгия по утраченному ближайшему прошлому, которое воспринималось как время умеренного благополучия, спокойствия, стабильности и уверенности в будущем. Ничтожности политического настоящего в глазах ущемленного, униженного обывателя противопоставлялась мощная в недавнем прошлом сверхдержава, которую боялись (а потому «уважали») другие страны (поскольку власть в советском обществе всегда воспринималась как репрессивная сила, то и западные структуры политического господства моделировались по той же схеме — самодостаточного и своевольного авторитета). В отличие от денацификации в Германии, проводившейся американской оккупационной администрацией (которая, контролируя доступ к властно-государственным, образовательным и масскоммуникативным институтам, стремилась укрепить новые политические силы и социальные институты), в России антикоммунистическая критика была направлена главным образом на дискредитацию легитимационной легенды прежней власти и не затрагивала при этом самой институциональной системы тоталитаризма. Не сопровождалась она и глубокой моральной переоценкой прошлого. В результате консервативная реакция на изменения и вызванные ими напряжения, кризис, частичную пауперизацию, утрату престижа и статуса прежде привилегированных групп вынесла на поверхность общего внимания и старые символы и ценности тоталитарного общества. Так, по прошествии нескольких лет популярность Сталина стала опять расти. В социологических опросах уже 1995 года Сталин занимал 3-е место среди «наиболее значительных деятелей и ученых в истории России». Этот эффект отчасти объясняется и слабостью институциональной структуры, обеспечивающей воспроизводство коллективной памяти. Поколение 1960-х годов, являющееся держателем исторического опыта сталинизма, не сумело передать его в обобщенной и аналитической форме молодым. Но дело, конечно, не в феномене Сталина, а в самой тенденции смены ценностной перспективы: с будущего на прошлое, общей ретроориентации, отмеченной его именем. Массовое сознание, оказавшись без средств интерпретации прошлого, без ориентиров на будущее, некоторое время предавалось коллективному мазохизму. Но, как и следовало ожидать, оно постаралось поскорее изжить травмирующие обстоятельства, вытеснив их из актуального поля переживаний. Уже в 1994-м подавляющее большинство населения России (50–60 процентов опрошенных) полагало, что сама по себе советская система была и не так уж плоха, негодными были правители, движимые исключительно эгоистическими интересами сохранения власти и собственным благополучием. Последующие же опросы (например, опрос 1997 году, 1500 респондентов) относительно качеств старой и новой власти дали следующую картину: советская власть характеризовалась опрошенными как «близкая народу» — 36 процентов, «своя, привычная» — 32 процента, «законная» — 32 процента, «бюрократичная» — 30 процентов, «справедливая» — 16 процентов; нынешняя власть — «далекая от народа, чужая» — 41 процент, «бюрократичная» — 22 процента, лишь 12 процентов называют ее «законной» и т. п.). Эти различия лишь в очень слабой степени обусловлены образованием, полученным респондентами, или уровнем урбанизации; главный фактор дифференциации — возраст (чем моложе респондент, тем слабее позитивные оценки советского времени).[3]
Одновременно в массовом сознании усиливались комплексы и представления, компенсирующие ценностную дефектность и малозначимость отдельного, частного человека. Семантически это выражалось в усилении представлений о том, что «настоящий русский характер» воплощен в «обычных/рядовых/простых людях», что его можно найти не в столицах или в каких-то избранных группах или слоях, а в тихой глубинке, в провинции. Соответственно, позитивными значениями награждались те области социальной реальности, которые были лишены значений рафинированности, культивированности, сложности, не требовали упорной и методической работы. Оппозицией этому все в большей степени становились образы «чужих» — Запада, США, а внутри страны — торговцев-кавказцев, чуть позже — чеченцев, евреев, новых русских, богатых, деятельных и ловких, инициативных, спекулянтов, а также коммунистов, шовинистов, жириновцев и проч. Поэтому постепенный отказ от иллюзий перестройки с ее прозападными настроениями элиты сопровождался усилением утешительной веры в то, что «у России свой собственный путь» (это мнение в конце 80-х годов разделяли примерно 35–40 процентов, в конце 90-х — 60–70 процентов опрошенных). «Есть опыт наших дедов, и мы должны держаться за него» — с этим суждением согласны 65 процентов опрошенных (против — 20 процентов), причем особых различий между высокообразованными и прочими категориями нет (лишь у пенсионеров это соотношение выглядит еще более контрастным — 82 процента к 8 процентам). Человеческий тип, актуализирующий сегодня эту сторону коллективного опыта, культуры, отличается характерным комплексом зависти («недоплатили») и готов поддерживать лозунги «Россия — для русских», «вон кавказцев» или «демократы разворовали и продали великую страну» и т. п. Соответственно, изменились и представления о «врагах» нашего общества. Если в 1989 году подавляющее большинство полагало: «Зачем искать врагов, если корень наших бед и ошибок в нас самих?» (49 процентов, на существовании врагов настаивали 12–17 процентов опрошенных), то уже в 1994 году 41 процент россиян утвердительно ответил на вопрос, есть ли враги у России, а в 1999 году — 65 процентов опрошенных.[4] Чем дальше от начала реформ, тем значимее становились немногие позитивные базовые символы советского времени: прежде всего — победа в Отечественной войне и успехи в космосе (полет Гагарина). Отметим также, что и само поле символических событий (т. е. историческая память российского общества) за эти годы заметно сократилось, а в нем стали преобладать негативные события (коллективизация, репрессии, афганская и чеченская войны, распад СССР, утрата роли мировой сверхдержавы и проч.). Стержневой идеей, вокруг которой группируются различные идеологические программы постсоветской интеллигенции, является идея «великой России» и ее восстановление. (Употребляя слова «идеологическая программа», я не имею в виду выработку каких-то новых ориентиров или политических целей, скорее, речь идет об артикуляции аморфных массовых представлений и клише.) Общественное мнение считает этот программный момент одним из важнейших пунктов оценки деятельности правительства (после чисто патерналистских требований государственного регулирования цен, наведения порядка и проч.), хотя и слабо верит в осуществимость подобных задач. «Возрождение великой державы» стало тем единственным символическим тезисом, на котором сходятся и либералы-западники, и коммунисты-патриоты, и поборники «святой православной Руси». Составные элементы того, в чем именно заключается это национальное «величие» державы, могут существенно различаться, равно как и средства достижения заветной цели, но общей программной композиции это не меняет. Если прозападно ориентированные рыночники видят в развитии рынка условие будущего процветания и мощи нового демократического государства, мировой державы, столь же экономически развитой, как и другие члены «большой семерки», то коммунисты ностальгически вспоминают военную мощь и государственный строй, общественную жизнь в СССР, православные неофиты уповают на соборность, «духовность» (православную веру) и патриотизм. По мере роста ностальгии по «великой державе» усиливается потенциал и функциональная значимость антизападных настроений. В России югославский кризис (уже основательно подзабытый и вытесненный из общественного сознания чеченской войной) и военные меры НАТО против Сербии вызвали реакции, резко отличающиеся по своему характеру от распространенных в странах Европы и США. Согласно апрельскому опросу 1999 года, 67 процентов опрошенных возмущены и резко осуждают бомбардировки НАТО в Югославии, встревожены подобным ходом событий, при этом, однако, лишь 9–10 процентов российского населения готовы поддержать оказание военной помощи режиму Слободана Милошевича и еще менее (около одного процента) высказываются за непосредственное участие России в боевых действиях против вооруженных сил НАТО. Столь же малое число опрошенных (всего один-два процента) высказывают одобрение и поддержку действий США и их европейских союзников.[5] Националистическая истерика, поднятая депутатами российского парламента и ведущими политическими партиями в этой связи, была подхвачена практически всеми СМИ в первые недели военных акций НАТО против сербов. По своему тону и характеру они напомнили принудительный общественный консенсус брежневской эпохи. Социологический анализ этих реакций показывает крайне слабую информированность опрошенных о предыстории конфликта, его участниках, о том, что непосредственно происходит в Косово, но тем сильнее проявление глубоких предрассудков, предрасположенности к негативному восприятию действий, в первую очередь, США. Антиамериканские настроения усилились в 5–7 раз в сравнении с тем, что было год или два назад. Гуманные мотивы — сочувствие к сербам или албанскому населению, равно как и мифическая «общеславянская солидарность» — не являются определяющими в этом отношении. Главное, что (помимо стойкого неприятия любых военных акций с любой стороны) окрашивало восприятие происходящего, это понимание действий США как демонстрации силы единственной супердержавы. Подчеркну — именно США (другие страны не воспринимаются как самостоятельные игроки на этом поле). Сопоставление, сравнение в этом плане происходит только с прежним военным и геополитическим противником, единственным достойным политическим оппонентом. США при этом предстают как ценностный максимум выражения семантики «Запада», квинтэссенция амбивалентных идеализированных и утрированных представлений (с одной стороны, утопия благосостояния и свобод, технологического и материального прогресса, тот недостижимый идеал, на который ориентируются политические силы; с другой стороны — многолетний символический противник, многообразный смысловой потенциал которого выполнял необходимую функцию негативной идентификации, интегрирующей советское сообщество). Скорость реанимации конфронтационных и великодержавных представлений свидетельствовала о том, что события в Югославии в интерпретации российской политической элиты стали эхом кризисных внутрироссийских процессов. Они подняли на поверхность глубинные пласты массового сознания, остаточные механизмы культуры прежнего мобилизационного общества. Вместе с тем образ запада-врага в коммунистическо-патриотической риторике играл теперь иную функциональную роль, нежели в советские времена. Теперь пропагандистские усилия не были нацелены на сплочение и консолидацию общества ввиду общей угрозы, достижения необходимого согласия относительно требований самоограничения, готовности к жертвам. Скорее, направленность этой пропагандистской кампании была прямо противоположной — ее инициаторы стремились подорвать и парализовать значимость и авторитетность остаточных либерально-реформаторских политических сил, представить их как агентов западных промышленных кругов, антинациональных, антирусских по своей сути, оказывающихся проводниками политики колонизации и разграбления национальных богатств России. В своем концентрированном виде русский национализм, составляющий основу массовой политической идентичности, можно обнаружить лишь у национал-коммунистов и близких к ним мелких радикальных объединений. Более распространенным является вариант умеренного национал-популизма, где лозунги и призывы к возрождению великой России, возвращение статуса великой державы в мире играют чисто вспомогательную роль легитимации региональной, финансово-промышленной или иной корпоративной бюрократии. Подобная риторика тешит сознание российского обывателя, который, однако, реально уже не верит в то, что Россия осталась великой державой или что она в состоянии вернуть себе эту роль в будущем; более 60 процентов (по данным опросов 2001 года) считают, что сегодня есть лишь одна великая держава – США. Однако гораздо более отчетливо последствия неотрадиционалистских тенденций проявились в обстоятельствах, вызвавших новую чеченскую войну. В отличие от первой, которая велась руководством страны при молчаливом неодобрении или даже пассивном сопротивлении общества (от 45 до 50 процентов осуждали ее инициаторов, полагая, что вину за ее развязывание несет прежде всего администрация Ельцина и российский генералитет), вторая чеченская война сопровождалась массовой консолидацией и негативной мобилизацией против чеченцев, причем такой высокой интенсивности, какой нам ни разу не приходилось фиксировать за все 12 лет эмпирических исследований в России. В 2000 году 65–67 процентов населения одобряли бомбардировки и штурм чеченских городов, требовали продолжать наступление, несмотря на все возможные жертвы среди солдат и мирного населения. (Волна негативизма продолжалась до весны 2000 года, после чего в массовом сознании начало пробиваться понимание бессмысленности и тупиковости этой войны.) Такая агрессивность и равнодушие свидетельствуют о том, что мы имеем в современной России дело не с процессами развития (т. е. функциональной дифференциации и усложнения системы, появлением новых механизмов взаимообмена и интеграции, выработки новых механизмов формообразования и их институционализацией), а с процессами разложения прежней институциональной системы (общества хронической чрезвычайной мобилизации, распределительной экономики, централизованного управления), компенсируемыми возникновением новых квазитрадиционных структур и воззрений. Если и применять понятие модернизации к России последних двадцати лет, то приходится характеризовать этот процесс как «традиционализирующую модернизацию», т. е. как усвоение нового, возможное лишь при такой его переинтерпретации, которая квалифицирует его в категориях традиционной или рутинной идеологии. Таким образом, мы имеем дело с противоречивой структурой идентификации, один план которой составляют представления и ценности предшествующей советской эпохи (великодержавный героический, мобилизующий национализм), а другой план — аморфные и нерационализируемые ценности и представления о«нормальной», спокойной и защищенной в правовом отношении жизни, смутном прототипе гражданского общества. Разумеется, в разных социальных группах удельный вес тех и других элементов будет различным, но для нас в данном случае важны их взаимодополнительность, функциональность этих будто бы несогласующихся друг с другом элементов. Деградация элиты Консервация подобной структуры массовых политических представлений предполагает постоянное (относительное) снижение интеллектуального и инновационного потенциала системы, подавление каких-либо импульсов функциональной дифференциации и социальной автономии, которые выражаются в ценностях специализированной и рафинированной усложненной культуры, соответственно, открытой к взаимодействию с другими культурами и интеллектуальными движениями. Систематическое упрощение и изоляционизм, в конечном счете, обернулись параличом наиболее образованных слоев и групп в советском и постсоветском обществе. В отличие от других стран Восточной Европы (Чехии, Польши, Венгрии), где силы гражданского общества оказались способны породить действенные элиты, которые выработали программы национального развития, или точнее — оказались способными адаптировать имеющийся в западных странах опыт реформ и социально-политической и экономической модернизации, в постсоветской России подобной элиты не возникло. Это связано как с докоммунистическим прошлым центральноевропейских стран, имевших опыт гражданского общества, так и с тем, что эти страны не претендовали на роль «центра», фокуса другой «цивилизации», другого мира. В той или иной мере они осознавали себя частью европейской вселенной, в то время как Россия самонадеянно считала себя центром другой культурной или цивилизационной системы. Эта мифология национальной, имперской исключительности долгое время поддерживала легитимацию уже потерявшего свою силу тоталитарного коммунистического режима в СССР. Собственно движение образованной элиты в сторону массы, стирание различий в оценках, взглядах, ориентациях, моделях понимания реальности между группами «образованных» и «плебсом» и следует квалифицировать как разложение элиты. Стираются различия в оценках, ориентирах, взглядах между высоко- и низкообразованными людьми. При некотором снижении ксенофобии в российском обществе, отмечаемом в последние годы, единственной группой, демонстрирующей не просто сохранение прежнего уровня этнического негативизма в отношении нерусских, но и рост комплекса ущемленности, обиды, страха перед «распродажей национального богатства страны», готовность ограничить доступ к значимым социальным позициям «чужаков», является группа респондентов с высшим образованием. За 7 лет наблюдений (с 1990 по1997 год) доля подобных ответов в социологических опросах увеличилась почти вдвое, с 39 до 69 процентов. В этой среде полагают, что государственные органы должны следить за тем, чтобы «инородцы», «нерусские» не могли занимать ключевые посты в правительстве, средствах массовой информации, в армии или милиции.[6]
Прямым следствием этой деградации становится «вытеснение» из поля общественного внимания всего «неприятного» в прошлом страны, «тяжелого», «оскорбительного» для национального достоинства. Вытесняется из сферы общественного обсуждения не только все, относящееся к тематике сталинского террора и репрессиям, но и любые свидетельства насилия, бедности и нищеты, этнонациональной дискриминации и т. п. Следствием становится то, что массовый человек оказывается лишенным средств понимания происходящего и вынужден опираться лишь на самые примитивные модели интерпретации политических и социальных изменений. В социально-культурном плане это ведет к усилению ориентации на наиболее рутинные повседневные образцы, к сужению зоны социальности, сохранению доверия лишь самому узкому кругу людей. Подобные разрывы в структурах политического или символического плана, с одной стороны, и рутинной повседневности, с другой, порождают устойчивые состояния внутреннего ханжества и растущей примитивизации публичной жизни. В России еще не было реформ в смысле сознательной и планомерной долгосрочной политики правительства, тем более такой, которая могла бы быть поддержана сколько-нибудь значительной частью населения, как это имело место в других странах бывшего «соцлагеря». Хотя многие аналитики и политологи рассуждают (в общепринятой логике «исследований перехода» — Transition research) об изменениях в политической системе и создании «демократических» и «рыночных» институтов в России, указывая на многопартийные выборы, свободу печати, разгосударствление экономики и т. п., реально же, на мой взгляд, продолжаются процессы медленного разложения прежних структур общества советского типа. Эти процессы разложения захватывают в первую очередь властные структуры управления и мобилизации, оставляя почти незатронутыми другие институты и сферы социальной жизни (система образования, правоохранительные органы, коммунальное хозяйство и т. п.). Прежде относительно единая и централизованная власть, утратив внутренние механизмы системного контроля и массового устрашения, сегодня дробится, децентрализуется, переходит на региональный или кланово-отраслевой уровень. Видимость процессов «демократизации» (наличие свободных выборов, многопартийности, свобода прессы, декларирование прав меньшинств и т. п.) не должна вводить в заблуждение, поскольку они никак не поддержаны «снизу», не определены массовыми интересами и движениями, не опираются на соответствующие ценности и моральные принципы, в том числе и представления о правах человека. Прежние, советские представления о тотальной зависимости человека от государства сегодня воспроизводятся лишь частично, они реальны на локальном или низовом уровне (уровне градообразующего предприятия, шахты и т. п.); на уровне социума в целом от них остались лишь символические структуры прежнего коллективного единства — державной солидарности, государственного величия, героизма и самопожертвования, как об этом свидетельствует структура опорных символов массовой культуры россиян. Их порядок выглядит так: война и ключевые события русской или советской истории — моменты образования государства или его предыстории с основными символическими фигурами — Петр I, первый российский император, Ленин как основатель советской державы, Сталин и основные военачальники, победители во Второй мировой войне — Георгий Жуков и другие генералы, а также и их имперские прототипы — Суворов, Кутузов, Ушаков и т. п.). Главное же, что отсутствует в современной российской политической культуре, это — обоснование индивидуальной политической ответственности, взаимности обязательств игроков публичной сцены, а соответственно, и публичного, общественного контроля за принимаемые политические решения и действия властей разного уровня. Отсутствие ответственности — главный показатель деградации элиты. Распад советской системы в первую очередь был связан с деградацией верхнего эшелона общества, вызванной несостоятельностью российской элиты, невозможностью для нее обеспечить непрерывный процесс развития или устойчивой адаптации к мировым процессам. Именно социальная недееспособность этих групп, а не массовое недовольство или острый экономический кризис вСССР стали факторами, превратившими сбои и дефекты репродуктивных систем (подготовки и смены кадров в разных сферах, в том числе — политического и социального рекрутирования, обеспечения инновационных отраслей и институтов гражданского общества) в хронический институциональный конфликт, который с началом перестройки обернулся резко ускорившимся разложением всей советской тоталитарной системы. Подчеркну еще раз: истощение культурных, идеологических, человеческих ресурсов поддержания режима мобилизационного общества является основной причиной краха советской системы. Однако само по себе разрушение социальной организации образованного слоя, «советской интеллигенции», еще не означает смены или глубокой трансформации культурных и социальных ценностей и представлений, которыми она консолидирована или которые обеспечивают гратификацию ее деятельности. Наиболее тяжелым последствием коммунистического режима можно считать почти полную импотенцию образованных слоев российского общества. Сегодня элита не в состоянии задать ни цели, ни ориентиры общественного развития, ни тем более — обеспечить внесение в социальную практику норм правового общества, новых представлений, соответствующих реальности рыночной экономики и проч. Это возможно (если вообще возможно) лишь косвенным образом — через медленную диффузию инокультурных образцов массовой культуры. Отсюда можно сделать вывод, что характер изменений определяется не столько политической волей руководства («доброй» или «злой», что зависит исключительно от точки зрения и групповых интересов и оценок), а рамками понимания реальности, конструкцией реальности, создаваемой или поддерживаемой образованным «классом». Если не позволять себе самообольщаться, то приходится признать, что нынешняя российская власть, далекая по своей природе от харизматического типа господства и авторитета, мотивирована в своих действиях исключительно прагматическими целями. «Господствующие» и «властвующие» ориентируются на те группы и слои, которые могут обеспечить им поддержку в этом плане. Нынешняя власть опирается в своих интересах на массовые настроения, которые по существу, как уже сказано, ностальгически традиционалистские. Интеллектуальное сообщество не в состоянии предложить ничего нового, что оказалось бы привлекательным или убедительным для общества. «Интеллигенция» опять-таки все в большей степени работает с готовыми и сниженными образцами и ресурсами. Причем готовыми и сниженными в двух отношениях — это адаптация и упрощение нынешних продуктов массовой «западной» культуры и сохранение «советской» идеологии (уже лишенной какой бы то ни было связи с марксизмом-ленинизмом, классовой идеологией и проч., но зато наполненной риторикой великодержавности, имперскости, былого величия). Соответственно, все более усиливающаяся ретроориентация блокирует интерес и ценность мирового опыта, более рафинированного представления о человеке, его сложности и многообразии. Собственно, именно эта сложность и отталкивает российских интеллигентов, теряющих интерес к чужому, сложному, культивируемому и рациональному. Чтобы не быть голословным, возьмем в качестве индикатора открытости новому число переводов с иностранных (европейских) языков, произведенных в последние годы[7]. Если взять динамику выпуска книг по тематическим разделам и выявить удельный вес переводной литературы в их структуре, то обнаружится следующая закономерность. Чем ближе та или иная тематика к наиболее «чувствительным» зонам национальной культуры, тем меньше удельный вес переводов. Больше всего переводится книг по так называемым прикладным дисциплинам — учебных пособий по изучению иностранных языков разной направленности и профиля, пособий по компьютерам, программированию, технике, финансам, бухгалтерскому учету, маркетингу, технике и проч. Здесь удельный вес переводов в соответствующих разделах доходит до 50–70 процентов. Довольно много инструментальной литературы по сексу, воспитанию детей, домоводству, здоровью, правильному питанию и другим вопросам, связанным с рационализацией повседневной частной и индивидуальной жизни. Если же взять традиционно гуманитарные области, то картина будет заметно иной. Наиболее закрытыми областями для инновации и инокультурного влияния будут те, что связаны с репродукцией отечественной культуры — филология и образование. Здесь доля переводов в выпуске новой литературы никогда не поднималась выше 2,6 процента (образование и педагогика: 1991 год –1,6 процента; 1992 год –2,5; 1993 год – 2,6; 1994–96 го-ды –1,9; 1998 год — 2,4 процента от числа названий в этом разделе; филология, соответственно, — 1,2 процента, 1,8; 2,8; 1,7; 2,1; 1998 год — 3 процента). По истории соответствующий показатель за эти годы будет составлять 7–9 процентов. По общественным и социальным наукам (включая религиоведение и теологию) удельный вес переводов: быстро растет от 20 процентов в 1991 году до 36 процентов в 1998 году. Еще больше показатель переведенных иностранных книг в разделе художественной литературы или детской книги: в 1991 году он составлял 41 процент, в 1992 году — 59 процентов, в 1993 году — 63 процента, затем начался спад — 47 процентов (1994), 39 процентов (1996) и, наконец, в 1998 году — примерно 30 процентов. Казалось бы, эти области — история, общественные науки и беллетристика — служат аргументом, опровергающим сделанные ранее утверждения. Однако содержательный анализ того, что именно переводится из числа приводимых в этих разделах названий, не дает надежд для оптимизма. Свыше половины книг в разделе истории — это развлекательная литература (например, история пиратов, знаменитых женщин, авантюристов и т. п.). Среди книг, которые приводятся в разделах общественных наук, 5–7 процентов составляют переиздания старых философов и мыслителей (Кант, Эпикур, Маккиавелли, Гоббс, Дюркгейм, Вебер) или исследователей, основные труды которых вышли в первой половине ХХ века — Мосса, Парсонса, Хайдеггера, некоторые работы Гуссерля, труды психоаналитиков и проч.). Еще 1–2 процента — это проверенные, авторитетные учебные курсы по социологии, социальной психологии, хрестоматии и проч. По словам Бориса Дубина, то, что появляется как «новейшая» научная или философская литература, на деле представляет собой произведения авторов, дебют которых относится к первой трети прошлого века. Иначе говоря, они появляются не как проблемная литература, а как классические и не проблемные свидетельства прежних интеллектуальных усилий, как культурное и интеллектуальное наследие, разгруженное от всякой актуальности. Примерно 20–25 процентов — популярные книги типа брошюр Карнеги («Как найти друзей», «Как добиться успеха») или псевдопособия по прикладной психологии («Как вернуть мужа») и проч. Но основная масса литературы в этом разделе — это либо тривиальная эзотерика, астрология и поп-мистика, либо опять-таки паранаука (парапсихология, хиромантия, белая и черная магия), а также сочинения православных авторов. Примерно то же самое можно сказать и о художественной литературе — здесь 3/4 всех названий представляют собой переводные дамские романы, детективы и боевики, фэнтези, сайенс-фикшн и проч. Доля «серьезной» или «высокой» современной литературы в этом разделе, т. е. произведений тех авторов, которые представляют собой нынешних властителей умов в Европе, США, Латинской Америке и других странах, составляет не более 0,5–1 процента от всех изданий, упоминаемых в «Книжном обозрении». Такая же картина по всем другим тематическим разделам.
Иначе говоря, характер переводческой работы во всех областях гуманитарного знания свидетельствует о подавлении самостоятельного интеллектуального процесса, скорее — об адаптации чужого опыта к массовым запросам, нежели об инновационном и критическом осмыслении современности. Причины этой импотенции российской «интеллигенции» следует искать в функциях, которые выполняли «образованные» в поддержании советской системы. В отличие от «элиты» в социологическом смысле (группы, чей авторитет связан с наивысшими достижениями в своей профессиональной области), «интеллигенция» функционировала всегда лишь как обслуживающая тоталитарный режим бюрократия, обеспечивающая систему в технологическом, кадровом и легитимационном плане, мобилизующая общественные ресурсы для поддержки патерналистской власти. Другого, как оказалось, она делать не в состоянии. И до «мультикультурализм» ей, похоже, мало дела. [1] Предлагаемый вниманию читателей текст представляет собой доклад, сделанный летом 1999 года на конференции «Толерантность и мультикультурализм» в Московском представительстве Фонда Карнеги за международный мир. Многое из отмеченного тогда сегодня получило новые значения и смыслы, почти не потеряв ничего из того, что я считал тогда существенным и важным. Текст выступления оставлен почти без изменений, добавлены лишь ссылки на появившиеся с тех пор работы и некоторые уточнения, потребовавшиеся по ходу изложения. [2] Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литературы США конца ХХ века. М.: ИМЛИ РАН/ Наследие, 2000. [3] Левада Ю. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия // Вестник Московской школы политических исследований. 1998. № 10. С. 13–34; Левада Ю. От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993–2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000. [4] Гудков Л. Комплекс «жертвы»: особенности массового восприятия россиянами себя как этнонациональной общности // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1999. № 3. С. 47–60; Гудков Л. Русский неотрадиционализм // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1997. № 2. С. 25–33; Гудков Л. К проблеме негативной идентификации // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 5. [5] Ср.: Бочарова О., Ким Н. Образ «Запада» в общественном мнении россиян // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 2000. № 1. С. 36–38. [6] Гудков Л. Антисемитизм и ксенофобия в России, 1990–1997 / Старые и новые фобии в России. М., 1999. [7] Данные собраны в ходе совместной работы, проведенной Б. В. Дубиным и автором в ноябре-декабре 1998 года; ее результаты были изложены ими на семинаре «Конец закрытого общества? Особенности рецепции западной культуры в современной России» 23–24 декабря 1998 года в Институте европейских культур при РГГУ. Обсчеты проводились по спискам новых книг, поступающих в Российскую книжную палату и систематически публикуемым в газете «Книжное обозрение». См.: Гудков Л., Дубин Б. Молодые «культурологи» на подступах к современности // НЛО. № 50. 2001. С. 147–167. |