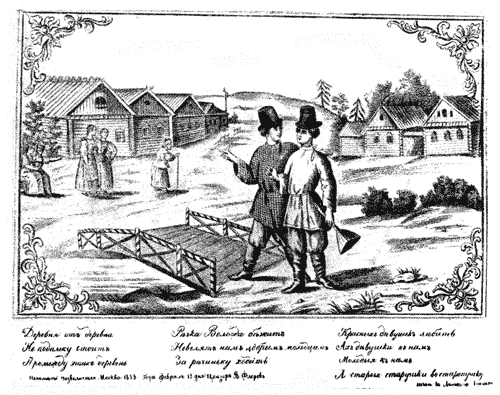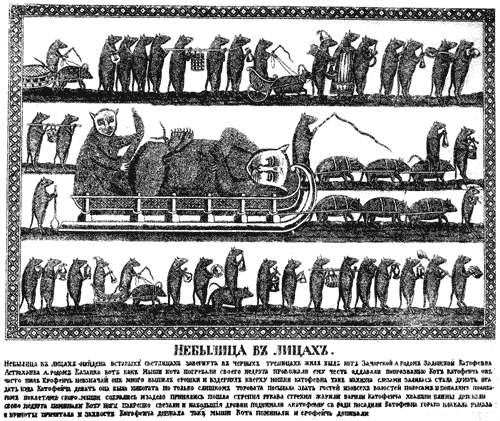ГЛАВНАЯ ТЕМА
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2002
| I Смутное напряжение господствует в наших публичных дискуссиях. Что-то рассеяно в воздухе, который привычно называть «духовной атмосферой эпохи», что-то словно бы мерещится и выговаривается с большим трудом. Так не бывает во время решительных битв, когда фронты определены и ценность аргумента равна его пригодности для эффективной мобилизации, когда внятность и суггестивная сила текста покрывают любые потребности в значимых критериях качества. Впрочем, надобность в такой риторике не пропадает никогда, только мобилизация не все время должна быть тотальной. Вот и сейчас, кажется, можно воспользоваться передышкой. Одним она нужна, чтобы собраться с силами для новых битв, другим — чтобы сосредоточиться и выговорить в меру сил нечто не однозначное и не призывное. Мы снова можем слушать и слышать, и этот редкий, ценный шанс — не только высказаться самому, но и услышать другого — хорошо бы не упустить. Что-то рассеяно в нашей духовной атмосфере, некая смесь нерешительности и недовольства, нарастающее напряжение неопределенности, которую так или иначе хочется преодолеть. Как возможно преодоление неопределенности? Разумеется, через полагание пределов — прежде всего себе самому, стремящемуся выговориться. Но также и тем, другим, кого мы желаем и кого не желаем слышать. Может быть, в социальном смысле предел значимости моих высказываний — это, например, общность людей, которые высказались бы так же, как я сам, если бы только имели возможность. Или наоборот: это множество людей, которые точно никогда не выскажутся за себя сами, и речь идет не столько о возможности «взять слово», сколько о возможности самого слова. За многих всегда говорят немногие. Но согласились бы наши многие, те, о ком и от имени кого мы дерзаем высказываться, с нашими речами — если бы сумели их уразуметь? И возможно ли, что многие уразумеют наши речи? И какой тогда смысл имеют речи немногих? Только один: это речи профессионалов, а не профанов. Итак, мы стремимся к определенности, но при этом предпочитаем не обозначать ту группу, от имени которой хотели бы говорить. Ведь только так мы вправе утверждать: наше суждение — не специфическая групповая позиция. За ним стоят содержательные соображения. То есть «те, от имени кого» — это, говоря словами Дж. Г. Мида, — «универсум дискурса», в котором мы ориентируемся не на конкретного, но на «обобщенного другого». Избегая определения этого «обобщенного другого», мы с большим или меньшим успехом создаем видимость рассуждений лишь о «существе дела» — так, будто нашими устами глаголет милосердный к немногим абсолютный дух. Что же, так или иначе мы идем путем содержательных определений. Называя вещи, мы определяем позиции, более или менее уютно устраиваясь в гнездышке своей дисциплины: там можно продержаться, там ждет нас постоянно пополняемый концептуальный запас. Но именно отсюда приходится выходить в мир, а мир, по словам Ницше, — это «врата к тысячам пустынь, мрачных и немых». Мы наполняем их своими концептуализациями и скоро обнаруживаем, что места не хватает и в пустыне, потому что немало тех, кто хочет обустроить ее сообразно не столько даже собственному разумению, сколько стандартам своей дисциплины. Но и не выходить в мир нельзя, потому что в публичных дискуссиях речь идет не о достоверности дисциплинарного знания и не о поиске истины как таковой. Науки наук, способной разрешить противоречия между дисциплинарно специфическими описаниями, нет и, наверное, уже никогда не будет. В публичной сфере нет ни судьи, ни процедуры, подтверждающей состоятельность высказываний, есть лишь внимание просвещенной публики, есть борьба за внимание (за место для стройки в пустыне духа) и есть, как и во всякой борьбе, победы и поражения. И хотя проблемы бывают адекватно сформулированы лишь на более отчетливо артикулированном языке специальных дисциплин, именно публичное внимание решает дело.[1] Доверяет ли общество (говоря совершенно метафорически) своей философии или предпочитает этнологию, или историческую науку, или лингвистику? Может ли классическая филология быть достаточным ресурсом для суждений о международной политике? Может ли философия постмодерна быть достаточным ресурсом для решения проблем этнологии? Может ли психология личности быть достаточным ресурсом для экспертизы экономических проектов? Конечно, может! Именно это и происходит в публичной сфере, и если читатель/слушатель/зритель готов доверять экспертизе математика в области теологии, то вопрос о том, почему он не доверяет (или все-таки доверяет?) экспертизе теолога в области математики, — это вопрос не математический и не теологический, это вопрос о том, каково состояние общества. Дискуссии о состоянии общества, иначе говоря, суть свидетельства его состояния. Не только содержание высказываний, но сама форма обсуждения, господствующие темы, излюбленные и молчаливо отторгаемые аргументы, дисциплины признанные и не признаваемые в качестве источника авторитета — вот что может и должно было бы стать предметом рассмотрения… чего? Какой дисциплины? Не окажемся ли мы в ловушке, если попытаемся таким безыскусным способом провести идею высшего авторитета и науки наук? На самом деле такая идея, конечно, не может быть реализована. Возможно другое: отдавая себе отчет в характере публичного представления научного знания, нам следует — хотя бы во имя уже почти не упоминаемой и не модной интеллектуальной честности — признать, вокруг чего идет дискуссия. Идеальным образом не только дисциплинарные, но и междисциплинарные споры — это сфера науки. Дискуссии публичные — это способ завоевания внимания и влияния, способ добиться изменений в состоянии умов и тем самым повлиять на свое общество. Научное и даже философское знание выступает здесь не в своей подлинной форме, но уже готовым к употреблению. Но если так, имеют ли публичные дискуссии какую-то иную, не просто социальную ценность? Можно предположить, что имеют: именно настолько, насколько приверженность канонам дисциплины делает нас профессиональными идиотами. Та готовность не только говорить, но и слышать, о которой мы только что упомянули, может стать для каждого чисто профессиональным шансом, способом преодолеть ограниченность собственной позиции в той ситуации, когда на нее можно взглянуть со стороны. А это, в свою очередь, может быть одним из редких шансов для общества, большей частью принужденного выбирать между двумя видами экспертов — идиотами профессиональными и непрофессиональными. Разумеется, и эта картина выглядит слишком благостной. Вроде бы, с одной стороны, ученые цехи со своими канонами, а с другой — множество профанов, для которых устраивают свои представления ученые обезьяны. На самом деле каждый из нас мог бы рассказать много грустных историй о том, что творится в тех областях, которые только сила привычки принуждает нас называть цеховым знанием. И все-таки эта картина не так уж далека от жизни. Если профессиональное единодушие специалистов здесь приукрашено, то профессиональный гонор — едва ли. Мы более или менее отчетливо идентифицируем себя с цехом, чтобы опереться на его общественный авторитет. Хорошо и правильно, если это происходит, потому что невнятица неизвестно по какому ведомству относимых суждений позволяет вообще отказаться от критериев качества и правил рассуждения, целиком положившись на энергетику текста. Но такая — честная, похвальная, на наш взгляд, — самоидентификация таит в себе подвохи. Мы покажем это лишь на одном конкретном примере — социологии, но не той, какая она есть в своих высших достижениях, а той, какая представлена в наших публичных дискуссиях. Быть может, другие, более надежные дисциплины, позволяют представить дело иначе. II Социология отличается пристрастием к эмпирической конкретизации ходячих и самоочевидных понятий. Например, социолог скажет так: да, мы говорим (вы говорите!) о России, ее душе, ее судьбе, ее истории, ее культуре. Но можно ли пощупать, увидеть, как-то непосредственно ощутить реальность этих общих понятий? Ведь если Россия принимается как нечто само собой разумеющееся, то последующие дискуссии могут касаться только квалификаций, но не предмета этих квалификаций. Правильно ли охарактеризовали мы то или иное явление русской культуры (или культуру в целом, в ее наиболее важных для нас аспектах)? Что может быть более естественным, чем обсуждение такого вопроса или одной из его бесконечных модификаций! Но социолог говорит: эмпирическое значение того, о чем идет речь, далеко не очевидно. Мы знаем, что в течение определенного времени некоторая территория сильно меняла свои очертания, что она далеко не все это время называлась Россией, что мы скорее опрокидываем в прошлое некоторые нынешние представления о том единстве, которое по не вполне очевидным причинам называем «Россией». Это позволяет нам, между прочим, искать в прошлом корни настоящего, проводить аналогии, выстраивать ряды причинных зависимостей и делать далеко идущие утверждения: так, дескать, было в России раньше, так есть теперь, а вот так будет впредь. То, что Россия наших дискуссий, — это не Российская Федерация, Россия, как она обозначена в действующей Конституции, еще полбеды. Пусть пространственно-временной континуум «Россия» — это наша конструкция. Состоятельность этой конструкции неплохо бы доказать, прежде чем использовать ее в любом обсуждении, а если нельзя доказать, то хотя бы более или менее точно показать, в каком именно смысле будет употребляться привлекательный термин. Показать — на тот случай, если самоочевидность окажется мнимой, если она не разделяется всеми участниками значимого для нас дискурса. Однако это не спасет положения. Ведь не территория, очерченная государственными границами, интересует нас в первую очередь, но некое смысловое единство. И все же, имеет ли дело социология со смысловыми единствами? Сделаем здесь небольшое отступление. Лет двадцать назад я услышал от своего учителя удивительную формулу: «Вот в этом институте, — сказал он, несколько неопределенно указывая вдаль, где за домами, трамвайными путями, высокой решетчатой оградой и уютным парком скрывалось что-то секретное, — сидят физики. Про них начальство точно знает, что они делают атомную бомбу. А про наш институт начальство думает, что социологи делают социологическую бомбу».[2]
Ну, бомбу не бомбу, но какого-то эффективного инструментального знания от социологии тогда действительно ждали, хотя слегка ее и побаивались. То есть бомба хороша, когда падает на крыши вероятного противника в указанное время. А вдруг она взорвется сама по себе, круша все живое? Помнится мне, как в те же годы первый отдел института, профессионально охранявший секреты социологов, обеспокоился пребыванием вычислительного центра на первом этаже здания. Ведь, хотя на окнах были решетки, проходящий по улице шпион мог бы специальным устройством считать прямо с ЭВМ информацию, ценность которой для вероятного противника не подлежала сомнению. Кажется, решить эту проблему они не успели, так что врагам, возможно, удалось поживиться. Случилась перестройка, отношение к шпионам и вероятным противникам смягчилось, потом не стало первого отдела, а через несколько лет и социология стала почти безопасной. Не то чтобы взрываться было нечему (какие-то хлопки раздавались, заставляя вздрагивать нервную общественность), но была здесь некая особенность… Вот, например, в Германии в начале 1930-х годов один философ и публицист, Эрнст Юнгер, поздравлял другого, Карла Шмитта, с выходом книжки «Понятие политического» примерно в таких выражениях.[3] «Вам удалось удивительное изобретение — бесшумная бомба. Смотрите-ка, что за дела: никто ничего не заметил, пока разрушения уже не свершились». А у нас, пожалуй, все было не так: и шум заметили, и дым, только разрушений не возникло. А теперь и вовсе «социологическая бомба» покажется неудачной метафорой. Но это теперь. Что же взрывоопасного было (или казалось, что было) в социологии раньше? Прежде всего, она была важным дополнением (а отчасти не вполне лояльным конкурентом) не только официальной статистике, но и официальной интерпретации официальной статистики. Во-вторых, у нее была своя изюминка, фирменный метод получения информации, которого не было у других социальных дисциплин, — массовые опросы. Каким бы несправедливым и зауженным ни было представление о социологических исследованиях как массовых опросах, некоторая доля правды в нем есть. Социолог, согласно наиболее распространенному пониманию этой профессии, узнает, что думают сами люди, а не то, каковы официально утвержденные и одобренные мнения. У него в распоряжении словно не одна, а две бомбы, или, точнее говоря (чтобы освободиться наконец от пут навязчивой метафорики), два эффективных механизма двойного назначения: это информация, во-первых, об объективном положении дел и, во-вторых, о том, как это положение дел отражается во мнениях. Откуда берется информация о положении дел? Разумеется, из статистики, из наблюдений, из множества других источников. Но самый главный, фирменный источник все тот же, — опрос. Социолог спрашивает — и ему отвечают, во-первых, о положении дел, а во-вторых, о мнении относительно положения дел. «Платят ли вам зарплату?» — спрашивает социолог жителя глухого села, где уже начали забывать, как выглядят деньги. «Не платят». — «И как вы думаете, это плохо?» — «Скорее да, чем нет». Спору нет, это бесценные сведения. И в особенности они важны для того, кто хочет что-то продать. Ведь потенциальному покупателю не всегда требуется наличность: политического деятеля, например, можно выгодно сбыть, принимая в оплату избирательные бюллетени. Собственно говоря, после того, как прошел первый шок и улеглись последующие страсти от того, что граждане не так думают, да еще сообщают о своей жизни всякие неприятные подробности, только это и осталось: как бы что им продать. И только в этой связи продолжают быть интересными их рассказы о тяжелой или не очень тяжелой жизни, а также мнения, высказанные по этому поводу. Впрочем, и по сей день во многих случаях, когда не хватает статистики или иной информации, потребной для управленческих решений, тоже обращаются к опросам, по привычке именуемым «социологическими». Технологию получения данных лукаво и недобросовестно называют «наукой». Но что-то даже здесь не складывается. И нетрудно заметить, что именно. Коротко сформулируем это следующим образом. Исследователь задает вопрос и получает ответ. Чем вызван ответ? Можно сказать: мнением. Когда существует это мнение? В момент опроса. Что произойдет через минуту, через час, через неделю? Изменится ли оно или останется прежним? Если мы не удовлетворимся зафиксированным сегодня мнением, то как часто надо повторять опросы? Ведь мнения на то и мнения, чтобы меняться, но отслеживать этот процесс непрерывно невозможно. Поэтому ученые, а вслед за ними и социальные технологи исходят из постоянства или предсказуемой динамики результатов; ценность неожиданного тем выше, чем оно реже. Откуда берется постоянство мнений? Наверное, ситуация, которую они отражают, не меняется. Или ситуация меняется, а мнения остаются? Или меняются именно мнения при неизменности ситуации?.. Но постойте-ка! Ведь мы нашли, что и про жизнь, и про мнения о ней мы узнаем одним и тем же способом. Иначе говоря, для того чтобы сравнить факты и мнения, социолог (а значит, и его заказчик, кто бы он ни был) должен отделить во мнениях факты мнений от мнений о фактах мнений? Чтобы заключить, что факты мнений сбольшей или меньшей адекватностью отражаются во мнениях о фактах? Собственно, почему бы и нет? Как иначе нам узнать множество самых любопытных вещей? Например, кем хотел быть в детстве опрашиваемый нами человек, какие места работы сменил, сколько у него детей, чем предпочитает питаться и во что одеваться, как представляет себе расположение и конфигурацию штата Алабама и какие мысли вызывает у него слово «клонирование». В антропологии таких людей называют «информантами». Социолог ведет себя в своем обществе подобно антропологу среди первобытных племен: их речи темны и загадочны, их поступки почти необъяснимы, их жизненный уклад ничем не походит на наш. Конечно, социолог, в отличие от антрополога, — человек не другого, но того же самого общества. Однако это общество велико и неоднородно, а главное — в нем далеко не все разделяют наивную уверенность в самоочевидности знакомых вещей. Точнее говоря, для разных людей самоочевидны разные вещи, причем они об этом (т. е. о том, что на самом деле не понимают друг друга, хотя и считаются членами одного и того же общества) не знают. Кроме того, есть ведь еще и временное измерение, как сказал бы Никлас Луман. И с одним человеком так часто бывает, а уж с множеством людей — тем более: сегодня они говорят одно, завтра — совсем другое, причем они об этом (т. е. о том, что мнения их на самом деле радикально переменились) не знают[4]. И вот, благодаря массовым и не очень массовым опросам, люди узнают о себе и себе подобных массу любопытного, то, что, казалось бы, известно и доступно, но нельзя узнать по-другому. Если, конечно, им ведомо это любопытство. Но если любую информацию можно использовать, чтобы нечто продать, то, в свою очередь, и продать можно любую информацию. Остается лишь сделать последний шаг — объявить этот бесконечный поток избыточной информации «наукой об обществе». Впрочем, этот шаг можно и не делать. В любом случае важное затруднение помешает нам всерьез принять претензии на особый статус полученного таким образом знания. Затруднение состоит в том, что информации оказывается слишком много. Ее никто и никогда не сможет освоить. Чем более полной мы хотим ее сделать, тем меньше шансов, что сама по себе она надолго завладеет вниманием. На первый взгляд, это затруднение слишком очевидное, простое и неинтересное. Но преодолеть его совсем не просто. За ним, как ни странно, стоит то самое состояние общества, о котором у нас еще должна идти речь впереди. Два примера помогут нам прояснить здесь некоторые важные моменты. По причинам, которые еще подлежат объяснению, мы берем их не из науки, но из литературы. Первый пример относится к описанию кризиса самосознания рефлектирующего интеллигента среднего возраста. Вступив во вторую половину жизни, он застает себя, правда, не в сумрачном лесу, а на «парижском чердаке», где и пытается зафиксировать свою тождественность:
Чтобы собрать свое «Я», он множит перечисление примет, в число которых, помимо цвета кожи и цвета волос, попадают, по обычаю русского интеллигента, пророческое всезнание и, далее по тексту, несколько дорогих воспоминаний, среди которых «дачные балы» «в Останкине летом» и «полночные споры», в которые он некогда «всю мальчишечью вкладывал прыть». Но добро бы только дорогие воспоминания. На деле же вспоминается все по мелочи, «от ничтожной причины к причине». Одно только перечисление всего памятного показало бы невозможность собрать свое «Я» таким образом. «Только есть одиночество — в раме / Говорящего правду стекла» — моментальный образ тела сопоставляется с рядом моментальных воспоминаний, не более. Кстати говоря, понятие «Я, смотрящегося в зеркало» («glass-looking self», в русской терминологии — «зеркального Я») — существует в социологии[6]. Только здесь оно означает совсем не то, что у нашего поэта: зеркалом оказывается Я, отражением — другой человек. В одиночестве (очень сложном социальном факте) нет никакой «правды стекла». Я не абсолютно, оно концентрируется вокруг стержня социального взаимодействия, собирает себя настолько, насколько встречается и взаимодействует с другим(и) Я. Его воспоминания и впечатления множественны, но не равнозначны, потому что актуализируются и выстраиваются применительно к ситуации встречи. Второй пример мы возьмем из неумеренно часто цитируемых и затертых почти до непригодности рассуждений Х. Л. Борхеса о картах и картографии. Кажется, даже из них извлечено еще не все ценное. В одной из самых известных новелл[7] рассказано о совершенной карте Империи, которую все уточняют и уточняют. Наконец, разработанная до мельчайших подробностей, она показала и, соответственно, покрыла всю территорию государства. Совершенное изображение совпало с изображаемым? Это смотря по тому, что изображать. Ведь на той карте, сколько можно судить, были изображены лишь объекты физической географии. Она не была ни картой экономических районов Империи, ни картой расселения проживающих в ней народов, ни картой климатических зон. Собственно говоря, именно поэтому она и оказалась той самой картой, которая так точно совпала стерриторией — как физический объект с физическими объектами. Но у Борхеса есть и другое, правда, всецело заимствованное рассуждение про карту. В эссе «Скрытая магия в Дон Кихоте» он цитирует знаменитого американского философа Джосайю Ройса. Ройс говорил, что на самой точной карте Англии, если даже под нее отвести идеально выровненный участок территории, все-таки не было одного физического объекта — самой карты. Поэтому понадобилось бы включить в нее помимо всех остальных объектов и карту как физический объект, и изображение карты на карте, и изображение карты на карте на карте. В случае с картографами Империи точность карты делает излишней ее самое. Во втором точность карты предполагает бесконечное повторение включений. Но на самом деле, и это еще не все. Потому что внимательный заказчик мог бы сказать картографам (скорее всего тем, имперским): — Почему это я, когда всхожу на гору рядом с дворцом и смотрю на закат, испытываю благоговение и вспоминаю строки любимого поэта, отвечающие моему возвышенному настроению? Когда же я гляжу на вашу карту, то место это не вызывает у меня таких чувств — разве только карта уже размещена подобающим образом и увидеть изображение горы можно только вместе с горой, покрытой картой, т. е. именно безотносительно к карте, отличной от ландшафта. И почему бы достаточно точной карте не отобразить также и другое: что дворец, храм, рыночная площадь, пастбище — это не просто физические объекты, но нечто такое, что имеет смысл для людей, причем смысл этот для разных людей может быть разным или он может быть явлен по-разному, например, когда думают одно, говорят другое, а действия, сопровождающие речь, указывают и вовсе на что-то третье. Между тем действия суть события, происходящие на той же территории, а это значит, что их тоже можно было бы нанести на карту. Но какие именно действия? Например, человек заходит в храм и снимает (или, напротив, надевает) головной убор. Внешним образом он действует в соответствии с канонами своей религии. Но вправе ли мы нанести его действия на гипотетическую карту действий? Кажется, что это нетрудно: действия сгруппированы вокруг физических объектов, отображенных на карте физических объектов. Физические объекты могут иметь символическое значение и быть отображены на карте символических значений, а связанные с ними действия мы можем отнести, например, в конфессионально бесцветную категорию «ритуальное поведение». Но как нам удалось установить смысл этих действий? Ведь следование правилам в одном случае означает благоговение, в другом — конформизм, в третьем… ну, скажем, маскировку этнографа, втирающегося в доверие к верующим, или — возьмем что-нибудь менее экзотическое — непроизвольное подражание профана массовому поведению окружающих. Мы видим, что во многих случаях даже адекватное описание, не говоря уже об анализе или объяснении событий, невозможно, если во внимание не принимается тот смысл, который эти действия имеют в контексте социальной ситуации как для самих действующих людей, так и для тех, кто тут же, на месте, воспринимает их поведение и реагирует на него. Именно в этих случаях социальный ученый особенно охотно предпочтет если не целостную реконструкцию образа социальности, то хотя бы воссоздание ее обширных фрагментов по немногим доступным данным. А такая реконструкция — если только она проведена добросовестно — предполагает сложный смысловой анализ, «плотное описание», как говорит знаменитый антрополог Клиффорд Гирц (заимствуя сам термин[8] и некоторые важные рассуждения у Гилберта Райла). «Плотное описание» предполагает, что социальные события исследуются (в духе Макса Вебера) постольку, поскольку они имеют субъективно значимый смысл, т. е. некоторый смысл для тех, кто участвует в этих событиях, совершает поступки, так или иначе отдавая себе отчет в происходящем. Однако смысл не одномерен. Он содержит сложные отсылки к тому, что совершается здесь и сейчас, атакже к прошлому или будущему, к прямому или непрямому значению производимых действий (например, когда мы имеем дело с намеками, передразниванием, стремлением ввести в заблуждение) и т. п. Он субъективен, но вместе с тем социален. Плотное описание социальности и означает выяснение этой многозначности. При этом мы устанавливаем, какой смысл вкладывают действующие в свои действия и какое общество можно обнаружить благодаря полученному таким образом знанию. «Культурный анализ является (или должен быть) угадыванием смыслов, оценкой отгадок и выведением объяснений из лучших догадок, а не открытием Континента Смысла и картографированием его бесплотного ландшафта».[9]
Таким образом, значение наших примеров вполне проясняется. Рефлексия «Я» перед зеркалом позволяет напомнить о «зеркальном Я». Картографирование местности позволяет поставить вопрос о картографировании «ландшафта смысла». Собирание индивидуального Я оборачивается растерянностью и невменяемостью, если саморефлексия относится ко всем событиям внутренней и внешней жизни и не находит опору в безусловно значимом (хотя бы для данного момента) приоритете одних событий над другими, в ситуативном определении своего и отличении его от чужого. Но на самом поверхностном уровне проблема здесь не в аморфности Я, которому мы вправе не придавать никакой ценности, а в некоторой избыточности, которая поражает нас чисто количественно — точно так же, как она настигает стремящегося к максимальной точности картографа, что бы он там ни наносил на карту — реки с холмами, храмы с дворцами или путешествия [10] повседневной жизни и сопровождающие их мнения и оценки. Избыточность поражает нас и тогда, когда мы стремимся собственную деятельность описания и познания включить в описание и познание — из этого порочного круга, как известно, невозможно вырваться. К социологии это имеет прямое отношение. Мы задались вопросом, исследует ли она смысловые единства, но правильнее было бы спросить: что еще, кроме смысловых единств, она могла бы исследовать. Каждое действие, каждое мнение, каждое социальное событие лишь потому попадают в зону ее внимания, что относятся к этим смысловым единствам. Еще точнее: социолог относит их к смысловым единствам. Только у социолога эти единства, по идее, совсем другие, чем у историка, литературного критика или философа. Если мы говорим, что хотели бы выяснить мотивы, стоящие за выбором именно данного кандидата на политический пост или предпочтением именно данной марки презерватива, то не только технология опроса (несмотря на все различия) остается, в принципе, той же самой, но и нечто более важное — представление о том, что у опрошенных есть мотивы, которые необходимо выпустить на волю посредством вопроса или через предложение товара. Мы предполагаем, далее, что эти мотивы устойчивы, а их более или менее предсказуемая динамика связана с некоторыми более глубокими, структурными характеристиками. Раньше их модно было называть «ценностями», и поиск ценностей (ценностных ориентаций, ценностных предпочтений и прочего в том же духе) был одним из основных занятий социологов. Помимо ценностей, много чего еще можно исследовать: установки, цели, жизненные планы, потребности. Теперь вот можно добавить в эту же категорию, например, картину мира. Почему люди действуют так, как действуют? Потому что мотивы у них такие. Откуда мы знаем о мотивах? Они нам на вопрос ответили. Откуда берутся мотивы? От потребностей, установок и ценностей. А про них мы откуда знаем? Они нам на вопрос ответили. А предпочтение ценностей, а устойчивость установок — откуда это? А это уже традиция, духовный склад, наконец, картина мира. И обо всем этом с большими или меньшими трудностями мы можем судить, потому что нам ответили на вопрос. Получается, что социология пытается положить предел бесконечному накоплению фактов, поскольку вводит критерии значимых описаний. Одно дело — спрашивать кого угодно о чем угодно, другое — искать и находить основные блоки, из которых составлен социальный мир. Предполагается, что именно поэтому она наука. Но в этом смысле — ничуть не более наука, чем любая из дисциплин, оперирующих, будто с реальными вещами, с понятиями «Россия», «дух народа», «культурная традиция».[11] На самом деле «дух народа» не более, но и не менее реален, чем пресловутый «дух капитализма», и тем более — чем «мотивации» и«ценностные ориентации». Просто это другой словарь, и лишь общественным признанием результата должно определиться, на каком именно языке будут публично ставиться значимые вопросы и даваться ответы. Со словарем социологии связаны определенные методические процедуры, позволяющие поставить вопрос об эмпирическом наблюдении, но ценность таких процедур может быть ничтожной в глазах просвещенной публики. Продуктивность — это общественно признанный результат. Социологические результаты могут быть важны (например, результаты предвыборных опросов), но только на короткое время. Да и вообще, как раз в науке любой результат, будь он связан с фактографией или с попыткой фундаментального объяснения преходящих фактов, быстро теряет ценность. Пытаясь представить публике словарь своих описаний и объяснений как основной («конечный», в терминологии Р. Рорти) словарь, дисциплина должна предъявить ей нечто большее, нежели совокупность «интересных фактов». Но для этого требуется нечто иное, чем судорожное картографирование, не то покрывающее — по идее — всю территорию социальных фактов, не то ограничивающее себя — с фальшивой, заметим, скромностью — лишь малыми фрагментами великого «Континента Смыслов». III Мы недаром упомянули вначале о том, что опросы бывают массовыми и не очень массовыми. Техническая подробность? Не совсем так. Одно дело отобрать из нескольких десятков миллионов тысячу с небольшим подлежащих опросу респондентов, чтобы затем оперировать обобщенными, статистически обработанными данными. Другое дело — долго и подробно беседовать с несколькими десятками людей, а потом придавать особую ценность дословному или почти дословному воспроизведению фрагментов этих бесед. В этом последнем случае ценно именно индивидуальное, неповторимое, тонкие оттенки смысла. Лет десять назад один английский коллега, представитель, пожалуй, самой радикальной версии такого подхода, толковал мне его идеологию. Нам, социологам, говорил он, надо отказаться от иронии по отношению к тем, кого мы исследуем. Ирония — это когда социолог подходит к людям со своими инструментами, понятиями, схемами как некий знающий и посвященный к невежественным профанам. Но ведь он собирается постигать их жизнь — и отбрасывает как ложные и несущественные те тонкости повседневного понимания, которые составляют сердцевину Я его собеседников — не просто «дорогие воспоминания», но и сложные плетения социальных смыслов с их недосказанностями, намеками и принятием в качестве самоочевидных многих, слишком многих вещей, которые и социолог считает само собой разумеющимися. И не ошибается. Только разумеет он их по-своему, не так, как опрошенные. Что же, мы отказываемся от иронии и стремимся раскрыть мельчайшие подробности повседневности? Но тогда почему, скажем, надо ограничиться только этой деревней, только этой семьей, только этой лабораторией — куда там еще занесет нас исследовательский интерес? Потому что сил на все не хватит, потому что — избыток. Это ясно. А что значит «без иронии»? Это значит без своих, чуждых «простому человеку» понятий и схем? Но тогда чем наши речи отличны от речей самих участников повседневного общения? И если ничем, то зачем тогда мы? И при чем здесь наука? Разумеется, можно решить и по-другому: благородный отказ от иронии — лукавство. Исследователь так или иначе дистанцирован от материала, и схематизация — это единственный способ создать нечто относительно устойчивое, не размываемое потоком событий. Научные понятия и схемы объяснения — это единственно ценное, временно избегающее течения времени. Когда-нибудь не только события, но и тенденции регулярности социальной жизни уйдут в прошлое, но язык науки — ее понятия, схемы и правила значимого объяснения — еще задержится в культуре. Достаточно ли этого, чтобы один член общества мог иронизировать над другими? Строго говоря, если, опять-таки, не считать опросов, это ситуация не только социолога, но вообще любого, кто репрезентирует в обществе инстанцию знания о самом обществе. Именно поэтому взращенная социальными науками гуманитарная публицистика так любит именовать гражданина «обывателем». Но такой ироничный взгляд на сограждан должен быть оправдан чем-то иным и большим, нежели так или иначе полученная и накопленная информация. Чем же именно? Разумеется, как мы уже сказали, некоторым особым знанием, которого нет у обывателя. Однако, насколько основное содержание своего знания социолог черпает у обывателя, настолько его превосходство, собственно, состоит не в содержании, но в способе получения и в способе обработки и интерпретации этого содержания.[12] Два момента представляют здесь особый интерес. Во-первых, любопытно, что социолог находит у обывателя в некотором роде именно то, что ожидает найти: мотивы, ценности, мировоззрение и прочие смысловые комплексы. Социолог спрашивает, и ему отвечают — иногда с охотой, иногда с раздражением, но чаще всего (или, точнее, все чаще и чаще) без недоумения (случаи так называемого «включенного наблюдения», когда социолог «притворяется своим», а равным образом и случаи отказа от участия в опросах мы можем здесь опустить). И во-вторых, все то, во что он претворяет результаты своей деятельности, тоже не вызывает недоумения, становится товаром, которым можно торговать. Отчет социолога — это то, что имеет в обществе ценность, а вопрос социолога — это то, что с большим или меньшим усилием может быть понято и что, будучи проинтерпретировано с применением вышеназванных категорий, с готовностью приобретается как товар, произведенный научным предприятием. А это уже отнюдь не характеристика дисциплины. Это характеристика общества.
Может быть, и здесь не повредят две маленькие истории, иллюстрирующие нашу точку зрения. Первая из них сначала не про нас, а про Германию. В последней трети XIX века, вскоре после воссоздания Германской империи, социология не была особенно в чести ни у бюрократов, ни у профессоров гуманитарных дисциплин. Само слово казалось диким, что же касается замысла новой тогда науки, то видный историк и публицист Генрих фон Трейчке высказался как-то в том смысле, что хорошо устроенному и управляемому государству не нужна никакая социология. И действительно, в течение еще лет пятидесяти, до середины 1920-х годов, в Германии не было такой официально признанной специальности.[13] Стать профессором социологии было невозможно, хотя наука все равно, конечно, развивалась. То же самое (с известными модификациями) и у нас: никакой социологии в государственной номенклатуре специальностей не было вплоть до перестроечных времен, хотя научные институты, журналы и даже кафедры имелись. Вторая история, на первый взгляд, совсем о другом. Недавно один мой коллега с печалью рассказывал мне о результатах своего исследования. Неиссякаемая вера интеллигента в изначальный народный опыт побудила его к весьма интересным поискам. Он попытался найти во мнениях и оценках людей нечто такое, что производилось бы, так сказать, само собой и не было отражением тем, оценок и терминов, которые встречаются в средствах массовой коммуникации. Разочарование было велико. Ничего такого он не нашел. То есть в смысле конкретной социальной информации, которую требовалось получить, его исследование, конечно, удалось. Все, что требовалось узнать — путем опроса! — про определенные обстоятельства социальной жизни, он узнал. Но вот уровень осмысления этих обстоятельств среди опрошенных был не то чтобы низок… Нет, он не был низок, просто это вообще не было в точном значении осмысление. Все мнения и оценки укладывались в некоторую общую систему координат, заданных извне той безличной средой нашего обитания, в которой информация и реклама сливаются до неразличимости.[14] Эти два примера — не о разном. Они об одном и том же. В обществе надежных регуляций действительно нет нужды в социологии. Неприятие социологии в обществе, активное сопротивление ей (с участием всех заинтересованных сторон: философов, литераторов и, конечно, чиновников) — это важный симптом того, что произошли важные изменения. Любая идеологическая конструкция, какой бы приятной она ни была, какой бы энергетикой ни обладала для ученой публики, сколько бы ни стояло за ней сил репрессивного аппарата, может быть в любой момент опрокинута простым вопросом: а не хотите ли посмотреть, что это собой представляет в действительности? Социология с гордостью объявляет себя наукой о действительности[15] — в отличие от любой герменевтики смыслов, дедуктивных построений и тем более поэтических фантазий. Но по мере того как социологическое познание действительности набирает силу, выясняется, что оно невозможно вне и помимо тех самых идеологических конструкций, к которым социология относится с таким подозрением. Неважно, откуда заимствует их социолог — из социальной философии, психологии, теоретической биологии или же вынужден дорабатывать что-то сам. Абстрактные понятия, идеологические конструкции, смысловые комплексы — все это неизбежная составляющая его деятельности, без которой нет полноценных постановок исследовательских задач, описаний и объяснений. Это значит, что «царство идей» населено также и порождениями «духа социологии» и часто уже невозможно бывает разобрать, с чем это мы имеем дело — философской спекуляцией, художественным вымыслом или социологической конструкцией.[16] И это еще не все. Добро бы царство идей было как-то отделено от спонтанной самодеятельной жизни профанов. Но нет! В отличие от многих других областей специального знания, социология (хотя и не она одна) не образует замкнутого мира, сведения из которого, так сказать, только «просачиваются» в повседневность и публичность. Ведь когда социолог отправляется, как принято говорить, «в поле», он рискует набрести там на свои же собственные — или чужие, но такие знакомые, пусть искаженные почти до неузнаваемости, но все-таки опознаваемые — теории, конструкции и прочее из того же ряда. В обществе, которое только перестает быть предсказуемым, очевидным для себя самого и надежно управляемым, опросы, между прочим, позволяют социологу свидетельствовать от имени тех, кто не имеет иной возможности высказаться. В обществе, где его профессия стала рутинной и популярной, он получает шанс — посмотреть на отражение своего «социального Я» в «обобщенном другом» спонтанно просвещаемой публики. Общество как бы насыщается социологией, ее понятия и информация о результатах конкретных исследований образует часть совокупного информационного фона. IV У знаменитого американского социолога Дж. С. Коулмена есть такой пример. Цивилизация инков в результате европейских завоеваний погибла, говорит он, что называется, в одночасье, «коллапсировала». Что же произошло? Люди остались те же, но исчезла тонкая социальная структура как основа сложной социальной системы. «Изменились не люди, а социальная структура, в которой они обитали. Но результатом изменения был совершенно другой образ жизни, другие ресурсы и возможности, которыми они располагали».[17] Тогда, наверное, мы вправе спросить: что значит «изменились не люди»? Если «те же самые» люди не образуют старой системы, то, может быть, это уже не те же самые люди? Распознают ли они друг друга как «тех же самых»? Если речь идет о кровных родственниках и близких знакомых, то, конечно, распознают. А распознают ли они общество как свое, все то же самое общество? Исчезновение «тонких структур» потому и неприятно, что для непосредственного созерцания словно бы ничего не меняется. Например, человек говорит: «Ну, что еще у меня осталось? Семья, немногие близкие друзья — вот и все. А все, что сверх того, для меня не существует». Может быть, оно и неплохо. Только это уже совсем другие структуры, другие смыслы, другое поведение — даже если на вид оно такое же или почти такое же, каким было год, два или десять лет назад.
При чем же тут социология? При том, что она, как мы видели, востребована. В нашем обществе опросная социология — нормальная составляющая повседневной жизни. Но у такого общества, заметим, совершенно иные «тонкие структуры», чем у того, в котором принято представление, что в социологии и ее эмпирическом пафосе нужды нет[18]. Раздражаясь, негодуя, скучая, пропуская, что называется, мимо уха, соотечественники и соотечественницы привыкают — уже привыкли — к чудовищной формуле «результаты опросов показали, что…». Не имея возможности, желания, потребности смотреться в зеркало «каждого другого», они смотрятся в зеркало «обобщенного другого», каким показывает его также и социология. Но что же можно в нем увидеть? Вроде бы не так мало. И даже, как мы уже сказали, избыточно много. А с другой стороны, что-то, кажется, ускользает. Именно постольку ускользает, поскольку также и социология, насыщающая своими концептуализациями жизненный мир «простого человека», социология, самим своим существованием предполагающая удвоение общества в себе самом, возможность дистанцироваться от себя, взглянуть со стороны и увидеть как единство, она (также и она!) возможность эту не реализует. Что с того, если мы узнаем о каких-то общих чертах некоторой группы людей — большой или не очень большой. Ну вот, выделили мы эти черты, потом оказалось, что они характерны, скажем, для тысячи человек или даже для десятка миллионов. Ну и что? Получим «класс на бумаге», как говорил недавно скончавшийся французский социолог Пьер Бурдье.[19] А если мы пойдем дальше и скажем, например, что у этих людей не только сходные уровень жизни и источники доходов, но и художественные вкусы, это нам поможет? Едва ли! Просто классификации обогатятся. А если, наконец, мы произнесем заветное слово «ценность», т. е. скажем, что ценности у них общие? Как ни странно, но и этого может оказаться совсем недостаточно. Кант в одном из моральных трактатов писал, что, если супруги желают одного и того же, это не значит, что они живут в мире и согласии. Они, может быть, хотят смерти друг друга. Так и здесь: пусть будут ценности семейного благополучия, здоровья, мира и прочее в том же роде общими для большой группы людей. Но разве из этого следует, что они не захотят перегрызть друг другу глотки в погоне за упомянутыми благами? Если мы предположили, что у людей действительно есть мотивы — а это, в общем, совсем не очевидно и куда больше является конструкцией социальных наук, чем отражением положения дел, — то наши исследования будут подтверждать наличие тех или иных мотивов. Если мы предположили, что наличие мотивов связано с ценностями или мировоззрением, значит, мы откопаем эти ценности и мировоззрение всеми доступными науке способами. И откопаем, и предъявим потрясенной общественности, и будем говорить, что так устроен наш социальный мир. Но если мы не сконцентрируем свое внимание на том, что искать надо нечто иное, тонкое, порой не выразимое в формулах и уж тем более в ответах на вопросы, то мы никогда и не найдем это загадочное «нечто». Есть ли оно вообще и о чем здесь может идти речь? Пожалуй, это отдельная тема, заслуживающая более подробного обсуждения. Сейчас речь о другом. У немцев есть хорошее слово «Zusammengeh4ц1rigkeit». На русский его можно перевести лишь неловким «взаимопринадлежность». Оно означает некую безусловную сопряженность одного с другим, в том числе — и членов общности или группы. Вот эта «взаимопринадлежность», если она есть, не сводится ни к ценностям, ни к мотивам, ни к интересам, ни ко вкусам и предпочтениям. Она есть некая несознаваемая безусловность, находящая свое выражение в не рассуждающей привязанности, в неожиданном аффекте, в пренебрежении очевидными выгодами и логическими резонами. Она просто есть. И ее нет — потому что мы находимся в том неприятном состоянии, когда уже не очевидно никакое «мы». Потому что нам требуется зеркало, в котором единство «мы» не рассыпалось бы на мозаику плохо прилаженных друг к другу фрагментов. Это встречное движение — социальной мысли и тех, о ком и от имени кого она все еще дерзает говорить. В этом встречном движении может появиться «мы» — до того, как его вызовет к жизни очередная война, мор или революция, — «мы» слабое, не артикулированное, но несомненное. Кажется, это понимание социальных наук сейчас не очень распространено. Просвещение и эмансипация, технология и деконструкция, критика и открытие позитивных законов — что только ни объявлялось их основной задачей за последние полтораста лет! Конструктивная, не технологическая роль в воссоздании, точнее говоря, в создании нового, не ведомого прежним эпохам единства могла бы стать еще одной — одной из достойнейших задач социальных наук. [1] Способность привлечь к себе публичное внимание — это также шанс для ученого увеличить свои ресурсы власти и авторитета внутри дисциплины, которая — в его лице — подтверждает свой авторитет и влияние в глазах публики. [2] Ныне здравствующий Ю. Н. Давыдов. Насчет секретного института — это, скорее всего, были домыслы. Был ли там вообще институт, за этим забором? [3] Цитирую по памяти из-за недоступности источника. [4] Значение этого обстоятельства трудно переоценить. Тетя Полли, как мы помним, каждый год принималась лечить Тома Сойера по рецептам популярных медицинских журналов, не замечая, что они полностью опровергают предыдущие. Напротив, героиня Жванецкого замечает перемену. «Раньше говорила: “Пьем кофе, едим шоколад”. Теперь говорю, что кофе вреден». Но замечает она это лишь потому, что «доснимали через три года» и она может увидеть и услышать себя прежнюю. [5] Владислав Ходасевич. «Перед зеркалом» (1924). [6] Его ввел в начале прошлого века Чарльз Хортон Кули. «Я, смотрящееся в зеркало», — разумеется, перевод неправильный. Но игра слов на английском («looking-glass» — [7] Речь идет о «Всеобщей истории бесчестья», написанной Борхесом совместно с Адольфо Бьой Касаресом. [8] «Thick description» у нас иногда переводят как «насыщенное» или «густое» описание. [9] См.: Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture // Idem. The Interpretation of Cultures. L.: Fontana Press, 1993. P. 20. [10] В том смысле, в каком об этом говорил Мишель де Серто. См.: Certeau M. de. The Practice of Everyday Life. Berkeley: The University of California Press, 1984. P. 115–116. [11] А еще правильнее, но труднее для чтения, было бы писать «дух» «народа» и т. п. [12] Напомним еще раз, что содержание может быть очевидным только в данном контексте и окажется совершенно новым и незнакомым в другом. В этом смысле содержание, полученное в одном месте и перенесенное в другое, тоже отличает социолога от «простого смертного», но только не от этнографа, журналиста, путешественника, не от историка, в конце концов. Конечно, в основу этого рассуждения положена фикция. Опыта наблюдений— того самого содержания, — который бы не зависел от теоретического аппарата, просто не бывает. Бывает другое: одни исследователи чуть ли не принуждают себя к освобождению от теоретического аппарата в наблюдении, чтобы добиться изначальности опыта. Другие (их подавляющее большинство) даже не догадываются, что «первичный» материал наблюдений на самом деле уже предоформлен для них эклектической смесью понятий и схем, которую трудно даже идентифицировать по принадлежности к дисциплине. И только совсем немногим удается разобраться в существе дела: «независимое содержание» — это фикция с некоторой «высшей» точки зрения. Но это реальность с точки зрения теоретической логики, которая требует различать содержание познания и формы его осмысления. Если допустить, что такого содержания безотносительно к формам нет, тогда лишается смысла и теоретическая деятельность, а если она лишается смысла, тогда понятия и схемы объяснения могут быть заимствованы откуда угодно без какого бы то ни было методического контроля, равно как и значимым для науки может считаться любой опыт. Теоретическая культура требует вернуться [13] В США первые кафедры социологии стали появляться в университетах еще в конце XIX века. На рубеже XIX – XX веков во Франции кафедра социологии появилась сначала в Бордо, затем в Сорбонне. Это не значит, что немецкая социология была «хуже». Хуже были обстоятельства институционализации. [14] В последнем номере ОЗ Вадим Руднев пишет: «И вот сидит какая-нибудь бабка в сибирской деревне, смотрит рекламу по НТВ — и верит, что так оно, значится, и есть, раз про то кино крутят. Посидит-посидит наша бабка, а потом пойдет и проголосует. И не за Зюганова, заметьте, а за Ельцина и Путина — за царя-батюшку, который устроил народу такую хорошую жизнь. Вот она, волшебная сила искусства» (Руднев В. В компании с толстяком: реклама и текст // ОЗ. 2002. № 2. С. 214). Здесь все утверждения произвольны: и что бабка в деревне смотрит НТВ, и что говорит она, как стилизованная пейзанка, «значится», и что она вообще голосует, а если голосует, то именно за Ельцина и Путина, наконец, что ее электоральное поведение находится в некоторой эмпирически верифицируемой каузальной зависимости от рекламы, навязавшей ей определенную картину социального мира. Понимание того, что подобные утверждения должны быть проверены эмпирически, в противном же случае годятся лишь на роль остроумной гипотезы, могло бы повысить теоретическую культуру наших дискуссий. Но сама постановка вопроса о рекламе как важнейшей части жизни, одном из краеугольных камней мировосприятия заслуживает одобрения. Потому что даже если упомянутая бабка озверевает от вида чужой благополучной жизни и голосует против Ельцина-Путина, ее зависимость от рекламы не становится меньше. [15] Наследуя тому пониманию истории, которое нашло свое выражение в знаменитой формуле Леопольда фон Ранке: «Wie es in Wirklichkeit gewesen ist» — «Как это было в действительности». [16] Именно поэтому мы взяли выше примеры из литературы. Не имея возможности развивать эту тему, мы только сошлемся в этой связи на книгу немецкого социолога Вольфа Лепениеса «Три культуры. Социология между наукой и литературой». См.: Lepenies W. Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988. [17] Coleman J. S. The asymmetric society. Syracuse: Syracuse University Press, 1982. P. 1. [18] На всякий случай заметим, что и в Германии, и в Советском Союзе в худшие годы некие опросы (чаще всего засекреченные и в методическом отношении неудовлетворительные) все-таки проводились. Социологии не было как самоочевидного для большинства людей социального факта. [19] См. Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 18–20. |