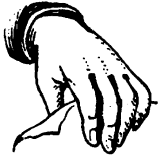КРОМЕ ТОГО:
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2002
Трехтомная «Социология, основанная на этнографии» Летурно — одна из тех книжек, которые вполне мог переводить раскольниковский приятель Разумихин, если б не только шпрехал, но мал-мала знал и французского наречия. В ту пору прекрасную переводилось и издавалось много литературы такого свойства. Прогрессивная общественность наконец-то просекла, что обозначенный Некрасовым выбор между «Белинским и Гоголем» и «милордом глупым» будет неизменно совершаться в пользу «милорда». А потому озаботилась снабжением российской среднеобразованной публики всякими занимательными книжками, которые, счастливо сочетая в себе незатейливость и познавательность, исподволь сеяли разумное, доброе, вечное: развлекая себя чтением баек о чернокожих людоедах, читатель заодно приобщался прогрессивным воззрениям на историю. Эпохой позже «Социология» имела шанс попасть на книжную полку Васисуалия Лоханкина — куда-нибудь между «Мужчиной и Женщиной» и томами «Земли и Людей» Элизе Реклю. Автор разбираемого сочинения довольно примечателен. Господин Шарль Жан Мари Летурно (Letourneau) (1831–1902) — социолог, врач, педагог, профессор антропологической школы в Париже, видный представитель эволюционистского направления социологии — к каковому принадлежали один из отцов-основателей этой науки Герберт Спенсер, солидный Л.Г. Морган, а также лучший друг советского школьника Джеймс Фрэзер, чья «Золотая Ветвь» у нас популярна по сю пору. Более всего прославился профессор сочинениями под характерными названиями «Эволюция собственности», «Эволюция морали», «Эволюция брака и семьи», «Физиология страстей», и т.п. Книжки на эти темы считались пикантными, поскольку там много говорилось об инцесте, промискуитете, коллективном браке и прочих интересных материях. Энгельс в своем «Происхождении семьи, частной собственности и государства» довольно много цитирует Летурно — в том числе в известном пассаже о глисте как образце моногамии. Разумеется, сам Летурно был человеком вполне добропорядочным и интересовался всеми этими скользкими материями исключительно как ученый. Поэтому он изрядно растерялся, когда судьба столкнула-таки его нос к носу с «половым вопросом». В 1874 году респектабельный (и счастливо женатый) профессор, отдыхая во Флоренции, познакомился с нервной шестнадцатилетней русской барышней, смертельно в него влюбившейся. Звали ее Лиза Герцен— впрочем, она довольно долго носила фамилию Огарева, по официальному отцу. Нельзя не отметить в этой связи, что сексуальные и брачные обычаи, принятые в среде российских революционеров, представляли собой немалый этнографический интерес… Love story завершилась трагически — через год Лиза, разлученная с предметом страсти, отравилась хлороформом. Событие наделало шума: на него откликнулся, в частности, Достоевский, в ту пору много размышлявший о самоубийствах среди молодежи. Летурно в России читали много и охотно. Лев Толстой с удовольствием выписывал себе в тетрадочку пацифистские пассажи из сочинений профессора. Один из них (про «дикий инстинкт войны») украшает собой известное сочинение великого писателя земли русской «Закон насилия и закон любви», в каковом он учит, что Евангелие «прямо отрицало и церковь и государство с своими властями», в связи с чем призывает к отказу от военной службы и дезертирству. Впрочем, Толстой отличался умением выводить необходимость ликвидации «стеснительных социальных устроений» даже из Конфуция, так что французский профессор здесь скорее попался под руку, нежели послужил действительной причиной.[1] Почитывал Летурно и другой известный отрицатель «церкви и государства»: в марте 1897 года помощник инспектора Тифлисской православной духовной семинарии отбирает книгу Летурно «Литературное развитие народных рас» у семинариста Иосифа Джугашвили, вместе с заложенным в нее абонементным листком «Дешевой библиотеки». Наверное, зря: отлученный от «Дешевой библиотеки» и подстрекаемый товарищами семинарист начал читать марксистскую литературу… Теперь о самом сочинении. С точки зрения современного читателя, его можно рекомендовать для школьников младших классов: ничего собственно «научно-социологического» в современном смысле этого слова там нет. Автор, впрочем, и не претендует на научность: по его мнению, для одного сбора материала, потребного для истинно научной социологии, потребуются века (т. I, Предисловие, с. V) —а потому «в наше время возможны только социологические очерки».[2] Так оно и есть: книжки состоят из очерков, каждый из которых посвящен одной теме: браку, собственности, морали, etc. В целом сочинение задумано как своего рода этнографический синопсис, и претендует на полноту, пусть даже и урезанную до «обо всем понемногу». Однако «социологией» сочинение Летурно нельзя назвать и по другой причине. Для нас социология — это прежде всего наука о нашем собственном обществе. Однако у Летурно именно оно практически не рассматривается. Интерес, им движущий — этнографический: книжка посвящена обществам, максимально далеким от европейского. То есть — эскимосам, готтентотам, китайцам, только не «таким же французам». Отчасти в этом виноват пресловутый социальный заказ. Конец девятнадцатого века— это период зрелости колониальной системы, когда мир был успешно поделен между европейскими государствами, сферы влияния устоялись, и можно было, наконец, обратить внимание на сами приобретения. Поскольку же земли и их богатства включали в себя еще и людей, перед европейцами впервые встала проблема отношения к неевропейским цивилизациям, культурам и способам мышления. В то время она осознавалась как проблема туземца, а точнее — проблема дикаря. В принципе, европейское сознание уже имело опыт столкновения с «другим». Во-первых, с рождения европейского сознания универсальным образом «другого» было Животное, «бессловесная тварь». Осень Средневековья ознаменовалась «открытием Женщины» — существа одновременно и низшего, и более высокого, нежели человек-мужчина. Новое Время принесло образ Ребенка как существа, принципиально отличного от взрослого.[3] Неудивительно, что Дикаря попытались определить в уже известных координатах, разместив его где-то между животным, женщиной и ребенком. При этом практика шла впереди теории. Когда заказ на осмысление ситуации окончательно созрел, выяснилось, что есть и предмет для раздумий — то есть показавшие себя в деле рецепты обращения с дикарями. Их было три — американский, английский и французский. Американский подход, сводящийся (со всеми оговорками) к известной максиме «хороший индеец — мертвый индеец»,[4] оказался самым успешным в практическом плане, но, по понятным причинам, самым бесплодным в плане интеллектуальном. Интереснее был опыт британцев и французов. Расисты-англичане[5] исходили из той идеи, что дикари есть разновидность животных, а потому пытались применять по отношению к доставшимся им народам методы дрессуры: награда за правильное поведение, наказание за неправильное.[6] В отличие от них, французы, воодушевляемые просветительскими идеями о самозарождении цивилизации из первобытного состояния, воспринимали туземцев скорее в качестве «детей», которым надо помочь вырасти. И с энтузиазмом, достойным лучшего применения, заставляли чернокожих и кареглазых детишек заучивать по французским учебникам пресловутое «у наших предков галлов были голубые глаза и огромные усищи».[7] Интересно, что оба подхода нашли свое выражение в национальной литературе. История французского образа «дикаря» восходит к вольтеровскому «Простодушному», дикарю-ребенку, посрамляющему своими добродетелями лживый и развращенный парижский «свет». Поучительно сравнить с этим киплинговского Маугли. Это ребенок-животное, который, вырастая, в конце концов все же осознает свою биологическую несовместимость с симпатичным, но все же звериным, царством.[8] На пересечении этих двух идей возник дарвинизм: формулы «дикари похожи на животных» и «цивилизованный человек произошел от дикаря» весьма логично совмещаются в сакраментальном «человек произошел от животного».[9] Летурно изящно соединяет оба подхода. Книга начинается с рассуждения о человеческих расах. Для профессора очевидно, что существуют высшие и низшие расы. Более того, он без тени сомнения пишет о том, что «раса, стоящая на низкой ступени анатомической организации, никогда не создавала высокой культуры. Над такой расой тяготеет как бы проклятие природы, избавиться от которого можно лишь путем усилий многих тысячелетий… Словом, по степени совершенства организма, человеческие расы весьма различны: они как бы делятся в этом отношении на избранных и отверженных.» При этом, конечно, никаких научных аргументов в пользу той или иной «анатомической организации» не приводится: непонятно, собственно, почему черная кожа или широкие скулы анатомически менее совершенны, нежели белая кожа и узенькое личико. Упоминается, правда, «строение мозга»— у негров он «менее развит», у монголов «более». Каким образом тогдашние анатомы определяли уровень развития этого органа, догадаться невозможно: о механизмах функционирования нейронной сети они не знали практически ничего. Тут, скорее, вера в то, что все объясняется материальными, то есть вещественными, причинами. Если кто-то не умеет есть вилкой, значит, у него в голове не хватает сколько-то граммов соображательного вещества. Второй, не менее важный, предмет веры — эволюция. Для Летурно очевидно, что современные ему дикари потому такие странные, что они сохранились в состоянии, которое более цивилизованные народы «уже прошли». То, что история бушменов насчитывает никак не меньше столетий, чем история французов, профессору не то что не приходит в голову — он просто не придает значения этому факту. Для него совершенно очевидно, что состояние «грубости» и «звериности», в котором пребывают какие-нибудь «тасманийцы» — это то самое состояние, в котором пребывали некогда все. Тема «звериности» у Летурно вообще очень интересна. С одной стороны, он спокойно отпускает замечания типа: «У обезьян рефлективная деятельность развита чрезмерно. Постоянное возбуждение, постоянное гримасничанье… характеризуют чрезвычайную подвижность их нрава. Аналогичный характер наблюдается у наших детей, у большей части женщин; можно ожидать заранее, что то же самое мы встретим и у низших человеческих рас, которые, по отношению к высшим, являются своего рода детьми.» Это надо понимать буквально: связка «животное — ребенок — женщина — дикарь» воспринимается автором как нечто само собой разумеющееся. С другой стороны, именно приводимые им примеры явно показывают, что первобытный человек отличается от животного больше, чем современный. Так, на с.48 т. I приведено (с подобающим отвращением) описание эскимоса, обжирающегося сырым жиром — да так, что непрожеванные куски торчат у него изо рта. Однако никакой зверь не сможет так набить себе брюхо.[10] Точно так же, никакие «звери» и «бестии» не деформируют себе черепа, не прокалывают губы и ноздри, не раскрашивают и не татуируют тела, не пьют опьяняющих напитков,[11] и так далее. Как ни странно, именно «цивилизация» делает человека «более естественным» — и в чем-то даже более «животным». Куда больше смысла в метафоре «детства»: в конце концов, все эти странности можно объяснить ребячливостью первобытных народов, которые просто «заигрываются», как может заиграться ребенок. Летурно, в общем, это и утверждает: для него выходом из дихотомии «животное/человек» является образ ребенка, главными свойствами которого является безответственность и отсутствие самоконтроля. Эта идея оказывается продуктивной. Например, существование мифологии Летурно объясняет ничем иным, как разнузданностью фантазии (т. II, с. 167–169). Первобытные народы не контролируют свое воображение. Мифология, таким образом, есть плод умственной распущенности, «фантазерства», а потому она, в общем-то, постыдна и неприлична. Разумеется, некоторые ее проявления интересны, и могут быть одобрены — например, греческие мифы. Но вообще-то цивилизованный человек не должен заниматься такими глупостями: он на то и цивилизованный, что держит свою фантазию в узде — как, впрочем, и прочие «страсти». Интересно, что главной (и самой вредной) мифологической фантазией Летурно считает анимизм, то есть веру во всеобщую одушевленность вещей. Собственно, «умственный прогресс» есть процесс преодоления анимизма: «в его [дикаря] глазах в природе все одушевлено; затем область воображаемой жизни, сначала бесконечная, суживается все более и более по мере того, как человек научается лучше наблюдать и правильнее мыслить.» Тенденция очевидная— судя по всему, истинно цивилизованный человек вообще ничего и никого не считает живым, даже самого себя. Что и верно: суть «научного мировоззрения» того времени сводилась к тому, что ничего «живого» (принципиально отличающегося от «мертвого») вообще не существует: все это лишь «химические соединения».[12] При этом истинно цивилизованный человек не может даже и вообразить себе иную картину мира — так как отличается полным отсутствием воображения. Именно этим последним обстоятельством, пожалуй, можно объяснить проповеданную Летурно «теорию нравственности». Более подробно этот предмет трактуется в его сочинении по эволюции морали, но сказанного здесь тоже достаточно. В общем, профессор верит в наследуемые условные рефлексы: нравственность — это интериоризированные приказы, отдаваемые и выполняемые в течение многих поколений, и от этого усваивающиеся на бессознательном уровне.[13] Для иллюстрации своего тезиса он приводит рассказ об охотничьих собаках, которые сами приносят дичь своему хозяину, хотя их этому не учат. То же самое происходит и с людьми. Эта теория имеет любопытное следствие: люди, в течение столетий подчинявшиеся плохим приказам, неизбежно портятся. Здесь возникает тема «тиранических стран»: «если такой режим существовал в течение нескольких веков, то нравственностью порабощенного народа является самое гнусное раболепство. В Бирме и в Сиаме подчинение человека-животного безгранично. Каждый сиамец… величает себя почтительно «животным короля». Столь же очевиден для профессора и тот факт, что высокая нравственность есть прямое следствие хорошего правления, а не наоборот. То есть не «каждый народ достоин своего правительства», а «каков поп, таков и приход». Это до сих пор актуально, так как рассуждения в духе Летурно о «русских генах», в которые-де «вбито рабство и тоталитаризм», довольно популярны. Правда, современная генетика в принципе отрицает тот наивный ламаркизм, из которого бессознательно исходил уважаемый профессор. Но популяризаторов это не смущает… Дальше, дальше, дальше. Небрежно пролистывая разделы о браке и семье (живо напоминающие любимую лоханкинскую книгу), обратимся к разделу о собственности. Вопреки ожиданиям, профессор здесь осторожен и аккуратен. Во-первых, для него очевидно, что формы собственности могут быть различными и — поразительно! — западноевропейская неограниченная частная собственность не может считаться идеалом развития. Так, обнаружив у тасманийских дикарей (по классификации профессора это одна из самых низших человеческих рас) частную собственность на землю, он делает вывод: «частная поземельная собственность никак не может считаться признаком передовой культуры». Перуанский социализм он описывает со сдержанным одобрением. Тут, кстати, появляется — единственный раз во всей книге — русская тема: славянский мир, или община. Впрочем, профессор тут же вспоминает о германской и швейцарской марке. В конце раздела выясняется, что Летурно — мягкий социалист, выступающий за ограничение права наследования, владения землей, и т.п. Очень тонким и правильным является понимание всех этих мер не как революции, а как реакционной меры: «Древняя общинная собственность погибла благодаря своему тираническому характеру, и мировая цивилизация развивалась в прямом отношении со степенью независимости, предоставленной личности; но такая независимость не должна вырождаться в наследственную привилегию. Реакция поэтому весьма вероятна. Эта реакция, относясь с должным уважением к личной собственности, медленно, рядом постепенных мероприятий, преобразует ее в пожизненное пользование… Само собой разумеется, что такая реформа, в силу ее радикального характера, может осуществиться только с крайней осторожностью». В общем, в римской формуле dominium est jus utendi et abutendi re sua (владение есть право пользования и злоупотребления своей вещью) ему решительно не нравится «злоупотребление». Для того чтобы понять подобный настрой, следует держать в уме, что Летурно творил на излете XIX века — пожалуй, самого успешного в истории нашей цивилизации. Пар, электричество, железнодорожное сообщение, осветительный газ, гигиена и санитария и прочие достижения науки обещали человечеству быстрое и прочное благосостояние. Ожидалось прекращение войн — как из-за прогресса гуманизма, так и по причине экономической невыгодности таковых. И, конечно, человечество, не отказываясь от рынка и частной собственности, перейдет к какому-нибудь варианту социального государства. И наступит всеобщее благорастворение воздухов. Как известно, ничего подобного не случилось. Двадцатый век оказался даже не железным, как жаловался поэт, а свинцовым. И одной из причин к тому оказалось одно маленькое допущеньице, очень естественное, но все же неверное. Трещинка прошла через самое основание — и все рухнуло. XIX век замкнул галерею образов «Другого» Дикарем. При этом, что интересно, дикарям инкриминировалось разнообразие: обычаи Меланезии, Бирмы, Индии, Тибета, и так далее, бесконечно варьируются. При этом для парижского профессора очевидно, что именно это разнообразие и является первейшим признаком дикости: обычаи и образ мысли цивилизованных людей одинаковы и в принципе сводимы к обычаям и мыслям людей его круга. Разумеется, между лондонским и парижским профессором есть известная разница: у англичанина есть пара смешных привычек, которые отсутствуют у француза. Но это, в принципе, всего лишь вопрос времени. Низшее разнится, высшее приходит в ту единственно возможную форму — форму научного знания — в которой оно только и может существовать. А научное знание на то и научное знание, что оно едино и неделимо. И, очевидно, это и есть та последняя правда, на которой все и успокоятся. Правда, в предпоследнем предложении своей книги Летурно вспоминает, что «дробление механической работы [то есть разделение труда] является одним из самых вредных условий для общего развития ума, и благодаря ему образовался все более и более разрастающийся класс… париев, у которых вовсе нет времени ни думать, ни учиться». Это, очевидно, намек на пролетариат, от которого, предупрежденные бородатым немецким экономистом, ждали каких-нибудь неприятностей. Но опять же: опасность видели именно в откате в «дикость». Никто и не предполагал, что раскол в среде самих интеллектуалов не уменьшится, а увеличится. И что XX век породит новый образ Другого, а именно титаническую фигуру Инакомыслящего. То есть человека, вполне свободно владеющего «всем багажом человеческого опыта», но использующего его не так, как те, которые ему этот опыт передали. Думал ли почтенный профессор социологии Парижской антропологической школы о том, что некоторые из его усердных читателей отличаются от него самого куда больше, чем иные дикари, о которых он писал с таким увлечением? И что через каких-нибудь полвека наступит эпоха Красной Звезды, а потом эпоха Свастики. А потом алжирские дети, учившие по французским учебникам про голубые глаза их предков галлов, возьмутся за ружья. Занимаясь ительменами и готтентотами, он прошел мимо революционеров. Впрочем, дикари тоже подвели. Из двух очевидных альтернатив — остаться дикарями или стать цивилизованными людьми — они все чаще стали выбирать третье: меняться, но в каком-то непонятном направлении. От негров ожидали, что они останутся неграми, или станут «такими же, как белые». Но никто не ожидал, что они массово подадутся в мусульмане.
[1] Однако ж российские кадеты, тоже духовно возросшие на французских книжках, отнеслись к программе Льва Николаевича сугубо практически, переписав ее в известном «Выборгском манифесте»: налоги не платить, рекрутов не давать. [2] Насчет «веков» он, конечно, сильно ошибся: не прошло и ста лет, как социология обзавелась всеми признаками настоящего, серьезного знания — прежде всего, зубодробительным жаргоном. Вряд ли наш бедный профессор понял бы фразу «коммуникативные средства в целях общей ориентации развивают символически генерализированные коды» (как изящно выразился Никлас Луман). [3] В Средние века детей не считали чем-то принципиально отличным от взрослых — лишь делая скидку на их слабость и неопытность. В частности, детей одевали в платье, отличавшееся от взрослого только размерами, свободно использовали как рабочую силу, и т. п. Ребенок как «особое существо» был «открыт» новой научной педагогикой — и утвержден в массовом сознании в этом новом качестве весьма поздно. [4] Разумеется, сюда же относится австралийский (тасманийский, новозеландский) опыт. [5] Вопреки нынешним представлениям об этом предмете, расизм — не немецкое, а английское изобретение, попавшее в Германию в качестве «культурного импорта из более развитой страны» примерно так же, как марксизм и либерализм в Россию. При этом, разумеется, трансляция была неполной, точнее неполноценной: заимствовалось только «положительное содержание», без той системы ограничений и умолчаний, которые и делали соответствующие теории интересными и продуктивными. [6] В этом отношении нацисты оказались ближе скорее к «американскому стилю». Их действия времен второй мировой войны можно рассматривать как перенос в Европу методов и практик, некогда отработанных на дикарях — что, собственно, и произвело такое травмирующее впечатление на европейское сознание. [7] Все это не имеет никакого отношения к проблемам «гуманности». Французские «дети» подвергались не менее, а то и более жестокому обращению, нежели английские «туземные зверьки». Речь идет именно о моделях отношений. [8] Достаточно очевидно, что киплинговские «джунгли» — это, собственно, «туземный мир», точнее — индийский. Медведь Балу, например, типичный «брамин», учащий «Закону». Интересно, что в этом мире присутствует даже такой персонаж, как выучившийся европейским наукам туземный интеллигент: это Багира, набравшаяся своей мудрости в зверинце королевского дворца в Удайпуре. Киплинг не подозревал, что через исторически непродолжительное время Багира по фамилии Ганди, внимательно изучив знания и повадки белых людей в Оксфордском университете, станет премьер-министром независимой Индии. [9] Разумеется, «дарвиновский человек» тоже нашел свое литературное воплощение. Им стал Тарзан — герой знаменитого сериала Эдгара Райса Берроуза, фанатичного дарвиниста («Происхождения видов» было его настольной книгой). Забавно отметить, что берроузовский Тарзан, учась человеческой речи, в силу ряда случайностей научается читать английский текст по-французски. Собственно, «английским текстом, прочитанным по-французски» можно считать и самый дарвинизм. [10] Есть известный анекдот про «нового русского», попавшего на фуршет и обжирающегося на халяву. Рядом стоит англичанин и жует оливку. На вопрос «нового русского» о том, почему он не ест — ведь все бесплатно! — англичанин отвечает: «Я ем только тогда, когда голоден». «Новый русский» реагирует — «Ну ты прям как животное!» С точки зрения сравнительной антропологии это удивительно точное замечание. [11] Впрочем, Летурно признает, что «в чисто животной жизни низших рас потребность в опьянении является признаком известного прогресса». [12] В России это учение опять же восприняли, что называется, в лоб. А. К. Толстой язвил по этому поводу: «…несть духа, а есть только плоть, [13]Разумеется, это тоже объясняется «биологически»: «…нервные клеточки, функционирующие в качестве воспринимающих аппаратов, сохраняют следы воспринятых молекулярных колебаний… отпечатки, начертавшиеся с незапамятных времен в нервных клеточках, возбуждают нравственные страдания и упреки совести». |