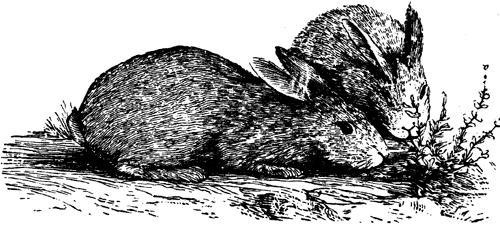Заметки о письменности и правописании
КРОМЕ ТОГО:
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2002
| К сожалению, дискуссии по поводу возможных изменений русской орфографии чаще всего тут же скатываются на уровень рассуждений о том, через какую букву писать слово, начинающееся на «ж», после чего продуктивность дебатов стремительно приближается к нулю. Публика уверяется в том, что все это мелочи и нечего на них время тратить. Это, разумеется, не так, потому что речь идет о существенных составляющих нашей культуры. Мотивы Всякое вмешательство в орфографию затрагивает всех говорящих на том или ином языке — следовательно, представляет собой общенациональное предприятие, для начала которого желательны достаточно серьезные мотивы и осознание того, что же в результате вмешательства произойдет. Именно этого в выступлениях сторонников изменений (в последнее время старательно открещивающихся от слова «реформа») и нет. Предполагается, что существующая в данный момент орфография сложна и трудна. Значит, ее надо упростить и облегчить. К чему должно привести это упрощение? Письменность на Земле существует не менее пяти тысяч лет (а если прибавить к этому и период так называемой протописьменности, то получится гораздо больше), и за это время было выработано, опробовано, отброшено, преобразовано, сохранено множество разновидностей письма. Что мы будем брать за образец (или единицу) сложности письма? Аккадскую клинопись? Иероглифы майя? Пунический курсив? Старокорейскую письменность? Современную французскую орфографию? Забытые письмена острова Пасхи? Ответа на этот вопрос нет. Конечно, есть некоторые ориентиры, позволяющие довольно грубо делить системы письма на «простые» и «сложные»; в основном это — число основных элементов. Однако и здесь существует множество ситуаций, когда определение меры сложности сталкивается с большими проблемами. Например, китайская письменность традиционно считается сложной. Но, во-первых, она «сложна» для чужих — тех, кто привык пользоваться другими системами письма, и, во-вторых, все китайские иероглифы составлены всего-то из десяти основных элементов, так что при желании можно даже утверждать, что китайская письменность гораздо проще русской. Есть и другой подход: дело не в структуре письма, а в том, что с ней не справляются те, для кого она предназначена. Это уже ближе к реальным мотивам возможной работы с орфографией. Но и здесь требуется разобраться, кто с чем и почему не справляется. Правописание (как и владение письменной речью вообще) относится к числу практических навыков. Все ли в равной степени овладевают тем или иным практическим навыком? Разумеется, степень совершенства у разных людей всегда будет разной. То же относится и к орфографии. «Виновата» не орфография сама по себе, «виноват», как и в других аналогичных случаях, тот самый человеческий фактор. Вообще привычка переносить ответственность с себя на предмет, с которым не справляешься, свойственна человеку, и языковая сфера здесь не исключение. Уже не первое столетие мыслители жалуются на несовершенство языка и пытаются сконструировать свой, разумеется более совершенный, тогда как проблема не в языке, а в умении им воспользоваться: плохих языков в принципе не бывает. И орфографии в принципе плохой не бывает, бывают лишь плохие ученики. Значит, и проблемы с орфографией будут всегда. Ведь мы уже существенно упрощали орфографию русского языка около ста лет назад, и именно потому, что ее посчитали излишне «сложной». И вот оказывается, что с уже не такой сложной орфографией по-прежнему не справляются. Так, может, надо подумать о том, чтобы изменить методику преподавания? А также о том, как поднять престиж речевой культуры? Ведь успешно овладевать можно и такой письменностью, которая считается куда как более трудной, чем русская. Например, Япония — страна высокой грамотности при сложной системе письма. Развитие Китая в ХХ веке также доказывает, что овладение системой письма определяется не свойственностями письменности как таковой (хотя и она подверглась в Китае ряду упрощений в связи с переходом к массовой грамотности), а установкой на работу и соответствующей методикой. Вопрос ставится и совсем уже конкретно: школьникам трудно. Но и в этом случае проблема заключается не столько в орфографии, сколько в состоянии школьного образования. В самом деле, почему, собственно, школа должна ориентироваться на того, кому трудно? Голубая мечта троечника — чтобы «никакой орфографии не было вовсе» – утопия, и ориентироваться на нее не стоит. Зато безусловно необходимо серьезно совершенствовать методику преподавания не только орфографии, но и всего комплекса словесных дисциплин. И здесь огромное поле работы для всех, кто имеет к этому отношение. Владение языком (а именно так надо ставить вопрос, ведь дело не в одной только орфографии) — один из основных навыков достойного гражданина современного общества. Поэтому если мы можем спокойно относиться к тому, что, скажем, игрой на гитаре у нас далеко не все владеют в совершенстве, то к состоянию владения языком с таким же хладнокровием относиться, разумеется, никак нельзя. Когда говорят, что школьникам трудно, то за этим стоит молчаливая предпосылка, будто им должно быть легко. А вот это далеко не бесспорно. Дело совсем не в том, чтобы школьнику было легко в школе — дело в том, чтобы ему по возможности было легко после школы, когда он закончит ее, а это далеко не одно и то же. При этом не должно получаться и так, будто правописание вообще существует только для того, чтобы его изучали в школе или сдавали на экзаменах. Попытка сведения проблем орфографии к проблемам оценок, экзаменов и прочего (а потом, после сдачи экзаменов, она будет, мол, уже не нужна) совсем уж анекдотична. Одно из проявлений глубокого кризиса нашей культуры и нашего самосознания в том и заключается, что во многих случаях наши соотечественники не могут вразумительно объяснить, что и для чего преподается, чему и для чего учатся ученики и студенты. Это серьезная проблема, и сумятица вокруг орфографии — лишь ее небольшой фрагмент. Оставим в стороне неспособных учеников и непосильность орфографического бремени. Есть вроде бы и другой мотив изменений орфографии: язык-то меняется! С этим вряд ли кто станет спорить. Действительно, если язык живет, он не может не изменяться. Однако изменчивость языка — материя чрезвычайно сложная. В различные периоды своей истории язык меняется по-разному, это с одной стороны. С другой — различные элементы языка и различные его уровни меняются с разной скоростью. Так называемый основной словарный фонд языка и базовые элементы грамматики отличаются большой устойчивостью и порой проявляют чудеса стабильности. Скажем, если мы проследим историю русского слова три, то обнаружим, что оно за последние три тысячи лет не испытало серьезных изменений; за это же время многие слова преобразились до неузнаваемости, многие навсегда исчезли из употребления, многие возникли из разных источников. Написание при этом редко когда оказывается впереди изменений — скорее, как показыает история языков, оно отстает от более подвижных частей языка. И в этом есть своя логика, поскольку написание по своей природе консервативно: одной из основных функций письменности является хранение информации, а поэтому она скорее инертна, чем инновативна. Нас пытаются убедить, что некоторое количество новых слов (из которых к тому же значительная часть имеет относительно ограниченную сферу употребления, а какая-то часть наверняка со временем выйдет из обращения) — достаточное основание для изменений в орфографии. А вот англичане не меняют свою орфографию уже несколько веков, хотя на недостаток новой лексики за это время пожаловаться они вряд ли могут. Что уж тогда говорить об израильтянах, пользующихся языком, письменная система которого не менялась более двух тысяч лет, и вовсе не считающих все происшедшие за это время изменения — в том числе и в самом языке — достаточным основанием для того, чтобы что-нибудь всерьез в своей письменности менять. Есть и еще один вопрос: когда, в какой момент реагировать на изменения? Если язык находится в текучем состоянии, то попытка отразить на письме его текучесть будет приводить к тому, что и сама письменность придет в неустойчивое состояние «ползучей реформы». Именно так обстояло дело с русским языком и русской орфографией в XVIII веке. Язык постоянно менялся, а попытки отразить на письме колебания и сдвиги языковой системы приводили к неустойчивости, постоянным колебаниям орфографии. Достаточно взять в руки несколько изданий того времени, чтобы убедиться, каким значительным был орфографический разнобой. Даже у одного и того же автора книги печатались в разной орфографии. Своеобразным чемпионом в этом был В. К. Тредиаковский, у которого в течение длительного времени так и было: что ни книга, то другое правописание. Устоялась орфография только тогда, когда устоялся и сам язык, сама письменная культура, в начале XIX века. Эта история для нас чрезвычайно поучительна, поскольку состояние, которое переживают в настоящее время и российское общество, и российский язык, во многом напоминает ситуацию XVIII века: та же по сути вынужденная модернизация, открытие общества внешним влияниям после периода длительной изоляции, как следствие — утрата нормативных ориентиров в языке, множество иностраных заимствований, усиление роли жаргонов и т. п. Поскольку мы сейчас явно еще далеки от завершения такого переходного периода, в том числе и в языке, попытки фиксации языковой нормы, включая правописание, представляются достаточно поспешными. Кто знает, какие из множества новых слов, наводнивших русский язык за последние полтора десятилетия, действительно закрепятся в нем, а не окажутся эфемерными образованиями, которые завтра исчезнут из обихода? Ведь уже многие словесные изыски периода перестройки стали достоянием истории. Кто из молодых людей сможет внятно объяснить, что понималось тогда под ускорением, что представлял собой коммерческий магазин (замечательное по абсурдности словосочетание), карточка москвича или кооперативное кафе? Нет никаких гарантий, что через десять-двадцать лет многие из постоянно повторяемых в наше время слов также не превратятся в подобный словесный хлам. Аналогично проходило развитие и в XVIII веке, когда волны заимствованной лексики и новообразований накатывались на язык одна за другой, нередко оставляя после себя довольно скромные следы. К началу XIX века многие из них исчезли из обращения. Из всего этого следует достаточно логичный вывод: если и менять какие-либо элементы языковой нормы, то для этого естественно было бы дождаться завершения активной фазы изменений языка. В русском языке этого еще явно не произошло. К этому следовало бы добавить и некоторые общие факторы культурного и языкового развития, касающиеся не только нашего языка и нашей страны. Объявленная компьютерная революция, похоже, пока по-настоящему не состоялась, однако компьютеризация развивается стремительными темпами, и в настоящий момент даже трудно с уверенностью предсказать, как будет выглядеть сам процесс письма лет через двадцать. Возможно, что уже в ближайшее время начнется массовое производство компьютеров, пишущих под диктовку, «со слуха». В компьютерах уже есть программа проверки орфографии (конечно же, далекая от совершенства, но и здесь развитие идет чрезвычайно быстро). Сам процесс публикации текста уже изменился благодаря компьютеру достаточно сильно, а дальнейшее развитие электроники, программного обеспечения и Интернета может еще более радикальным образом преобразить наши отношения с письменной речью. Например, уже сейчас университетские преподаватели в разных странах вооружаются программами, позволяющими отличать реферат, действительно написанный студентом, от реферата, целиком скопированного из сети или представляющего собой нехитрую компиляцию из нескольких электронных источников. И это только начало. Так что и здесь рано выставлять какие-либо долговременные ориентиры.[1] Теория Похоже, что ясных и убедительных мотивов активного вмешательства в русское правописание в настоящее время не видно. Стоит тогда посмотреть на возможные теоретические основы подобного вмешательства, тем более что теоретические вопросы уже приходилось затрагивать. Вообще говоря, письменность по своим основам не обязана быть научной — она должна быть уместной. Замечательно, если теория удачно применяется при решении задач совершенствования письма, однако в прошлом обходились и без особых теоретических изысков, просто потому, что никаких теорий на этот счет еще не было. Но если они уже существуют, то не плохо было бы с ними разобраться. «Курс общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра — книга, оказавшая немалое влияние на развитие языкознания в XX веке. Хотя в ней и есть глава, посвященная письму, однако отношение автора к этому явлению достаточно ясно отражено уже в ее названии: «Изображение языка посредством письма». В самом тексте решительно заявлено: «Язык и письмо суть две различные системы знаков; единственный смысл второй из них — служить для изображения первой; предметом лингвистики является не слово звучащее и слово графическое в их совокупности, а исключительно звучащее слово». То есть язык — это только то, что говорится, а все прочее — не язык, а «всего лишь», постольку поскольку, некий курьез: «графическое слово столь тесно переплетается со словом звучащим… что оно в конце концов присваивает себе главенствующую роль; в результате изображению звучащего знака приписывается столько же или даже больше значения, нежели самому этому знаку. Это все равно, как если бы утверждали, будто для ознакомления с человеком полезнее увидеть его фотографию, нежели его лицо».[2] В «Курсе общей лингвистики» масса сравнений, и многие из них, если посмотреть внимательно, вовсе не подкрепляют авторские заявления, а скорее опровергают их, или по крайней мере показывают относительность сравнения. Вот и в этом случае: сравнение с фотографией говорит скорее совсем не о том, что пытается утверждать Соссюр. Конечно, фотография не заменит ни непосредственного общения с человеком (об этом, правда, Соссюр и не говорит — у него только «увидеть»), ни впечатления от взгляда на лицо, при том, однако, что и в этом случае впечатление складывается не просто из зрительного образа лица, но и из образа лица плюс характерная для него мимика, плюс речь этого человека, его темперамент и прочее, короче — это впечатление от личности, а не лица. И все же: для чего-то фотографии существуют. Их собирают (в том числе и свои собственные), даже если есть возможность увидеть лицо непосредственно. В чем же дело? А дело в том, что фотография, как особая форма представления действительности, позволяет увидеть то, что «просто так» увидеть нельзя. Самое простое: она позволяет увидеть человека, каким он был пять, десять, двадцать лет назад, увидеть взрослого человека ребенком, увидеть больного человека тогда, когда он был еще здоров. Но это самое простое — и это напоминает роль письменных памятников в изучении истории языка. Однако и без этой временной дистанции фотография может открыть многое из того, что ускользает от нашего восприятия: она позволяет увидеть лицо в необычном ракурсе, непривычном масштабе, разложить мимику на ее составляющие, поймать характерный взгляд, наконец, дает возможность долго изучать какие-то детали лица (в жизни это чаще всего невозможно). Как писал об этом Вальтер Беньямин: «природа, обращенная к камере, — это не та природа, что обращена к глазу; различие прежде всего в том, что место пространства, освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное бессознательным. Например, достаточно привычно, что мы, пусть в самом грубом виде, представляем себе, как ходят люди, однако наверняка ничего не знаем о том, каково их положение в ту долю секунды, когда они начинают шаг. Фотография… открывает ему это положение. Об этом оптически-бессознательном он узнает только с ее помощью, так же как о бессознательном в сфере своих побуждений он узнает с помощью психоанализа».[3] Фотография как раз тем и замечательна, что раскрывает в зрительном материале «физиогномические аспекты», которые без нее будут скорее всего упущены. То есть однажды появившись, фотография не только расширила возможности человеческого видения, но и изменила его: после появления фотографии человек стал смотреть на мир иначе, чем до того. Не стоит бояться, что рассуждения о фотографии увели нас далеко в сторону. На самом деле это не так. Положение о влиянии техники хранения и передачи информации на процесс самой передачи информации универсально (а письменность — вид этой техники). В несколько утрированном и лозунговом виде это сформулировал один из создателей современной теории коммуникации, Маршалл Маклюэн: «Medium is the message», т. е. средство сообщения определяет характер самого сообщения. Появление письменности изменило отношение к языку, так же как появление фотографии (а затем кино, видео и проч.) изменило визуальное восприятие.[4] Язык, обладающий письменностью, — это другой язык по сравнению с языком бесписьменным. Письменный язык вырабатывает свои способы выстраивания сообщения. «Текст» в строгом смысле этого слова появляется только вместе с письменностью, поскольку об устном тексте, за редкими исключениями, можно говорить лишь условно.
Дополнительные трансформации принесло появление книгопечатания. Благодаря ему не только невероятно поднялся уровень языковой стандартизации (ведь появилась возможность производства миллионов экземпляров абсолютно тождественного текста), но и изменилось само зрительное восприятие речи: печатный текст можно «схватывать» мгновенно, и люди научились «пробегать» текст, просматривать его «по диагонали», «пролистывать» книгу — при работе с рукописями это было невозможно.[5] Нельзя не заметить, что письмо то и дело обнаруживает завидную устойчивость и самостоятельность в отношениях со звучащим языком. При этом сами отношения письменного и устного языка могут строиться в достаточной степени по-разному. Китайцы, например, не желают расставаться с иероглифами, хотя уже достаточно давно для их языка разработана алфавитная система письма, вполне четкая и вроде бы удобная. Считается (и не без оснований), что единая иероглификами помогает китайцам, говорящим на очень сильно отличающихся диалектах, общаться между собой.[6] Но сюда же добавляется и мощная культурная и литературная традиция, расставаться с которой китайцы не желают. Не желают расставаться с традицией и японцы, у которых ситуация еще сложнее: они используют и китайские иероглифы (читая их по-японски), и свои слоговые азбуки. Все попытки «упростить» эту громоздкую (и в отличие от китайской ситуации не слишком вроде бы оправданную функционально) систему наталкиваются пока что на упорное сопротивление, потому что для японцев в письменности важно как раз не только «всего лишь» отражение звуковой речи, но и ее графическая сторона. Изгнать иероглифы удалось лишь Ким Ир Сену в Северной Корее, зато в южной половине страны они остались в употреблении наряду с квазиалфавитной письменностью. Происходившая в последние века сильнейшая рационализация европейской письменности лишила западную культуру традиционной каллиграфии, но тяга к изяществу написанного осталась, и сейчас это проявляется в различных компенсаторных формах, в частности в моде на вещи, украшенные китайскими и японскими каллиграфическими знаками (значение которых чаще всего не известно тем, кто этими вещами любуется и пользуется). Спонтанное возрождение каллиграфии происходит в творениях анонимных художников, украшающих стены домов, подземные переходы и вагоны электричек европейских и американских городов своими граффити. Правда, и европейцы отнюдь не утратили чувства ценности написания. Это касается, например, чужих имен и заимствований. В Западной Европе, где вся графика построена на единой латинской основе, принято не менять написание чужих имен. То есть фамилия президента США Bush пишется таким же образом не только в Британии, но и на континенте, во Франции, Германии, Италии и т. д., хотя в каждом из соответствующих языков звучащее подобным образом имя писалось бы несколько иначе. Когда немцы заимствуют какое-либо слово у французов, они обычно стараются сохранить его написание (разве что опускают диакритику), и все вместе дружно заимствуют английскую лексику в ее английской же орфографии, не транскрибируя.[7] Во многих случаях европейцы сохраняют традиционную орфографию старых текстов и авторов, а для академических изданий публикация текстов в оригинальной орфографии — вещь совершенно обычная. Отсюда же и склонность европейцев к факсимильным изданиям. У нас же в советское время укоренилась полнейшая глухота к изначальному написанию текста, и даже древнерусские памятники умудрялись издавать в так называемой «упрощенной» орфографии, совершенно искажающей графический облик произведения.[8] Впрочем, и сама европейская письменность только формально может считаться собственно алфавитной, однородно воспроизводящей звуковую структуру речи поэлементно. На самом деле, как уже достаточно давно отметил Л.В.Щерба[9], наше письмо разнородно по своей структуре. Оно представляет собой сочетание фонетических (чаще на деле — фонологических) и морфологических факторов, с добавлением традиционных составляющих. Оно содержит даже безусловно иероглифические элементы, вроде цифр (1, 2, 3) и разного рода сокращений. Иероглифические знаки такого рода продолжают возникать (в качестве примера можно привести появившиеся в электронной почте «смайлики»:), указывающие на ироничное отношение к написанному). Правда, это уже скорее знак метаязыкового характера, так же как и кавычки, скобки и подобные элементы письма, не имеющие звуковых соответствий. В то же время и со стремлением действовать по принципу «как слышится, так и пишется» дело обстоит не так просто. Только наивный человек может полагать, будто написав палавина вместо половина он все проблемы решил и написал то, что и сказал. Фонетист может нарисовать целую таблицу того, что произносится в двух первых слогах этого слова в разных вариантах произношения, при разном темпе речи, людьми разного возраста и т. п. Человек обычно (если он не прошел специальной подготовки) слышит вовсе не то, что говорит, а то, что полагается слышать носителю данного языка (в несколько утрированной форме можно сказать: что хочет, то и слышит). То есть во фразе Ну и замерз жея «нормальный» русский человек слышит именно замерз, тогда как на самом деле он произносит что-то вроде замержже.[10] Таким образом, написание по принципу «как слышится, так и пишется» — иллюзия, поскольку пишется не совсем то, что произносится на самом деле, а слышится то, что полагается слышать. В любом случае на письме отражается некая звуковая норма, в противном случае язык будет распадаться на множество вариантов, которые ничем не будут связаны и начнут развиваться раздельно. Если люди слышат по-разному, то это уже разные языки. Поэтому письменность «без всякой орфографии» – утопия, даже если брать в расчет то, что может написать совершенно безграмотный человек. Практическое письмо никогда не будет точным отображением звуковой речи потому, что люди, ею пользующиеся, — не фонетисты и не фонологи, а носители языка, и письменность — не транскрипция. У них разные функции. В реальности правописание представляет собой компромисс, в котором сходятся, с одной стороны, разные потребности тех, кто ею пользуется, разные языковые функции, и, с другой — разные структурные особенности языка, а также историческое наследие. По точной характеристике Йозефа Вахека орфография — это своего рода мост, связывающий воедино два способа существования языка — письменный и устный. Чем дольше существует письменность, тем сложнее обычно бывает компромисс, тем виртуозней задача вторжения в правописание с целью его усовершенствования (если в этом ощущается настоятельная потребность). Стремление же «по-быстрому» что-то там подправить в такой ситуации может только навредить. «Упрощение» в одной части системы письменности как правило вызывает усложнение в другой, так что скорее всего получится та самая простота, что хуже воровства. Механизмы Может показаться, что все предшествующие рассуждения направлены вообще против каких-либо изменений правописания (или — шире — письменности вообще). Это совсем не так, тем более что в каких-то небольших фрагментах письменность также постоянно меняется, испытывает колебания (ср. в русском языке написание иноязычных слов и названий, где идут колебания в написании е/э и простых/удвоенных согласных). Вопрос в другом: каковы должны быть механизмы поддержания либо изменения нормы. В России с нормами всегда было непросто: они или слишком жесткие (и потому не всегда реалистичные, отчего и соблюдаются порой «условно»), или их ломают через колено, когда обнаруживается, что они не слишком удачные. В языковой истории России это отразилось вполне, разрыв между «официальным» и «живым» языком был всегда достаточно ощутим, а время от времени наступали авральные ситуации неотложной переделки. Так происходило в уже упоминавшемся XVIII веке, когда застарелую средневековую систему языковой коммуникации стали в срочном порядке менять на систему, которая могла бы соответствовать новоевропейским условиям. Нечто похожее происходит и сейчас. В советское время в течение десятилетий в официальной массовой коммуникации (другой не было) господствовала очень жесткая языковая норма. В качестве компенсаторной реакции возник богатый субкультурный и контркультурный уровень неофициальной коммуникации (разного рода городской фольклор, жаргоны, арго). Затем — вместе со сломом официальной системы коммуникации — в значительной степени оказалась прорвана и языковая норма, а неофициальная речь хлынула во все коммуникативные структуры. В результате у нас политики и общественные деятели в публичных дебатах обсуждают ситуацию в стране на блатной фене, что вряд ли стоило бы считать нормальным положением. У каждой разновидности языка — свое место, и субкультурные слои (при всем их возможном очаровании) все же должны оставаться там, где их место, а обсуждение вопросов общественной жизни должно вестись на языке, который своей структурой, своими возможностями соответствует задачам такого обсуждения. Когда-то в России было две академии: Академия наук и Российская академия. Если первая сохранилась — при всех своих преобразованиях — и до наших дней, то вторая давно ушла из жизни, пав жертвой административного творчества: в 1841 она была преобразована во Второе отделение (русского языка и словесности) Академии наук. Создавали Российскую академию по образцу Французской академии (такого рода учреждения называют еще национальными академиями), цель которой — культивирование родного языка и словесности. Слияние двух академий (а по сути — поглощение Российской академии Академией наук) только по видимости было логичным: ведь и те, и другие занимаются языком. Однако если в Академии наук язык изучают (позиция ученого-лингвиста), то в национальной академии решают практические задачи, стоящие перед носителем языка, причем делают это с учетом позиции самого носителя. Позиция лингвиста и носителя языка — не одно и то же. Позиция лингвиста-теоретика и позиция человека, формирующего и поддерживающего норму — также не одно и то же. Первая позиция — теоретическая, отрешенная (по крайней мере в идеале) от оценок, позиция наблюдателя, вторая — практическая, позиция действующего лица, для которого ценности и оценки играют важнейшую роль. Один и тот же человек может оказываться и в той, и в другой позиции, но действовать он при этом будет далеко не всегда одинаково (так и ученый-экономист, приходя за покупками в магазин, действует с несколько иных позиций, чем при разработке абстрактных моделей экономики). Абсолютно «регулярное» правописание — такая же (только зеркальная) утопия, что и письмо «без всякой орфографии». В правописании всегда будут оставаться своего рода «серые зоны», где достижение полной регулярности на данный момент не представляется возможным.[11] По этой же причине многое в правописании решается интуицией, чувством языка и даже вкусом, а не логическими операциями. Элемент произвольности выбора совсем не чужд правописанию, в чем легко убедиться, сравнивая решение аналогичных задач в разных языках (например, слитное и раздельное написание). Особенно впечатляющий пример произвольности — правила пунктуации. При некоторых общих тенденциях пунктуации в европейских языках даже беглое сравнение одного и того же текста, переведенного на разные языки, со всей очевидностью показывает, что густота знаков препинания в разных языках может расходиться достаточно сильно. Административное творчество редко бывает удачным. Фактическое упразднение Российской академии не принесло особых выгод, что естественно: сочетать нормативную деятельность с деятельностью теоретической не так-то просто. Работа национальной академии обычно предполагает включение не только лингвистов, но и практиков языка — писателей, публицистов (одно «писательское» место в Отделении языка и литературы — след от былой академии, но значение его скорее символическое, чем реальное). Национальная академия обычно действует открыто для общественности, что естественно, ведь ее функции касаются всех, это общественная деятельность, в этом залог ее успеха. В то же время работа лингвиста-теоретика от вмешательства общественности скорее страдает (примеры — в истории советской науки). Вести общественную работу, открытую всем взглядам, всегда непросто. Парламентская практика это доказывает. Но только таким путем возможно продуктивное воздействие на нашу жизнь (маленькой частью которой является и правописание). Различие позиций, так сказать, «лингвиста» и «гражданина» не означает, что им нечего делать вместе. Напротив, данные, полученные исследователем, очень полезны для нормативной работы. Чтобы оценивать тенденции развития языка, их надо прежде всего знать. Но как раз состояние нашего собственного языка мы знаем не лучшим образом. В советское время изучение языковой реальности (как и всякой общественной реальности) не приветствовалось, в последнее время кое-что для понимания реального состояния русского языка было сделано, однако утверждать, будто мы действительно знаем, скажем, разговорную речь во всех ее вариациях, а не в отдельных сегментах, было бы слишком смело. Нет хорошо поставленного наблюдения за речью, звучащей на радио и телевидении, а именно она во многом определяет сейчас языковую ситуацию в нашем обществе. Поэтому и предпринимать изменения в области языковой нормы (включая правописание), не обладая достаточной полнотой информации, было бы ненужной поспешностью. Если лингвист-теоретик, наблюдающий за языковыми процессами, должен хранить нейтральность по отношению к фактам, то носитель языка, осмысляя происходящее в его родном языке, скорее выступает с позиций оценки фактов и тенденций, и это нормально. Своими суждениями и действиями он может вмешиваться — и вмешивается — в ход развития языка. Изменение или неизменность правописания может выступать в качестве фактора, ускоряющего развитие либо замедляющее его. Сложившееся на протяжении почти трех веков русское правописание действительно обладает достаточно сложным характером, но эта сложность отвечает и самой — не менее сложной и также исторически сложившейся — структуре языка, и языковому чутью его наиболее способных носителей (это опять же о способностях и навыках, которые не у всех одинаковы). Морфологизм русского правописания — явление отнюдь не уникальное в истории письма и способствующее развитию сознательного отношения пишущих (а тем самым и говорящих) к своему языку и его возможностям. Как раз в переживаемое нами время поддержка такого отношения к языку крайне важна. Желание же «подравнять» правописание по единой одноуровневой схеме работает на разрушение. В нашей культуре языковые консерваторы и пуристы традиционно выступают скорее как фигуры анекдотические, однако никто не доказал, что любое изменение языка — во благо, что язык пребывает в состоянии бесконечного счастливого прогресса. История русского языка в XX веке говорит скорее об обратном, и болезненные сломы, испытанные нашим языком, ощущаются до сих пор. В то же время история разных языков знает немало примеров успешных консервативных и даже реставративных движений. Не доказано и то, что письменность развивается по одной схеме, и схема эта — движение в сторону большей фонетико-фонологической адаптации письма к звучашей речи (Щерба даже говорил о «прогрессивности» фонетического написания, что во многом противоречит его же собственным наблюдениям; универсальные оценки такого рода были крайне распространены в советской науке, однако реальных оснований для большинства их не наблюдается). Поэтому нет никакого императива, который предписывал бы нам торопиться с изменением русского правописания. Отсутствие национальной академии или аналогичного авторитетного социального института сказывается не только на усилиях по сохранению языка, но — может быть даже в большей мере — в части языковых инноваций. В нашем языке появляется множество обозначений новых реалий, новых терминов и торговых марок (это уже совсем новое явление). Происходит это по большей части стихийно, без какой-либо общей координации или выработки общих и частных рекомендаций. Спрашивается, где та инстанция, которая бы намекнула представителям фармацевтических фирм, что хилакпроходол — не самые лучшие названия для лекарств в России? Вообще практической работы в области, которую раньше было принято называть «культурой речи», более чем достаточно. И если эта культура начнет повышаться, то многие частные вопросы, связанные с правописанием, скорее всего будут решены по ходу дела без громких деклараций. Пока же в отсутствии реально действующих механизмов работы с языком появляются совсем уж фантасмагорические призывы законодательных запретов и учреждения некоей «орфографической полиции». Желание позвать городового происходит, как известно, отнюдь не от уверенности в своих действиях и сознания правоты. Скорее наоборот. Сторонники изменения правописания признают, что они «учли» неудачный опыт предыдущей попытки орфографической реформы: ее слишком рано сделали достоянием общественности. Теперь изменения в правописании готовили чуть ли не в обстановке полной секретности. Нас уверяют, что будет не больно. Но именно поэтому как-то не верится. *** Похоже, что для поспешных изменений русского правописания нет ни достаточно серьезных мотивов, ни солидных теоретических оснований, ни, что может быть важнее всего, надежных социокультурных механизмов. Выводы делайте сами. Кстати, о слове на букву «ж». Это не жюри. Это слово желудь. Его уже писали как жолудь — в XVIII веке. Так же как и щастливый, францусский, бранитца и еще много другого удобного «без всякой орфографии». А потом все же от этого отказались. И сделали это не самые глупые люди России. Может быть, стоит подумать над тем, почему они это сделали? Между прочим, решение «упростить» типографский набор за счет замены ё на е сыграло свою недобрую роль в истории орфографической культуры прошлого века (или вернее, ее падения). А всего-то мелочь — и ведь все же было верно, потому что по известным правилам они вроде бы не пересекаются. Но это у кого как…
[1] Компьютер, разумеется, сам не так уж много определяет. Определяем мы, задавая компьютеру те или иные параметры. Поэтому так важно определить установки в работе с правописанием. Компьютерные базы данных уже сейчас работают с вариантами орфографии, что позволяет использовать мощь компьютера не только для унификации, но и для признания историко-культурного разнообразия письменной речи (в недавно выпущенной на CD-ROM (Шишков, прости!) немецкой базе данных по истории философии, например, все тексты хранятся в оригинальной орфографии, а поиск слов и понятий идет с учетом всех возможных вариантов написания). [2] Цит. по: Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. / Пер. А.М.Сухотина. М., 1977. С. 62–63. [3] Беньямин В. Краткая история фотографии // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М., 1996. С. 71. [4] Между прочим, в нашем пронизанном образами массовой коммуникации мире фотография известной личности (с которой мы никогда не встречались в жизни) вполне может быть для нас более значимой и близкой, чем лицо соседа, с которым мы постоянно сталкиваемся на лестничной площадке. [5] В печатной книге появились и специальные формы подачи информации, рассчитанные на такое быстрое знакомство с текстом: таблицы, графики, наконец, содержание и указатели, позволяющие быстро отыскать нужное место. Рукописный текст, как изделие ремесленное, создается достаточно долго и рассчитано на столь же неспешное потребление. Печатный текст — изделие серийное, промышленное, создается стремительно и во многих случаях предполагает столь же стремительное «проглатывание» или «схватывание на лету». [6] Кстати, и для ряда других языков объединяющая сила написания при разном произношении имеет немаловажное значение, например, это касается английского языка, существующего в различных вариантах, и прежде всего в американском и британском (отчасти различающихся и в написании). Этот фактор следовало бы не забывать и у нас, в стране огромной и населенной множеством народов. Об этом невольно вспоминаешь, когда видишь на овощной палатке, в которой торгуют кавказцы, ценик с надписью «марков». Стремление приблизить написание к произношение в такой ситуации может привести только к увеличению числа «марковэй». [7] Столь же аккуратно европейцы следуют введенной недавно китайцами единой латинской транскрипции китайских имен. Мы же никак не озаботимся этой вполне серьезной практической задачей, в результате российские граждане при пересечении европейских границ невольно меняют написание своих имен, что порой создает немалую путаницу. [8] Что уж говорить о XVIII и XIX веках! Не пораженных этой глухотой филологов (!) крайне мало (сразу приходит на ум Б. А. Успенский, всегда публикующий тексты в оригинальной орфографии). Пренебрежение графикой текста приводит к тому, что западные филологи часто отказываются пользоваться российскими академическими изданиями XX века. [9] Щерба Л.В. Теория русского письма. Л., 1983. [10] Пример заимствован у М. В. Панова: Современный русский язык. Фонетика. М., 1979. С 123. Примеров такого рода — когда человек «не слышит» того, что произносит на самом деле — в русском языке множество; можно было бы продолжить варьировать ту же фразу: Ну и промок же я (произносится: промогже) и т. п. [11] Со стороны и наше правописание может представляться не таким уж ужасающе нелогичным. Когда я стал опрашивать своих немецких коллег, желая знать их мнение о прошедшей в Германии реформе орфографии, одна из них, романист по профессии, но знающая русский язык, воскликнула, узнав о намечающихся у нас преобразованиях: «Зачем что-либо менять в русской орфографии, такой четкой и ясной?!» Вот как. Впрочем, она тут же грустно прибавила: «тем более что реформы обычно ни к чему хорошему не приводят». |