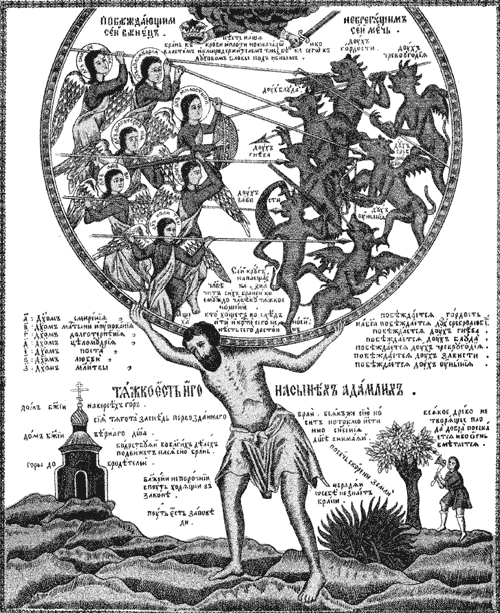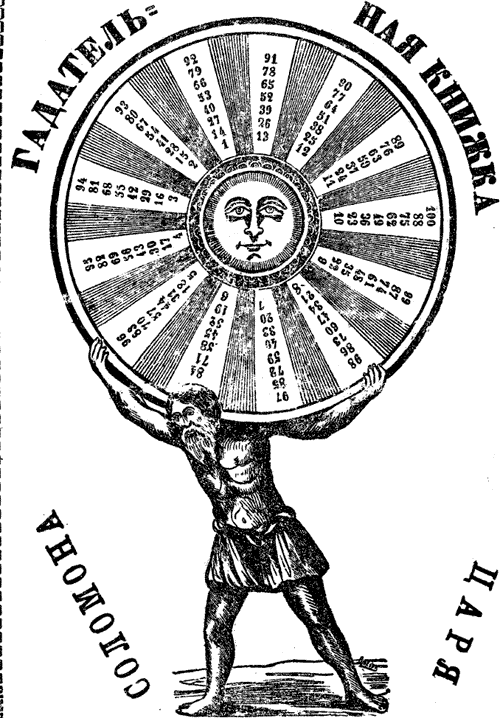ГЛАВНАЯ ТЕМА
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2002
| Модели осмысления русской истории История — дисциплина, отражающая мировоззренческие установки общества. В зависимости от этих установок варьируются не только нюансы оценок или моральные знаки, поставленные перед теми или иными событиями и персонажами, но и методология. Русская история во всех ее версиях также является продуктом мировоззрения. Поскольку Россия всегда выдвигала довольно амбициозные исторические проекты с отчетливо выраженным «универсализмом» и «мессианством», то ее соседи, и тем более соседи с Запада, обладающие своими собственными, весьма отличными от русских, «универсализмом» и «мессианством», выработали довольно критическую «концепцию русской истории». Когда мы имеем дело с описанием и исследованием русской истории, предпринятыми западными авторами, мы должны постоянно иметь в виду, что прямо или косвенно, сознательно или по инерции воспроизводя глубинные культурные клише, они на парадигмальном уровне движимы подспудным стремлением либо «разоблачить» претензию на «универсальность», отличную от их собственной, либо «доказать ее несостоятельность», либо подчеркнуть те издержки, которые она несет в себе, либо высмеять ее. Западный человек, хочет он того или нет, всегда бдительно стоит на страже своего цивилизационного кода, а следовательно, все предлагаемые им версии русской истории скрывают под собой невысказанную, но вполне ощутимую «геополитическую цель». С IX века применительно к православной Византии до XXI века применительно к «демократической» России мы видим со стороны Запада приблизительно одно и то же устойчиво негативное отношение, которое оформляется в зависимости от мировоззренческих клише, свойственных каждой эпохе. Взгляд на национальную историю «извне» не просто активно тиражируется в России, но и некритично усваивается даже вполне авторитетными учеными, а это, в свою очередь, порождает обманчивое впечатление, что в национальном контексте возможен произвольный выбор взгляда на свою собственную национальную историю — можно смотреть на нее «изнутри», а можно «извне». В силу определенных исторических причин взгляд некоторых россиян на Россию и ее историю формировался в контексте своего рода «экстерриториальности». Форма высказывания «эта страна» по отношению к Родине, печальная традиция «русофобии» со стороны самих русских имеет, увы, историю гораздо более длительную, нежели смутное время новейших либеральных реформ. Поэтому сегодня как никогда важно навести в этом вопросе порядок, выяснить основные параметры русской идентичности, развитие формулы Национальной Идеи на разных этапах истории. Среди наиболее внушительных парадигм в русской исторической мысли можно выделить следующие: — национал-консервативная школа (С.С.Уваров, К.П.Победоносцев, Д.И.Иловайский и т.д.); — революционно-демократическая школа, позже развившаяся в марксистско-советскую (от А.И.Герцена, Н.Г.Чернышевского, П.Л.Лаврова, Г.В.Плеханова, М.Н.Покровского и т.д. до советских историков-марксистов); — либерально-этатистская западническая школа (от Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.Ключевского до Б.Н.Чичерина, К.Д.Кавелина, П.Н.Милюкова и П.Б.Струве); — славянофильско-евразийская школа (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, братья А.С. и К.С.Аксаковы, К.Н.Леонтьев, Н.Я.Данилевский, кн.Н.С.Трубецкой, А.В.Флоровский, Г.В.Вернадский, П.Н.Савицкий, Н.В.Устрялов). Эти школы, являвшиеся доминирующими на определенных этапах, описывали и расценивали эволюцию Национальной Идеи совершенно по-разному. По разному определяли они и идентичность России как главного объекта исторического исследования. В одном случае субъектом истории выступало преимущественно Государство (национал-консервативная и либерально-этатистская школа), в другом — народ (революционно-демократическая школа), в третьем — классы (марксистская школа), в четвертом — хозяйство (либеральная и социалистическая школа), в пятом — геополитическая общность, цивилизация (славянофилы, евразийцы). Не случайно в современной России, когда возникла потребность в Национальной Идее, любые попытки ее формулировать давали хаотичные и несостоятельные результаты. Предварительной и кропотливой работой по выяснению сложного переплетения парадигм заниматься никто не захотел. А если добавить к этому окончательно путающий карты остроумный «исторический нигилизм» творцов «новой хронологии» и нарождающуюся диктатуру «либерального западничества» в сфере истории, то даже приближение к выяснению сущности Национальной Идеи становится более чем проблематичным. Но сложность задачи не должна нас останавливать. Не имея здесь возможности должным образом останавливаться на описании основных парадигм, продемонстрируем лишь в самых общих чертах то, как видит Национальную Идею и ее эволюцию парадигма славянофильско-евразийская, наиболее близкая автору этих строк. Вместе с тем, представляется весьма желательным, чтобы историки с иными мировоззренческими наклонностями проделали бы нечто аналогичное в области остальных парадигм. Образ Руси в Киевский период Киевский период русской государственности делится на два логических отрезка— до и после принятия христианства. Зачатки этой государственности задним числом осмыслены в русских летописях, но такая трактовка отмечена интеллектуальными клише более позднего христианского периода. В довладимирской Руси мы видим ряд восточнославянских племен, перемешанных с финно-уграми, организуемых в некоторое подобие государственности княжеской знатью частично норманского (Рюриковичи), частично автохтонно славянского происхождения (к примеру, основатель Гостомысл, Словен, древлянский князь Мал). Этот период русской государственности не имеет какой бы то ни было ясной политической идентификации, а следовательно, говорить об «образе Руси» этого периода мы с определенностью не можем. Осмысление Руси как политического целого следует, безусловно, относить к периоду св. равноапостольного князя Владимира (Красно Солнышко) и к принятию русскими православия. Киевская Русь после крещения представляет собой великое княжество, расположенное на самом севере православной эйкумены. Геополитически Византия придает всем народам, принявшим православие, особое измерение — не только узкоконфессиональное, но и культурно-политическое, цивилизационное. Вхождение в сферу византизма народами и политическими образованиями, принимавшими православие, означало признание конфессионального верховенства Патриарха Константинопольского и принадлежность не только к его канонической территории, но и к политико-социальной модели Восточно-Римской Империи, в основе которой лежало совершенно иное, нежели на Западе, соотношение между императорской властью василевса и духовным владычеством Церкви, с одной стороны, и между императором и князьями зависимых (целиком или частично) от Византии политических образований, с другой; кроме того, византийское право имело общинную ориентацию, искусственно сдерживало развитие феодальных отношений, что также отразилось на социальном и хозяйственном укладе. Став частью православного мира, Древняя Русь получила оттиск своеобразного религиозного, культурного и социально-политического устройства, который — на фоне слабой идентичности предшествующей социально-политической традиции (либо деградировавшей, либо вообще не существовавшей) — лег в основу всего дальнейшего исторического пути. Это является довольно четким идентификационным признаком. Византизм предполагает приоритетную ориентацию на греческие модели, ясное концептуальное осознание православной Русью своего отличия как от западных, католических, так и от восточных, шире — степных— нехристианских соседей. По другим параметрам Киевская Русь остается довольно типичным восточно-европейским государством, имеющим много сходных черт как с православными странами (Болгария, Сербия, Румыния, Грузия и т. д.), так и с неправославными (Польша, Литва, Чехия, Моравия, германские княжества и т. д.). В то же время уже на этом этапе Русь гораздо более, нежели европейские народы, открыта к этнокультурным влияниям Степи, с тюркскими кочевниками (особенно с половцами) существуют очень тесные контакты. Большое значение имеют этнические связи (в основном на северо-востоке) россов с угро-финскими автохтонами, гораздо более многочисленными, чем в остальной Европе. Восток в виде туранского элемента (тюрки, финно-угры) влияет на Русь постоянно и интенсивно на южном, собственно восточном (волжские татары, башкиры, чуваши) и северно-восточном направлениях. Кроме того, финноугорский элемент пропитывает славян северо-восточных и центральных районов изнутри. Суммируя эти моменты, мы можем вскрыть наличие собственно евразийского начала уже в этот период. После крещения Киевская Русь представляет собой геополитически слабо централизованное восточноевропейское государство, с православно-византийской идеологией и сильным евразийским элементом. В этом образовании не было пока еще ничего экстраординарного, предвещающего особую историческую миссию, уникальную геополитическую роль. Единственно, что принципиально отличает Русь от иных политических образований, принадлежащих к периферии Византии, греческой эйкумене, это ее крайне северо-восточное месторасположение. Эти земли в «сакральной географии» греков считались зоной, находящейся за пределом цивилизации, своего рода «анэйкуменой», «необжитыми» территориями. Показательно, что в своих легендарных походах Александр Великий не смог преодолеть символического порога «Каспийских ворот», остановленный ордами «варваров», туранских кочевников (предположительно скифов или сарматов). Позже эти туранские автохтоны, древние евразийцы, были отождествлены с библейскими «ордами гогов и магогов», а их родина «Великая Скифия» с «проклятыми землями Тубалкаина». Эта же страна в библейской географии отождествлялась со страной «Роша, Мешеха и Фувала», местом рождения зловещего «северного царя». Для Средиземноморского цивилизационного самосознания территории Древней Руси находились за пределом сакральной черты, отделяющей «обитаемые» пространства от «необитаемых». Тот факт, что Русь принимает православие и входит в культурно-цивилизационный ареал византизма, означает серьезное изменение сакрально-географических представлений, свойственных средиземноморской эйкумене. Крещение Руси означает прорыв запретной границы, включение в пространство «цивилизации» новых земель. Следует выделить на этом этапе определенное различие между западными полюсами Руси (Волынь, Галиция, собственно Киев) и восточными (Суздаль, Владимир, Чернигов, Рязань). Новгород и Псков представляют собой особый случай. Мы видим, что между Западом и Востоком складывается модель качественного различия. На Западе культурно-социальная сфера более напоминает типичный уклад Центральной или Юго-Восточной Европы, тяготеет к европейскому образцу. На Востоке же, напротив, сильно влияние евразийских черт, отчетливей проступают узоры тюркского и финноугорского элемента. Образ Киевской государственности — особенно период правления Ярослава Мудрого, Мстислава Великого и т. д. — в национальном сознании приобретает символический смысл как «золотой век» Древней Руси. И хотя многие легенды Киевского цикла были созданы намного позднее, в частности при монголах, в них отразилось представление об этом периоде как о первом (во многом мифологизированном) этапе русской государственности, когда Русь стала осознавать свою историческую и цивилизационную субъектность и свое предназначение. Русь Монгольская Большинство историков отчетливо фиксирует XIII век как конец Киевской Руси, распад единства, эпоху усобиц, культурной и социально-политической деградации, резкого сужения геополитического самосознания русских, утрату идентичности. В «Слове о погибели Русской земли» мы видим скорбь о распаде. Показательно, что Восток и Степь осознается русскими этой эпохи с позиций средиземноморской эйкумены, а монголы видятся как «орды гогов и магогов». Монгольское нашествие расшифровывается как «расплата за грехи», как «бич Божий». На национальном уровне «грехом» представляется утрата единства, солидарности князей между собой, отступление от социально-политической миссии. Эта концепция «платы за грехи» очень важна, так как отмечает существенный этап эволюции национального самосознания. В политической мифологии возникает важный диалектический фрагмент: «золотой век» Киевской государственности уходит в прошлое, происходит своего рода «политическая апостасия» («отступничество»), выражающаяся в децентрализации, усобицах, утрате цельности, и, как следствие, приход монголов («гогов и магогов») лишает Русь самостоятельности, ставит на колени. Эта национальная диалектика учит русских людей позитивно оценивать единую государственность, солидарность, централизм. При этом не столь важно, существовали ли эти реальности на самом деле: они постулируются историческим самосознанием, упорно утверждаются в качестве инструмента идентификации.
В период XIII–XV веков грань между западными областями Руси, попавшими под контроль европейских государств (Польша, Литва, Венгрия), и восточными, ставшими частью империи Чингисхана, постепенно приобретает ярко выраженный геополитический и цивилизационный характер. Евразийские монголы, следуя «Ясе» Чингисхана, практикуют полную веротерпимость (один из законов «Ясы» строжайшим образом запрещает направлять насилие против жреческой касты завоеванных народов), настаивая лишь на военно-политическом и хозяйственном (дань) подчинении русских. Оценка этого монголо-русского симбиоза различается в зависимости от исторических школ и мировоззренческих предпочтений. Безусловным остается лишь тот факт, что этот симбиоз был значительным и глубинным, и обмен культурными, административными, геополитическими, хозяйственными навыками, а также этническое смешение были весьма масштабными и постепенно привели к появлению новой этнической единицы, объединившей «восточных русских», после Куликова поля осознавших себя «великороссами». Великороссы укрепили свою религиозную идентичность, впитали евразийские геополитические импульсы, усвоили динамизм и жестокость монгольского войска, оперативность ямской связи, рационализацию сбора дани, навыки жесткого административного централизма, строгой иерархии. Постепенно в теле Золотой Орды стал вызревать политический субъект нового типа — Московское княжество. Здесь евразийские черты проявляются в полном объеме: традиционный уклад, воинская этика, религиозная самобытность, осознание важности единства и дисциплины, подчинения и централистской организации, столь явно наличествовавшей у монголов и осознанной как историко-политическая ценность. Завоевание восточных территорий Руси монголами привело к осознанию русскими очевидной политической несвободы (как платы за раздробленность и разобщенность) и укреплению религиозной идентичности. Совсем иная картина складывалась на западных землях. Галиция, Малороссия, Беларусь попали под власть совершенно иной культурной, социально-политической и цивилизационной модели. Этой части бывшей Киевской Руси был придан совершенно иной оттиск. Европа была настойчива в навязывании католической парадигмы, и там, где этого не удавалось добиться напрямую и «окатоличить» местное население, культурный тип навязывался косвенно через политическое, административное и хозяйственное давление. Православные россы в этом европейском контексте ставились в положение «религиозного меньшинства», рассматривались как «схизматики», а если их вероисповедание и культурный тип терпели, то в качестве чего-то «второсортного». На Западе Руси постепенно формируются иные этнические группы — малороссы и белорусы. Их национальное самосознание складывается по иным контурам, нежели у жителей Московской Руси. Они разрозненны, входят в различные культурные контексты, не вырабатывают централистского социально-политического проекта. Самосохранение в довольно активной и «этнически некомплиментарной» (по выражению Льва Гумилева) среде отнимает все силы. Конечно, и среди западных россов живет предание о «золотом веке» Киева, но эта ностальгия не превращается в проект, не обретает животворящего импульса извне: с Запада лежит густонаселенная, прозелитически активная Европа, которая стремится перемолоть «схизматиков», с Востока — Орда. Долгие века будут ждать западные россы чаемого освобождения и национального возрождения, а в это время Москва будет подниматься и отвоевывать все новые исторические горизонты. Московское Царство Окончание ордынского цикла приходится на XV век. Это уникальная дата русской истории. За двести лет владычества монголов поднимается Москва и начинает собирать восточные земли по совершенно новой логике. Постепенно нарождается новый образ Руси. Отныне это Московская Идея, так как выпестована она восточным полюсом россов, пропитанных евразийскими энергиями. Здесь следует обратить внимание на исключительно важное совпадение вXVвеке двух символических событий: безвозвратное ослабление Золотой Орды и падение Константинополя. Причем падение Царьграда, Нового Рима, последовало за подписанием греками Флорентийской унии с католиками. Для русских наступает решительный поворотный судьбоносный момент. Открывается уникальная перспектива для реализации мессианских чаяний и в религиозном (православие), и в социально-политическом (независимость) аспектах. Московская Русь представляет собой радикально новый исторический субъект. Падение Царьграда в социально-политическом контексте православия означало сгущение эсхатологических сумерек: византийский василевс отождествлялся в этом контексте с «удерживающим теперь» из 2-го послания ап. Павла к фессалоникийцам, т. е. с фигурой, препятствующей приходу в мир «сына погибели», «антихриста». В этот момент русские перестали быть просто периферией православной цивилизации. Они остались в истории одни перед лицом чуждого им мира. Отныне их идентичность была целиком и полностью вверена им самим, и византийское наследие транслировалось на новое северное царство в полном объеме. Русь становится новой Византией, а московский Великий князь (с XVI века царь) начинает выполнять функцию «катехона», «удерживающего теперь». Русь не узурпировала миссию (как когда-то Карл Великий на Западе), она подобрала брошенный венец, царский и мученический одновременно. Распад Орды и начало самостоятельного политического периода Московской Руси был воспринят не только как хронологическое совпадение, но как логически связанные события, как подтверждение того, что Русь вступила на новый и принципиально отличающийся от прежнего этап, и эта роль одобрена Промыслом. Обретение политической полноценности именно на фоне утраты независимости греками имело для русских колоссальный историософский, метафизический смысл. В этот период и возникает идея о русских как о «богоносном народе», а о Руси как о «Святой Руси». Апостериорно эта святость распространялась и на мифический «золотой век» Киевской государственности, но историософское подтверждение было получено, актуализовано только в московский период. С этого момента сугубо сакрализируется не столько даже Русская церковь, сколько Русское государство и русский народ. «Два Рима падоша», пишет Филофей. Это очень важная формула. «Новый Рим», «Второй Рим» тоже пал, и пал как воплощение православного царства, сотериологического[1] полюса духовно-политической целостности. Эта целостность заново обнаружилась отныне на севере, в евразийских просторах континента. «Третий Рим стоит». Стоит новый субъект христиански понятой священной истории. Но православная циклология подчеркивает, что это возвышение не есть нечто абсолютное и долговременное. Все события развертываются накануне неминуемого «конца света». Русь избрана перед этим концом, чтобы служить последней преградой антихристу, но антихрист близок и со всех сторон обступает Святую Русь. Отсюда зловещий оттенок доктрины Филофея — «Четвертому Риму не бывать». Обнаружив собственную сотериологическую миссию, Москва активно принялась за использование ордынских навыков. Государство отстраивается по законам строжайшей централизации, вечевые элементы отступают на второй план. Огромные территории, великие задачи, выход глубинных накопленных сил — все это требует организации и этики, подобной монголо-татарской. Подкрепляясь и административными навыками, почерпнутыми от евразийских завоевателей, и сотериологической миссией, и опытом тяжелых рефлексий относительно предшествующей эпохи упадка, новая Национальная Идея приобрела отчетливые черты «сакрального государства», призванного совершить на фоне довольно драматической исторической апокалиптической реальности великие подвиги.
Высшего напряжения эта линия получает в период царствования Ивана IV. Здесь соединено все: идея «тяглового государства», translatio imperii, теория «Третьего Рима», освящение русского обряда на Стоглавом соборе, предания о «белом клобуке», чудом попавшем на Русь, драма централизма, за которую платят любую цену, темные нагнетенные эсхатологические предчувствия, пронзительно ощущающаяся близость Грозного Ангела, канон которому слагает Царь, всполохи «конца времен», проглядывающие в ужасе, припадках гнева и безумия. Святость Руси оплачивается дорогой ценой. Это не пастораль, не официоз, не пропаганда— это кровавая и прекрасная драма, пронизанная высшим присутствием, сосредоточенным на страдающей и прекрасной, занесенной снегами, разворачивающейся во весь свой бескрайний размер стране. Оптимизм и пессимизм формулы Третьего Рима нераздельно слиты, глубинно переплетены. Московское царство формулирует Национальную Идею в ее максималистской версии. Русские теперь осознают себя центральным субъектом мировой истории, Новым Израилем. Им вверена особая миссия, трагичная и прекрасная, превосходящая все мыслимое доселе. Русские, великороссы, московиты отныне призваны не больше не меньше как спасти мир. Они остаются последним оплотом «удерживающего теперь», его индивидуальным (русский Царь) и массовым (русский народ) выражением. Показательно, что в этот период различные сословия характеризуются не столько качественным различием быта, костюма, форм хозяйствования, сколько количественным. На этом делал акцент П. Н. Савицкий: структура жилища, наряда, внешний вид, нравственность и даже времяпровождение аристократии (вплоть до царя) и простых людей были сущностно и типологически схожими, различался лишь материал, из которого были созданы соответствующие предметы — у простолюдинов он был дешевый, у бояр — изысканный. В этом наглядно проявлялся интуитивно осознаваемый всеми императив единства, цельности. Татары и другие евразийские народы прекрасно вписались в этот общерусский стиль. Причем до такой степени, что Стоглав был вынужден специально подчеркнуть запрет на хождение в православные храмы в татарских шапочках (сам уровень запрета намекает на степень распространения этого явления). Русские как бы поменялись с татарами местами. Евразийский импульс и контроль над континентальными пространствами взял на себя Белый Царь. Сами тюрки часто рассматривали возвышение Москвы как продолжение дело Чингисхана. Новый московский порядок имеет отныне следующие черты: — осознание Руси как единственной наследницы полноценного византизма (что предполагает сочетание Православия и Царства, Царя-Катехона); — самостоятельность и независимость мощной политической державы, занимающей обширные земли на северо-востоке континента; — геополитическое наследие Чингисхана, задача «собирания» пространств Евразии; — осознание Москвы как духовно-культурной, геополитической и, конкретно, православно-мессианской антитезы католической (и протестантской) Европе. Синтез Московского царства выстаивает даже перед таким испытанием, как Смутное время: эпоха Лжедмитриев, нашествие польско-литовских и шведских войск (т. е. европейского полюса). Окончательная катастрофа настает лишь в середине XVII века вместе с книжной справой, реформами Никона и церковным расколом. В этом сложном периоде для нас важно то, что здесь происходит расслоение Национальной Идеи, самого образа Руси на несколько составляющих. Расколу подвержена не только Церковь, но и многие другие аспекты древнерусского бытия и самосознания. Староверы видят в реформах Никона повторение истории с Флорентийской унией. Отказ от древнего русского обряда они распознают как отступничество от московской эсхатологической миссии, как лишение нации качества той уникальной субъектности, о которой мы говорили выше. Следовательно, раскол не исчерпывается книжной справой или отказом от двуперстия, он затрагивает формулу русской идентичности. Сторонники Аввакума распознают за новинами Никона проникновение на Русь тех тенденций — в первую очередь западных, но и греческих (так как сами греки уже 200 лет как жили под турками и не могли рассматриваться как эталон православия), — противление которым составляло важнейшую сторону национального субъектного самосознания. Это подозрение окончательно укрепляется после событий печально известного собора 1666–67 годов, когда подложные представители «восточных патриархов» низлагают самого Никона и окончательно перечеркивают историософскую формулу московского периода, осуждая как теорию Третьего Рима, так и Стоглав, а вместе с тем и древнерусский Студийский устав, пришедший (как и двуперстие) от греков, когда те сохраняли еще свое катехоническое измерение. Официальная Русь в этот период меняет свое имя. Отныне это Россия. Совершенно иная страна, с совершенно иной формулой самоидентификации и Национальной Идеей. Как бы мы ни оценивали события XVII века, очевидно, что в эту эпоху цикл «Святой Руси» подходит к концу. Показательно в этом смысле резко усиливающееся влияние западных россов, необходимостью возврата которых в лоно единого государства Никон оправдывал смысл своих нововведений. Они становятся отныне привилегированным инструментом официальной церковной и отчасти светской политики, направленной на вымывание «старомосковского» начала. Романо-германское иго Смена имени в официальном названии государства показательна. Славянское «Русь» меняется на латинское «Rossia». Россия со времен Алексея Михайловича смотрит на себя чужими глазами. Она более не одинока в окружающем мире, Петр Первый «прорубает окно». Но, утратив одиночество, страна теряет смысл своего существования. Европейский взгляд видит в Rossia карикатуру на нечто знакомое и привычное. Романовы начинают исправлять картину. Новый двухсотлетний период этого исправления евразийские авторы называли «романо-германским игом». Если разложение Киевской Руси привело к расщеплению русских на западных и восточных, то конец Московского царства разделил народ и элиту, пессимистическую и оптимистическую формулы национальной идентификации, старообрядцев и новообрядцев. В начале XVIII века пост-московский образ России получил символическое воплощение в новой столице — Санкт-Петербурге. Очевидно, что назвать русский город на немецкий манер было элементом важнейшей программы преобразований, кратким резюме новой редакции Национальной Идеи. Официальная власть в России противопоставляла таким образом «старое» и «новое», «прошлое» и «будущее», «имеющееся» и «поставленное в качестве цели». Россия в отличие от Руси как бы снимала с себя бремя быть «единственным субъектом священной истории на фоне апокалиптических ожиданий и во враждебном окружении». Петр провозгласил курс на Запад. Очевидно, что глубинным изменениям подверглась сама сущность власти, религии, общественных институтов. Россия начинает осознавать себя как атипичный фрагмент Европы. В XVIII веке это проявляется резче и гротескнее, нежели в XIX. Санкт-Петербург выстраивается как наглядная антитеза Москвы, вместо естественной, долго и трудно вызревавшей евразийской столицы — стремительная новостройка по амстердамским и венецианским лекалам. Национальная Идея раздваивается: официальная версия — «романовщина» и неофициальная версия — «немая ностальгия масс». Народ остается в Москве, элита уходит в Санкт-Петербург. Российская империя — государство десакрализованное, светское, прагматичное, ориентированное на Европу, стремящееся стать мощной европейской державой путем имитации европейского опыта и жесткого выбивания из автохтонного населения «старых привычек». Это — издание Национальной Идеи для верхов. Практически в течение всего XVIII века у монархов не возникает сомнений относительно безукоризненности такой постановки вопроса. Сопротивление народной среды расценивается как досадная механическая реакция косной материи.
Однако это сопротивление оказывается гораздо более глубоким, нежели думали Петр или Бирон. Народ отвечает казаками и Пугачевым, саботажем и иронией, бегунами и нетовцами. Несмотря на скудость самовыражения и жесткость официальной пропаганды, народ продолжает свою рефлексию, пестует иную редакцию Национальной Идеи. Этот параллельный образ живет в легендах и преданиях, в сектах и обрядах, в сказках и песнях. Параллельная Русь, сказочная и светлая, райская, московская, цельная, не расколотая, живет в просторах национального бессознательного. Она влияет исподволь, изнутри, косноязычно и обрывочно. Отчетливо стихия народного сопротивления начинает учитываться в последние годы правления Екатерины Великой, особенно после того, как ее напугала Французская революция. Русская аристократия в этот период делает какой-то очень важный выбор, который предопределит судьбу XIX века. Она решает в чем-то уступить той инерциальной национальной стихии, с которой боролась весьXVIII век. Восстанавливается харизматический институт старчества, в церкви возвращается традиционный восьмиконечный крест, еще недавно называвшийся «брынским» и «раскольничьим», возникает некоторая настороженность относительно полного и буквального копирования европейских образцов; от этого не отказываются, но появляется избирательность. Отныне европеизм элит приобретает отчетливо консервативный характер, который по своей структуре предполагает некоторый учет национальной самобытности. Эта самобытность частично реабилитируется. Павел и Александр I символизируют существенный поворот русской аристократии в западно-консервативную сторону. Отчетливо сугубо национальные элементы в этот консервативный комплекс начали вводить первые славянофилы. Они развивают свои идеи в идеологическом пространстве между западным консерватизмом и зачаточным «евразийством». Особенно важно влияние на них немецких романтиков и идеалистов, которые сами по себе могут быть отнесены к«европейскому евразийству» (воспевание Древности, Средневековья, Востока, мифологии, экзотических обрядов и культов). Славянофилы XIX века вырабатывают еще один образ Руси, еще одну формулу Национальной Идеи. Она существенно отличается от формулы XVIII века. Отныне Россия осмысляется как оплот «европейского консерватизма», могучая и своеобразная восточно-христианская держава, сохранившая систему фундаментальных ценностей, значительно растраченных «прогрессистским», «просвещенческим» Западом. Знаменитая формула Уварова «Православие, самодержавие, народность» подытожила славянофильскую мысль применительно к национал-государственнической позиции. В этом образе России все еще наличествует много европейских черт. Запад остается эталоном, но только в своей консервативной составляющей — латинская схоластика, протестантский спиритуализм, прусская дисциплина, английский национализм. Славянофилы занимают здесь пограничную позицию, выходя в отдельных моментах своей философии за пределы романовской «политкорректности», а в других вопросах сближаясь с позицией Романовых. Их критика Петра, апология Московской Руси, восхищение народными обычаями не вписываются в систему официоза. Отсюда постоянно сопровождавшее славянофилов подозрение в диссидентстве и негласный надзор полиции. Особенно показательны поздние славянофилы (К. Н. Леонтьев, Н. Я. Данилевский), сформулировавшие крайне консервативную («евразийскую») программу, доходящую до революционности (термин «революционный консерватизм» впервые применил Ю. Ф. Самарин, а проницательный Константин Леонтьев вообще писал о желательности сочетания монархии и социализма). Консервативное западничество романовского официоза «справа» граничит со славянофилами, а «слева» — с западниками умеренно либеральной ориентации. Эти либеральные западники тяготеют к тому, чтобы восстановить в общих чертах пропорции XVIII века и верстать Россию под европейский манер, следуя за «прогрессом» и «реформами». Западники составляют устойчивый сектор правящего класса, противоположный славянофилам. Россия представляется им архаической безнадежно отсталой страной, требующей всесторонней модернизации в европейском «просвещенном» ключе. Самобытность России видится как совершенно негативное явление, как совокупность цивилизационных дефектов. Это — либерал-реформаторское крыло элиты, фактически рассматривающее российскую действительность, историю и будущее в оптике среднего европейца. «Слева» от либерал-реформаторов — и, что самое главное, «справа» от славянофилов — размещается в XIX веке зреющая рефлексия безгласных народных масс (проступающая в лице разночинцев). Этот пласт является продолжением московского начала, загнанного в XVIII веке в глубокое подполье. Нагляднее всего это воплощено в течении «революционных демократов», которые, с одной стороны, оказываются еще более радикальными, нежели либерал-реформаторы, в подражании европейской «прогрессистской» мысли и критике режима, а с другой, выступают от лица архаичных масс. Революционные демократы вдохновляются не существующей консервативной Европой, но футурологическим проектом Европы, который имеет в то время довольно смутные очертания. Поколения русских революционеров (от декабристов до эсеров) вносят в этот образ будущего самобытные национальные черты. Сами того не подозревая, они оказываются в определенном смысле гораздо «консервативнее» консерваторов, хотя занимают «крайне левый» политический сектор. Особенно отчетливо это проявляется в нарождающемся «народническом движении». Народники вбирают в себя обе неполиткорректные для санкт-петербургской романовщины тенденции — и крайне правую, «славянофильскую», и крайне левую, «революционно-демократическую». Народники выступают от лица московской линии в ее футурологическом, мессианском, эсхатологическом проекте, высказанном подчас на заимствованном с Запада языке «социальной революции». Это удивительное сочетание старообрядческого пессимизма и хлыстовского энтузиазма, хилиастических чаяний и апокалиптических предчувствий, глубинно народного иррационального импульса и «прогрессистской», «позитивистской» вербальности рационалистов. Ключ к советскому периоду следующего столетия следует искать именно в этом феномене. Формула Национальной Идеи в XIX веке подвергается существенным изменениям в сравнении с веком XVIII. Молчаливый протест народных масс против западничества элит нарастает и постепенно обретает выражение. Сами элиты также начинают все больше учитывать это давление низов, за которым мы распознаем тайный голос Москвы. В начале XX века эти противоречия обостряются. Эсеры (прямые наследники народников) и социал-демократы превращаются в самостоятельный политический революционный фактор. Революция 1917 года завершает романовский санкт-петербургский период. Образ старой России (а точнее весь спектр этих образов, все разновидности национальной диалектики) рушится. Впредь Национальная Идея будет выражаться в радикально ином контексте. Советский период Советский период следует понимать как исторический реванш народной, массовой составляющей романовской эпохи над аристократией. В некотором смысле можно сказать, что это была победа московского начала над санкт-петербургским, «евразийского» над «атлантистским». Факт переноса столицы в Москву сразу же после победы большевиков является в высшей степени показательным. Наследники славянофилов на новом этапе — евразийцы (кн. Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий) и «сменовеховцы» (Н.В.Устрялов) — дали развернутую панораму национального, «консервативного» толкования советского строя. Заимствованная с Запада «прогрессистская» риторика марксизма, обращение к Просвещению, вульгарный механицизм философии Ленина, атеистические эксцессы, т.е. форма саморефлексии большевиков, не должны вводить нас в заблуждение относительно их реальной миссии. Это было хилиастическое, апокалиптическое движение, вызревшее в народной среде, в сектантских и старообрядческих кругах, но оформленное с помощью радикально революционной марксистской доктрины, заимствованной с Запада. Национальная Идея в СССР, образ Советской России — не сводится к «советскому патриотизму». СССР мыслится как мессианская реальность, часть мира, где отменены законы капиталистической энтропии, где реализованы на практике условия «земного рая», «агнец возлегает рядом с волком». Советский народ занимает место народа-богоносца. Он призван нести человечеству весть о «социальном спасении». Противоречия с Западом, приравненным идеологически к источнику буржуазного зла, приобретают радикальный характер. В новых терминах возрождаются давние геополитические противоречия. Москва и красные вожди выступают в роли «нового катехона», «коммунистического удерживающего теперь». Столица Третьего интернационала перенимает (восстанавливает) эстафету Третьего Рима. Советскую Идею следует квалифицировать как универсализацию, обобщение московской идеи, социально-политическое экстремальное пароксистическое воплощение того образа Руси, который предшествовал санкт-петербургскому периоду, а в течение этого периода находился в подавленном состоянии. Республика Советов стала новым этапом «византийско-монгольского» геополитического утверждения. Новый цикл национальной диалектики совершенно закономерен и замечательно вписывается в нашу историософскую модель. Как Московское царство вызрело в монгольский период, так и советский проект в основных чертах оформился в период ига романо-германского. Все парадоксы советского строя, все отступления от догматического марксизма, политические и культурные несуразности его объясняются тем, что коммунистическая элита не знала, не смогла или не успела создать адекватного языка для самоосознания и самовыражения. Крах советского цикла был связан с размыванием четких контуров образа Советской Руси. Абсолютизация марксистской вербалистики, догматизация официальной доктрины партии поставили непреодолимые преграды для органичного и «прозрачного» взаимодействия между глубинными народными энергиями, изначально оживлявшими советизм, создавшими его, и уровнем исторической рефлексии коммунистической элиты. В критический момент, когда внешние и внутренние вызовы социалистической системе достигли максимального напряжения, народная, «национал-большевистская» стихия — к тому же всерьез пострадавшая от концептуального насилия советских элит — не смогла прийти на помощь распадающейся советской империи, поддержать Национальную Идею новыми спасительными (геополитическими, цивилизационными и мессианскими) аргументами, невозможными в рамках официальной догматики. К тому же к 70–80-м годам XX века постепенно иссякли социал-мессианские ожидания, государственный аппарат в значительной мере прошел стадию отчуждения от масс, воспроизводя худшие образцы романовской бюрократии. Демократическая Россия? На фоне упадка советской идеи снова возродились западнические настроения — на сей раз в либерал-реформаторской (либерал-демократической) форме, — последовательно отторгавшиеся национальной историей на предыдущих этапах. Распад СССР, крах советской идеи в качестве национальной оставил вакуум. Образ новой «демократической» России пока остается довольно смутным. Последнее десятилетие новейшей российской истории показывает, что прочно утвердившиеся у власти западнические элиты даже в такой короткий срок значительно эволюционировали. Первые радикальные либерал-демократические идеи постепенно стали уступать место западническому консерватизму. В течение 90-х мы прожили на новом этапе в резюмированной (почти пародийной) форме XVIII век и вступили в XIX. Прямая русофобия младореформаторов на глазах уступает место «просвещенному консерватизму» и «умеренному европеизму».
Власть в современной России в поисках Национальной Идеи пока остается врамках западничества (от либерализма до консерватизма). Но из этого обстоятельства нельзя делать выводов относительно того, что такая ситуация стабильна и предопределит образ России в достаточно долгой исторической перспективе. Состояние общественного сознания таково, что большинство россиян мировоззренчески, безусловно, ориентированы на совершенно иную модель — на модель евразийского типа. И если возрождение коммунистической догматической ортодоксии исключено, то внутренняя содержательная «московская» составляющая советизма, отражающая гораздо более глубинные архетипические установки, нежели результат марксистской индоктринации, вполне устойчива и только ожидает адекватного мировоззренческого выражения. Евразийство представляет для выработки альтернативного образа России-Руси широкие возможности. Будущее открыто, и каким бы трудным ни был настоящий этап, борьба за Национальную Идею, за ее формулирование и ее воплощение в жизнь далеко не закончена.
[1] Сотериология — наука о спасении. — Примеч.ред. |