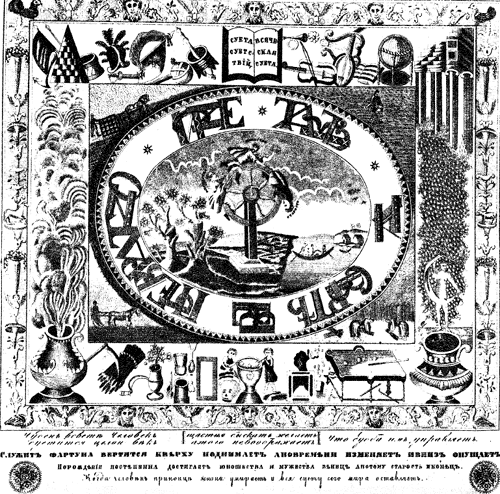Отрывки из книги
ГЛАВНАЯ ТЕМА
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 3, 2002
| Данная работа является попыткой использовать социологический метод к объяснению фрагментов мировой истории идей. Примененный здесь метод отличается от некоторых других форм социологии знания, поскольку исходит из того, что непосредственное социальное влияние на конструирование идей оказывает сетевая структура отношений между интеллектуалами. Обстоятельства, связанные с общественными классами, экономические и политические факторы находятся скорее на заднем фоне, чем на переднем плане социальной причинности, а их влияние опосредовано действием социальных сетей. Этот метод анализа может быть применен к гораздо большему числу случаев, чем были исследованы мной в данной книге. Метод включает следующие шаги. Во-первых, следует собрать большое количество исторических описаний некоторой области культурного производства: это могут быть философы, ученые какой-то конкретной специальности, музыканты, писатели или художники. К настоящему времени большая часть такой работы сделана относительно отдельных случаев из определенных периодов мировой философии; однако вполне резонно предположить, что такой подход может быть распространен и на другие сообщества философов и деятелей культуры во многих областях. Во-вторых, нужно ранжировать таких интеллектуалов в соответствии с долей внимания, полученной ими в позднейших исторических источниках. В последующем обсуждении я буду касаться только философов, но должно быть понятно, что данный метод мог бы быть применен и к другим видам культурного производства. Лучше использовать некий исторический метод, чем полагаться на свою собственную интерпретацию культурной значимости тех или иных авторов. Дело в том, что настоящая значительность философа может быть установлена, только когда большая сеть, простирающаяся на несколько поколений, развивает определенные идейные течения и делает их фокусом внимания для противостоящих друг другу соперничающих способов мышления. Поэтому невозможно провести социологически удовлетворительный анализ творчества наших собственных современников или даже представителей предшествующего нам поколения (иными словами, тех, кто был уже стар, когда мы были молодыми; я считаю, что полная смена поколений в области культурного производства происходит примерно в течение 35 лет). Мы еще не можем понять, кто из наших современников значителен, а кто будет представлять лишь третьестепенный или временный интерес, до тех пор, пока два последующих поколения не разовьют программы, дающие место идеям тех или иных наших современников; в более социологическом ключе я бы сказал так: невозможно оценить значительность современников до тех пор, пока более поздние поколения не станут использовать имена прежних мыслителей как символы, или эмблемы, определенных способов мысли, широко распространенных в собственных сетях этих поколений. В третьих, проводится исследование личных связей между философами. Кто был учителем каких учеников? Кто был чьим другом или коллегой, особенно на ранних, формативных стадиях жизненных карьер? Кто чьим был соперником или противником? Велись ли споры в частном порядке, на публике или в письменной форме? Теперь, на основе информации о связях такого рода, мы можем начертить сетевую схему. В типичном случае мы получим структуру, распространяющуюся в нескольких направлениях: «вертикально» во времени — от одного поколения к другому, «горизонтально» — среди современников, являющихся коллегами, союзниками, а также соперниками, которые критикуют друг друга в связи с интеллектуальными вопросами. Мы также включаем в эти сетевые схемы тех индивидов, у которых нет связей с другими лицами в данной сети. Мы полагаемся на исторический материал в решении о том, кто находится в области культурного производства и насколько близко от центра; поэтому в сравнительных целях мы также нуждаемся в информации о тех, кто находится на периферии или в изоляции. На основе результатов моего исследования я полагаю, что в типичном случае мы обнаружим устойчивую структуру, или паттерн, тесных личных связей между наиболее значительными мыслителями (получившими наивысшие ранги методом, указанным выше), однако нам следует считать этот вопрос эмпирическим — тем, что в каждом случае должно быть заново установлено. Во 2-й главе я показываю некоторые методы вычисления связей между философами, учитывающие не только прямые, но также опосредованные контакты, накапливающиеся на протяжении нескольких звеньев и вертикальных, и горизонтальных цепочек. Хорошо было бы изучить эти паттерны опосредованных связей для каждого нового изучаемого нами случая; дело в том, что такие опосредованные связи показывают, каким образом более крупный процесс культурного творчества проходит сквозь структуру интеллектуального сообщества. Такого рода сетевая схема некоторой области культурного производства представляет пространство внимания. Иными словами, в ней описывается паттерн наиболее интенсивно сфокусированных процессов общения между людьми, которые транслируют прежний культурный капитал и превращают его в новую культуру. Сетевой метод предполагает некую лежащую в основе социологическую теорию, поскольку в действительности все методы подразумевают некую теорию, в рамках которой они полезны: в данном случае теория состоит в том, что в непосредственных личных контактах повышается интенсивность эмоций, а внимание остро фокусируется на вполне определенных центральных спорах. Благодаря личным контактам также быстрее всего происходят сдвиги в аргументации, поэтому индивиды, находящиеся ближе всего к центру данных сетей, пользуются преимуществом в осуществлении очередных шагов и формулировании последующих идей, которые и дальше будут удерживать внимание. Конечно же, есть возможность получать идеи посредством чтения других авторов, и можно было бы применить более традиционный метод учета «идейных влияний» через изучение того, кто какие книги читал. Однако в моей социологической теории утверждается, что в конкуренции за ограниченное пространство внимания весьма большое количество индивидов имеют доступ к уже имеющемуся культурному капиталу, который позволил бы им формулировать новые идеи; однако только те немногие индивиды, которые сделают данные шаги быстрее всего, получат социальное внимание, а наряду с ним и эмоциональную энергию для продолжения разработки своей позиции в пространстве интеллектуального внимания. Когда мы уже составили сетевую схему для изучаемой области культурного производства, остается сделать два шага анализа. Мы можем продвинуться «внутрь» в содержание идей — тех аргументов, которые выдвигаются мыслителями данной сети. Здесь социологическая программа состоит в изучении того, как идеи, формулируемые индивидами, обусловливаются положением последних в сети, как «вертикально» — в терминах предшественников, так и «горизонтально» — в терминах союзников и соперников. Моя теория состоит в том, что существует лишь малое число позиций в пространстве внимания, доступных в каждом поколении, причем это не просто одна позиция, но как минимум две или три позиции, а максимально примерно шесть позиций, способных успешно привлекать сторонников в следующем поколении. Мы можем проверить это утверждение, прослеживая цепочки учителей и учеников; мы можем проверить его также, рассмотрев способы, которыми современники, молодые мыслители, входящие в область в том же поколении, вырабатывают противостоящие друг другу позиции. Моя стратегия написания интеллектуальной истории состоит в особенно детальном изучении сетевых схем, с постоянным учетом трансформации позиций в данной сети, являющейся, так сказать, социальным деятелем (или актером) на исторической сцене. В процессе написания истории сети и составляется социологическое объяснение конструкции идей. Очень важно избежать связанности знанием об исторических результатах. Зная о том, что определенный человек — например, Гегель — становится значимой фигурой, соотнесенной с несколькими последующими интеллектуальными движениями, мы должны освободиться от подразумеваемой предпосылки, что «Гегель» всегда со своей ранней юности обладал качествами, обусловливающими его последующее превращение в такую историческую фигуру. Вместо этого мы должны стремиться восстановить сетевую структуру того периода, когда много таких юношей потенциально могли принять участие в перестройке всего интеллектуального пространства внимания; мы хотим показать, как эта сетевая структура позволила сделать определенные ходы, как конкретные индивиды оказались в центре все более фокусирующегося внимания, как они все больше наполнялись энергией для совершения работы, которая и привела к отождествлению этих индивидов с данными интеллектуальными трансформациями. С неизбежностью в первую очередь до нас доходит исторический материал относительно знаменитостей; наша задача как социологов состоит в превращении этой информации в знание о сети, а затем в реконструкции взаимодействий, составивших данную сеть, и в соответствующем оформлении «внутренней политики пространства внимания». Мы пытаемся прочертить путь к беседам, составлявшим данную сеть, а также к внутренним беседам в головах мыслителей, составляющих в своем разуме коалиции, что и становится созданием новых идей. В дополнении к этому изучению «внутренней» политики сети мы можем также исследовать «внешние» социальные условия. Однако будем помнить, что мы не намереваемся устанавливать классовую принадлежность индивидов, но стремимся выяснить социальные основы для целых сетей. Поэтому нам нужно изучить ту материальную организацию, которая позволяет людям посвятить себя культурному производству: церкви, системы образования, аристократическое покровительство, государственная поддержка, коммерческие рынки издания книг и журналов или другие такого рода организации, дающие средства к существованию авторов и несущие материальные издержки культурного производства. (В некоторых сферах — таких как сочинение музыки, создание произведений живописи или архитектуры— подобные материальные затраты могут быть очень важными детерминантами того, что производится; в других областях затраты на интеллектуальное производство могут быть гораздо ниже.) Моя социологическая теория включает то, что я назвал «двушаговой социальной причинностью интеллектуального производства»: изменения в экономических и политических условиях имеют свои культурные последствия, но не потому, что они прямо производят идеологии, отражающие соответствующие крупные экономические и политические интересы, а потому, что данные изменения открывают возможности для появления новых ответвлений социальных сетей интеллектуалов; также и потому, что они уменьшают или вообще прекращают материальную поддержку других сетевых ветвей. Именно при изменении материальных условий интеллектуальной жизни сети вынуждены реорганизовываться; согласно «закону малых чисел» существуют от трех до шести позиций, могущих быть успешными в пространстве внимания; создание новых материальных основ позволяет формулировать новые позиции, часто расщепляя прежние позиции на новые соперничающие фракции. Сходным образом, разрушение некоторых сетевых линий преемственности из-за того, что подрублены их материальные основы, также дает возможность выжившим сетям реорганизовать пространство внимания. Поэтому как социологи мы хотим соотнести между собой три типа данных и три уровня анализа: сети, связывающие между собой самых активных интеллектуалов (или шире — деятелей культурного производства), возможности для альянсов и соперничества в пространстве внимания, что составляет «внутреннюю политику» конструирования новых идей, а также меняющиеся материальные основы интеллектуальной жизни, которые находятся под влиянием экономических и политических сил. Производители идей связаны с большим миром экономических и политических сдвигов, а также действуют в своей собственной внутренней сфере сетевого пространства внимания. Перед нами как перед социологами стоит задача показать всю эту сложность, а не сводить анализ всего лишь к той или иной стороне поля социальных сил. «Социология философий» — это очень большая книга. Более 25 лет мною проводились сбор данных и анализ социальной истории данных сетей для избранных столетий истории Китая, Японии, Индии, древней Греции, средневекового исламского мира и Западной Европы. Если бы я мог прожить намного дольше, то с удовольствием бы включил гораздо больше материала из мировой интеллектуальной истории, представляющего огромный интерес и значимость. Пришлось оставить это для последующих книг, которые, возможно, будут написаны кем-то другим. Например, я бы хотел изучить интеллектуальную историю Китая недавних столетий, а не останавливать свой анализ на XVI веке; я также не сумел проследить значимую историю философских течений, экспортированных из Индии и продолжавших развиваться в Тибете; то же касается и неохваченной в данной книге интеллектуальной истории Кореи, которая послужила бы для полезного сравнения с условиями, способствовавшими развитию конфуцианских и буддийских линий преемственности в Китае и Японии. Определенные части мира с богатым интеллектуальным развитием едва лишь затронуты в моей книге. Так, я сумел проследить процессы интеллектуального развития в России XIX века только при демонстрации причин того, почему немецкие и французские интеллектуальные движения XX века, в особенности экзистенциалисты, стали так сильно восхищаться русскими мыслителями, которых считали своими предшественниками. [Из предисловия к русскому изданию] Ретроспективный литературный канон Экзистенциалисты причислили к своему направлению те романы двух предшествующих поколений, которые наилучшим образом соответствуют типу философско-литературного гибрида. Слава Достоевского вне России стала расти в тот же период и в том же месте, что репутации Кьеркегора и Ницше. Взлет популярности их книг произошел в Германии как раз перед Первой мировой войной, и это показывает, что данная литературная мода не была следствием послевоенного разрушения иллюзий. Рассказы Кафки также были написаны перед войной (опубликованы в1913–1916 годах) и стали популярны вместе с его романами, опубликованными посмертно в 1926–1927 годах Философская интерпретация этого корпуса литературных текстов была работой кружка Сартра, и именно в этом облачении произведения Достоевского и Кафки достигли вершины своей популярности в 1940–50-х годах, став издательским феноменом англоязычного мира. Книги Достоевского кажутся неожиданным вторжением с той периферии, которая раньше никогда не была значимой в европейской культуре. Тем не менее его работы подобно зеркалу возвращали интеллектуалам главных европейских сетей драматизированную версию идей их собственных предшественников. По политическим причинам основы интеллектуального производства в России были сосредоточены на рынке романов для читателей из среднего класса — рынке, который существенно расширился примерно в 1860 году. В университетах, открытых в ходе западнических реформ 1700-х годов, было запрещено преподавать философию после восстания декабристов 1825 года; в результате некоторой либерализации с 1863 по 1889 годы разрешенными для преподавания стали только комментарии к Платону и Аристотелю[1]. Роль интеллектуала широкого профиля— традиционная ячейка для философа в интеллектуальном пространстве — была занята журналистом-критиком, а затем, в связи с расширением рынка, все в большей мере — романистом, тем более что из-за политической цензуры художественная литература была единственным средством выражения общих идей. В ходе коммерциализации и установления связей с мировым рынком Россия становилась импортером европейской культуры; в интеллектуальном плане она попала в зону экспортного распространения <идей и организационных форм> немецких университетов — своего рода «динамомашины» мирового интеллектуального производства того времени. Насколько позволяли российские условия, импортировались немецкие академические (научно-образовательные) структуры и идейное содержание, что дало ряд значительных результатов в математике и естествознании. Подражание немецкому культурному производству, разумеется, не ограничивалось Россией, но именно здесь оно было особенно выражено, поскольку, в отличие от Англии и Франции, соперничать с этим подражанием в России могла лишь довольно слабая местная организация интеллектуального производства. Русские интеллектуалы подолгу жили на Западе и становились звеньями в немецкой сети: наиболее значительными среди них были Бакунин (в сетях Шеллинга — Маркса — Вагнера […]) и бывший гегельянец Герцен, ставший после своего бегства на Запад в 1847 году центральным звеном в сообществе русских эмигрантов. Тургенев, получивший образование в Берлине, в своем романе «Дым» (1867) изобразил русских интеллектуалов в Бадене, соединявших немецкую философию с политическими сюжетами своего отечества.
Каждое течение немецкой философии быстро воспринималось в России. Возвращаясь из Европы, интеллектуалы привозили тексты, которые в условиях запрета преподавания философии и цензурных ограничений на переводы переходили из рук в руки в студенческих кружках; там же проходили соответствующие обсуждения. Этот способ организации максимально увеличивал ритуализм и эмоциональную приверженность идеям текста; интеллектуальная жизнь как таковая становилась формой политической деятельности, поскольку наказанием за недозволенное писание или даже чтение было тюремное заключение и ссылка в Сибирь, что часто применялось к интеллектуалам в середине XIX века. В 1830-х годах в России близкую к фанатизму популярность обрели Шеллинг и Фихте; в 1840-х годах — Гегель. Немецкий культурный капитал был приспособлен к нуждам фракций подпольной политики в России; как западники, так и приверженцы самобытных идеалов славянофилы выводили абстрактное обоснование своих построений из универсалистских или романтических линий немецкого идеализма. Материалистическая контраверза, возникшая в Германии 1850-х годов, превратилась в русский нигилизм 1860-х годов. Приходя к политическим выводам, невообразимым на Западе, Чернышевский и Писарев смешивали идеи Фейербаха, Молешотта и Бюхнера с идеями британского реформаторского утилитаризма и заключали, что нравственность не означает ничего кроме рационального эгоизма и что в политической деятельности принесение жизни в жертву, даже терроризм, оправданы большим благом для будущих поколений. Еще позже, когда в 1880–90-х годах в Германии через журналы и издательства социал-демократической партии распространился марксизм, русские интеллектуалы приспособили это учение к уже существующему стилю своего подпольного радикализма. Достоевский вышел из студенческого поколения 1840-х годов, для которого было характерно поклонение идеализму. Арестованный, приговоренный к смертной казни в 1849 году, Достоевский был отправлен на каторгу в Сибирь, где он провел 1850-е годы. Достоевский вернулся как раз в то время, когда мог вступить в конфронтацию с новым поколением радикальных материалистов. Тургенев был первопроходцем в использовании своих соотечественников-интеллектуалов как материала для романов; книга «Отцы и дети» стала знаменитой своим противопоставлением политических пристрастий предыдущего и нового поколений; благодаря этому роману стал популярным термин «нигилисты» в применении к молодому поколению. Достоевский продолжил теперь свою писательскую карьеру, создав ряд исполненных горечи портретов новых радикалов. В «Записках из подполья»(1864) автор нападает на преклонение перед наукой (в современных терминах— сциентизм) и на материалистический детерминизм Чернышевского. В романе «Преступление и наказание», создавшем писательскую репутацию Достоевского, изображен студент-революционер, оправдывающий убийство на основе аргументации Писарева. Сюжет «Бесов» (1871) представляет в художественной форме печально знаменитый инцидент: Нечаев, посланный Бакуниным из эмигрантского кружка в Швейцарии для организации подпольной ячейки в России, приказал убить одного студента, члена этой группы, чтобы в макиавеллевском духе утвердить революционную дисциплину. В центр романа «Братья Карамазовы»(1877–1881) вновь поставлен революционно настроенный интеллектуал, на этот раз сокрушенный виной, связанной с последствиями исповедуемых им учений. Собственные открыто выраженные убеждения Достоевского, которые он, без сомнения, искренно исповедовал и которые при этом помогали делать его писания приемлемыми для правительственной цензуры, состояли в превознесении религиозной идеи пассивного страдания; однако именно злодеи движут действие его романов и создают ту атмосферу страстного философствования, которой предстояло стать столь привлекательной для интеллектуалов уже в международном масштабе. Что обеспечило Достоевскому литературный успех, так это сочетание данного идейного материала со стилем романов массового рынка, часто в форме таинственного убийства или полицейского триллера. Достоевский использовал интеллектуальный самоанализ, получивший известность благодаря Тургеневу, очищенный от салонной изысканности последнего и превращенный в мелодраму в стиле популярной беллетристики. Это также помогало книгам Достоевского соответствовать намеренно деклассированным литературным вкусам французских интеллектуалов 1930-х годов. Кафка начинал, располагаясь еще ближе к главному потоку немецких интеллектуальных сетей. Он получил образование в начале 1900-х годов в немецком университете в Праге; среди его учителей были Марти из линии Брентано и Христиан фон Эренфельс, чья линия преемственности восходила к Мейнонгу <…>. Эренфельс с харизматической энергией отстаивал идеи главных движений того времени: он был одним из создателей гештальтпсихологии и другом Зигмунда Фрейда; Эренфельс также отстаивал философию жизненного мира как замену утерянной религиозной веры[2]. Кафка начинал в интеллектуальной среде, весьма близкой к феноменологии и фрейдовскому символизму сновидений. Когда в кружке Сартра в явном виде стал формироваться экзистенциализм, произведения, подобные писаниям Кафки, начали переосмысливаться в качестве текстов, которые привели к самому движению экзистенциализма. Сартр в своей книге «Нет выхода» (1944) стремился достичь кафкианского тона фатальной неизбежности. Мрачные и пагубные черты, которые Кафка придает обыденной жизни, становятся специальным предметом философского размышления в книге «Тошнота» (1938): здесь главный герой использует феноменологию для изучения собственной отчужденности. В первой части повести «Посторонний» (1942) Камю придумывает историю убийства, чтобы представить во второй ее части судебный процесс в духе Кафки. Камю проделал большую часть работы в переопределении предшествующего литературного канона. В его философских эссе «Миф о Сизифе» (1942) и «Бунтующий человек» (1951) описывается линия «метафизических бунтарей» — романтиков с их байроническими жестами отрицания Бога, поэтов-символистов (среди которых наиболее крайними мятежниками были Рембо и Лотреамон, чья творческая активность пришлась на время Парижской коммуны 1871 года), а также «строящих нос» дадаистов и сюрреалистов 1920-х годов, непосредственных литературных предшественников экзистенциализма. Сартр был в большей степени озабочен определением своих философских предшественников (Гегеля, Гуссерля, Хайдеггера); он также воспринял идеи Фрейда, ответвившегося от линии Брентано и имевшего широкий коммерческий успех на писательском рынке (вне сферы художественной литературы); на этой основе Сартр создавал свою версию экзистенциального психоанализа[3]; в 1952 году Сартр также превратил романиста и драматурга Жене в экзистенциалистского «святого». Драмы Сартра и Камю 1940-х годов, в аллегорической форме выражавшие призывы к мятежу в период нацистской оккупации, стилистически продолжали традицию модернистского театра, начатую в 1920–30-х годах Пиранделло и Ануем; позже в 1950-х годах в этот ряд вошли пьесы Беккета и Ионеско под общим, в духе Камю, обозначением «театр абсурда». В литературе экзистенциалисты шли по хорошо проложенному пути. Идеологизируя ситуацию с помощью своей философии, они маскировали общий социальный знаменатель этого движения. Поза отчуждения, описываемая ими в качестве своей традиции, возникала в связи с появлением независимого писательского рынка. Можно быть уверенным, что отнюдь не каждый ориентированный на рынок писатель передавал <читателю> мировоззрение, основанное на ценностях, присущих чувствительному творческому интеллектуалу; Скотт, Бальзак и Диккенс разрабатывали жилу литературной популярности, связанную с красочной развлекательностью, и выдавали новые романы с той скоростью, с какой могли их писать. Эти различия отражают раскол писательского рынка на две части, возникший после упадка традиции патронажа: между работой «высоколобой», или «высокоутонченной» («highbrow») литературной элиты, творящей согласно собственным стандартам, и произведениями «среднеутонченных» («middlebrow») авторов, которые предназначают свое творчество среднему классу, выдерживают морально респектабельный тон, умеренно реформистски настроены в политической сфере, но при этом еще и развлекают досужую аудиторию[4]. То были именно ориентированные вовнутрь, на собственное сообщество, профессионально самодостаточные писатели, которые составили линию «метафизического бунта». Камю описывает именно историю интеллектуальных движений в кругу данной элиты, успешно воспринявшей эстетический идеализм, романтический индивидуализм и пессимизм, эстетство в духе идеи «искусства для искусства», характерное для технически изощренного формализма и символизма, а еще позже — жесты в стиле Оpater-le-bourgeois дадаистов и их последователей. В экономическом плане авторы «высокоутонченного» направления редко оказывались в состоянии жить на доходы от литературного рынка. Это положение еще более усугубляется там, где писатели обращаются вовнутрь и замыкаются в кругу своих профессиональных связей в сети равных себе; при этом аудитория, которой единственно дозволено устанавливать стандарты эстетического суждения, составлена из других элитарных авторов. Такая элита может выжить лишь при наличии внешней финансовой поддержки. Иногда это случается при «контрабандном» попадании авангардных материалов в работы, предназначенные для «среднеутонченного» рынка; такова одна из причин преклонения перед Достоевским, который непреднамеренно осуществлял соответствующее смешение, делая предметом обсуждения бунтарски настроенных русских интеллектуалов своего времени. Сходным образом в 1930-х годах восхищение французских интеллектуалов досталось Хемингуэю благодаря сочетанию в его книгах приключенческой истории, сурового стиля и квазиметафизической кодовой системы смыслов. Чаще элитарные авторы живут благодаря покровительству, иногда в форме «самопатронажа» в качестве богатых наследников (Флобер и Пруст), усиливая тем самым представление художника о себе как об истинном аристократе. Некоторые элитарные авторы заняты еще какой-то дополнительной работой (Бодлер был журнальным критиком, Т. С. Элиот — банковским клерком), презрение к которой обычно входит в тему отчуждения художника от обыденного мира коммерции, неспособного поддержать его искусство. Другой обычной внешней нишей является работа на академических преподавательских должностях, что бьет по самомнению писателя, подчеркивая контраст между бюрократической рутиной и свободой, творческой экзальтацией, предлагаемыми писательским рынком в качестве конечной награды. Чаще всего в этих случаях происходит экономический крах[5]. Это приводит к появлению образа художника, голодающего на своей мансарде, готового скорее закончить свою юную жизнь самоубийством, чем вернуться в обыденный мир. Фактически же большая часть «высокоутонченных» авторов (а возможно, и«среднеутонченных») занимались чистым писательством лишь в течение краткого эпизода в юности, как, например, Рембо с 17 до 19 лет, после чего экономические реалии заставляли их возвращаться к обычному жизненному пути. Лучшие шансы для успеха элитарных писателей существуют там, где множество честолюбивых авторов и тех, кто занимается творчеством лишь наряду с основной работой, образуют некое сообщество. Абсолютный размер такой аудитории является решающей переменной для того, чтобы получилась критическая масса поддержки по меньшей мере нескольких ориентированных на техническую изощренность эзотерических авторов — поддержки, позволяющей им продолжать свои труды. Именно Париж стал таким современным архетипом. Вырастая в течение нескольких поколений, эта поддержка в Париже достигла своей критической массы (возможно, уже к 1830-м годам) благодаря пересечению различных интеллектуальных сообществ; к этой сфере относятся: концентрация честолюбивых студентов, еще не прошедших отбор в лицеи через состязательные экзамены, общенациональные газеты и журналы, профессионалы и начинающие в музыке и изящных искусствах[6]. Это массовое скопление интеллектуальных честолюбцев вместе с неудачниками, еще не отказавшимися от своего «высокоутонченного» самосознания, а также от сетевых контактов с деловой жизнью (бизнесом) культурного производства, — все это составляло особый локальный рынок, поддерживающий жизнеспособные карьеры немногих чисто интеллектуальных творцов, чьи судьбы становились символами для остальных. Такова была рыночная структура, в которой кружок Сартра составил краткий эпизод высокого творчества, объединявшего философию и литературу. [Из главы 14] * * * Слабость моей книги в этом отношении, как я надеюсь, вдохновит ученых, более компетентных в интеллектуальной истории России, провести сетевой анализ развития соответствующих пространств творческого внимания. Моя собственная трактовка роли Бакунина, Герцена, Тургенева, Чернышевского, Писарева и Достоевского — это лишь слабый и, вероятно, не вполне адекватный набросок некоторых русских связей, воспринятых в Западной Европе. Можно было бы гораздо больше написать о положении таких фигур, как Чаадаев, Хомяков, братья Киреевские, Леонтьев и Соловьев в соответствующих поколениях. Происходит замечательный всплеск творчества в начале XX века, включающий такие фигуры, как Шестов, Франк, Бердяев, Булгаков, Лосский, Лосев, Павлов, Выготский, Лурия и другие. Похоже, что российские интеллектуальные сети были в значительной мере реорганизованы в результате университетских реформ, произошедших на переломе XIX и XX веков (особенно реформ, начавшихся в 1889 году и связанных с расширением учебных программ). В XIX веке при царской цензуре российских интеллектуалов в первую очередь поддерживала роль журналиста-критика и романиста, укорененная в расширявшемся рынке книгоиздания; результатом данного обстоятельства было то, что в тот период русская литература служила своего рода движителем философских и политических идей, замаскированных и вмещенных в литературную форму. В других случаях мировой истории реформа системы образования, а особенно уход университетов от прямого религиозного управления и контроля, приводили к существенной перегруппировке интеллектуальных сетей и всплеску творческого производства идей. Я бы предположил, что сходный сдвиг в основах интеллектуального производства привел к значительному творчеству во множестве областей, которое в начале XX века имело место в сетях вокруг российских университетов. Случай, представляющий особенно большой интерес для дальнейшего социологического анализа, — это движение, которое позже в XX веке стало известно на Западе как «русские формалисты». Во французской и более поздней англоязычной семиотике и теории литературы этим собирательным именем обозначались несколько кружков, составивших некую сеть в десятилетия между 1900 и 1930 годами; таковы футуристы вокруг Маяковского и Хлебникова; творчество этого движения подвергалось критическому анализу петербуржским «Обществом изучения поэтического языка» (ОПОЯЗ), включавшим Виктора Шкловского, Юрия Тынянова, Бориса Эйхенбаума и Осипа Брика; затем последовало соперничество с Московским лингвистическим кружком, связанным с европейскими движениями благодаря ученикам Гуссерля и Соссюра и включавшим Романа Якобсона, Григория Винокура и Бориса Томашевского. Позже эта группа вошла в Московскую государственную академию; в конце 1920-х годов были выполнены весьма влиятельные работы Михаилом Петровским и Владимиром Проппом. В тот же период в Ленинграде, — что продолжило старое соперничество между Санкт-Петербургом и Москвой, — возникла группа антиформалистов, соединявших темы марксизма с идеями психологии Выготского; особенно Михаил Бахтин и Павел Медведев подняли некоторые формалистские техники на новый уровень рефлексивной изощренности. Таким образом, оказывается, что в основе данного всплеска интеллектуального творчества в России также действует социологическая модель соперничающих групп, соединенных сетями в некое пространство внимания, а также формирование новых позиций из этой структуры соперничества. Темой, весьма достойной изучения, является характер переоткрытия данной работы вне российского интеллектуального контекста в 1950-х годах и последующие годы, когда в Париже росли структуралистское и семиотическое движения, а также последующий экспорт идей «русских формалистов» в университеты англоязычного мира. Отношение между российскими интеллектуальными сообществами и Западным миром — время от времени включавшее и изоляцию, и заимствование, и экспорт идей, — составит весьма плодородную почву для изучения новыми поколениями социологически ориентированных исследователей. [Из предисловия к русскому изданию] * Фрагменты из книги: Collins Randall. Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. Harvard Belknap Press, 1998. 1100 p. Печатается с любезного согласия автора. Русский перевод книги выйдет в 2002 году в издательстве «Сибирский хронограф». [1] The Encyclopedia of Philosophy. New York: Macmillan, 1967. Vol. 7. P. 258. [2] Lindenfeld David F. The Transformation of Positivism: Alexius Meinong and European Thought, 1880–1920. Berkeley: University of California Press. P. 115–116. Эренфельс также был страстным вагнерианцем, входившим в вагнеровскую сеть (тем самым косвенно связывая Кафку с Ницше), и другом приемного сына Вагнера — социал-дарвиниста и расиста Х. С. Чемберлена. Почувствовав неприятие антисемитизма в окружении Кафки, Эренфельс продемонстрировал свой склад ума и темперамент, заключив, что решением проблемы расовой деградации была бы сексуальная жизнь по принципу свободного скрещивания посредством полигамии. [3] Лакан, член литературного кружка Сартра 1940-х гг., стал ведущей фигурой 1970–80-х годов благодаря проведенному в дальнейшем синтезу психоанализа и литературной теории. [4] Тогда уже существовала еще одна литературная ниша, обеспечивавшая «неутонченное» («узколобое» — lowbrow) развлечение рабочего класса, но это направление никогда не было престижным среди интеллектуалов. В рыночных условиях Нового времени и современности приверженцы «высокоутонченного» рынка смешивали все культурные ингредиенты согласно своим собственным стандартам, при этом очерняя писания, ориентированные на аудиторию среднего класса, представляя эти тексты как неотличимые от дешевых романов ужасов. [5] Данные нашего времени также свидетельствуют о том, что большинство профессиональных писателей имеют очень малый доход и живут за счет занятости на других работах; лишь весьма малая группа может обеспечить себе достойную жизнь на доходы от писательства (Kingston Paul and Jonathan R. Cole. The Wages of Writing. New York: Columbia University Press, 1986). [6] При достижении критической массы значительное производство авангардных произведений вместе с ощутимой социальной средой, в которой внутренне сосредоточенные группы обеспечивают высокое признание интеллектуальных ценностей, превращает такой центр в Мекку для приезжих из-за границы. Города, достигшие критической массы на локальном уровне и ставшие интеллектуальными центрами в своей языковой зоне, — Лондон, Санкт-Петербург, Вена, Нью-Йорк, Сан-Франциско — обычно привлекали приезжих лишь из провинций соответствующих стран. Это относится и к Парижу: из провинций приезжали многие честолюбивые французы, такие как Рембо. Но только Париж стал международным центром, привлекавшим интеллектуалов-литераторов: немцев, таких как Гейне и Маркс в 1830–40-х гг.; русских, например Тургенева и Герцена в 1850-х гг.; уругвайца Изидора Дюкаса, публиковавшегося под французским псевдонимом Лотреамона в 1870-х гг.; поистине нескончаемого потока американских и британских писателей в 1920-х гг., не говоря уж об испанцах (Унамуно, Пикассо), латиноамериканцах и русских эмигрантах. Следует отметить, что в Германии существовала меньшая литературно-географическая концентрация, чем в других языковых зонах. В немецком интеллектуальном производстве университеты со времени реформирования сохранили свое господство, и это поддерживало децентрализованную сеть конкуренции, примерно с двадцатью центрами. Иностранные стажеры не стремились в какой-то один центр в Германии, но перемещались по всей этой системе. |