Московский университет в XVIII веке
Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2002
Очевидно, что в наши дни успех высшей школы, а значит и фундаментальной науки, является ключом к сохранению для России статуса цивилизованного государства. Эта ситуация парадоксальным образом сближает нас с той, которая сложилась в России ХVIII века, когда благодаря петровским преобразованиям страна постепенно входила в сложившееся к тому времени единое европейское культурное пространство. Ни одно национальное государство уже тогда не могло обойтись без полноценной интеллектуальной элиты, без людей с университетскими степенями, т. е. — без своего собственного университета.
Университетская жизнь в России (в отличие от большинства европейских стран, где она складывалась самопроизвольно, независимо от каких-либо внешних воздействий, на протяжении столетий) прагматически организовывалась государством по образцу европейских университетов. Учрежденный в 1755 году указом императрицы Елизаветы Петровны Московский университет стал первым российским национальным университетом. Тогда, во второй половине ХVIII века, закладывался «генофонд» всей системы образования, черты и традиции которой мы ощущаем и по сей день. Шло медленное, но неуклонное развитие собственной жизнеспособной модели системы образовательных учреждений.
Университеты всегда оказывали огромное влияние не только на науку и образование, но и на политическую и социальную жизнь страны, на культуру в широком смысле и экономику. Роль, которую Московский университет стал играть в российском обществе, была исключительной, она сразу же переросла роль учебно-научную. Университет стал источником распространения новых идей, ценностей, культурных навыков. Но все это происходило в старой Москве, городе традиционном по своей сути. Именно поэтому интересно рассмотреть этот институт науки в соотнесении с социальным и культурным контекстом: ведь университет формировался на протяжении второй половины ХVIII века под воздействием вполне конкретного физического окружения, традиций, культурных контактов, наконец — менталитета участников процесса, определявшегося их происхождением, судьбой, а значит — всем предшествующим ходом истории. И именно поэтому так важно сейчас, когда школа постсоветской России находится в стадии поиска новых форм и путей развития, переосмыслить историю нашего образования, неслучайность, культурную обусловленность и историческую предопределенность многих ее черт.
Университетские здания
В середине XVIII века Москва в целом еще сохраняла облик старинного русского города — «от староманерных деревянных строений, лениво и капризно тянущихся на далекие расстояния, до быта и нравов жителей». Основанный в 1755 году, Московский университет оказался погружен в эту среду. Большую смысловую нагрузку нес сам выбор расположения его в городе — в общественно значимом месте Москвы, старом просветительском «локусе», уже связанном с идеями науки Нового времени. Первое здание университета располагалось в Аптекарском доме, на пересечении Никольской улицы с Красной площадью.
Символичны и близость к Кремлю, и расположение рядом с Никольской — традиционным средоточием «книжной мудрости» и прибежищем ученой традиции древней Москвы, восходящей к ХIV–ХV векам, и то, что первое местоположение университета генетически восходит и к просветительскому учреждению нового типа — аптеке.
Постоянное соседство, связи двух учреждений — университета и аптеки — вроде бы случайны, но возникают вновь и вновь: вспомним, что и нынешний Аудиторный корпус (где располагается журфак МГУ) — это тоже бывший Аптекарский дом, принадлежавший позднее Пашковым. Аптека в петровское время была учреждением, воплощавшим начало преобразований. Связь, кажущаяся метафизической, вполне объяснима: в ХVIII веке аптеки представляли собой своеобразные научные центры, единственные владельцы химических лабораторий, где вызревали начатки химии, физики и ботаники. При московской Аптеке в свое время имелась «кладовая лекарственных трав, лаборатория, библиотека и помещения для доктора и аптекаря».
Университету была выделена одна из лучших казенных построек Москвы. «Это — прекрасное здание, довольно высокое и с красивой башней на передней стороне», — писал об Аптекарском доме на Воскресенской площади путешественник голландец де Бруин. «Она поистине может считаться одной из лучших аптек в мире» — это мнение датского посла Юста Юля, посетившего Москву в 1710 году. Однако со времени написания этих строк прошло уже более 40 лет. К открытию университета здание пришлось спешно ремонтировать (на капитальный ремонт университетского здания денег, как и позднее, не хватало). Его состояние стало внушать опасения уже в 1757 году: дом быстро ветшал, треснула одна из стен. К тому же характер внутреннего пространства здания, построенного в другую эпоху, не соответствовал характеру учебного заведения нового типа. Но уж очень эффектно смотрелась башня у стен Кремля! Парадные покои были оформлены не без роскоши. Об этом свидетельствует одно из чудом сохранившихся полотен масляной живописи — аллегорическая композиция «Астрономия» кисти А. И. Бельского (1756), на которой муза — покровительница астрономии — изображена у карты звездного неба.
В здании насчитывалось до 20 внутренних помещений («полат»). Оно вместило практически все университетские подразделения: библиотеку, «физическую камеру», анатомический театр, минералогический кабинет, химическую лабораторию. В документах упоминаются «большая» и «малая» аудитории. Рядом, над Воскресенскими (сегодня — Иверскими) воротами, помещались типография и книжная лавка с бумажным магазином. В здании шло чтение лекций, работала администрация, велось свое хозяйство. Казеннокоштные студенты жили здесь же, в длинных залах — «камерах». Так уже первое помещение университета вместило в себе зародыши всех подразделений (они разовьются и развернутся впоследствии).
Еще в 1755 году для нужд университета наняли, а затем и купили бывшую усадьбу князя П. И. Репнина на углу Моховой и Никитской улиц. Место понравилось, и вскоре начался «переход» университета на Моховую (окончательно университетский комплекс складывается уже в правление Екатерины II). Репнинский дом стал главным университетским помещением до постройки известного здания М. Казаковым. Он стоял торцом к Никитской улице, частично занимая место теперешнего главного корпуса. Вокруг располагались деревянные здания и службы, каменные и деревянные флигели.
Но университет рос, и к 1770-м годам и репнинский дом оказался тесен, «строением недостаточен». В 1775 году профессора подали в Сенат записку «О недостатках и нуждах Московского университета». По их мнению, наилучшим выходом было бы «построить дом вне города Москвы, однако по близости оного, например на Воробьевых горах». В желании перенести университет на окраину, в предместье, авторы проекта исходили из просветительской концепции идеального места: окраина связывает человека, с одной стороны, с природой, откуда он черпает духовные и физические силы, с другой — с городским миром, где он может «выполнять свои гражданские обязанности».
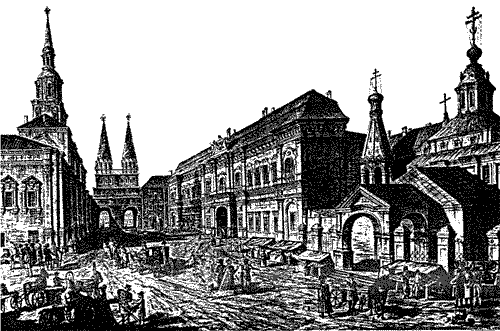
Акварель мастерской Ф. Я. Алексеева. Начало XIX века. Вид на Воскресенские ворота со стороны Красной площади.
Будь этот план осуществлен в те годы, на Воробьевых горах оказался бы сконцентрирован автономный, самодостаточный комплекс, фактически аналогичный исследовательским центрам типа Кембриджа, Оксфорда, Гейдельберга.
В 1950-е годы университету все же пришлось двинуться в «предместье», но с переводом естественных и точных факультетов на Ленинские горы было утрачено единство университета. Это положение усугубилось еще позднее, с разделением факультетов на естественные и гуманитарные. Проректор МГУ Е. М. Сергеев писал: «…Мы допустили ошибку и невольно создали два университета, потеряв при этом преимущество, свойственное университетам вообще и, в частности, Московскому университету — тесную взаимосвязь между разными науками»[1]. Недаром ведь Московский университет на протяжении ХVIII–ХIХ столетий пытался «собирать» и прикупать к владениям на Моховой лежащие рядом участки, соединяя их в университетский квартал и расширяя университетское культурное пространство.
Итак, университету суждено было остаться на Моховой, где и было возведено здание, ставшее его олицетворением. Оно должно было соответствовать той роли, какую просвещенное самодержавие отводило университету в своем «архитектурном театре» — Москве.
В 1779 году неутомимый патриот Московского университета куратор Иван Иванович Шувалов, недавно вернувшийся после 14-летнего пребывания за границей, в очередной раз подает императрице представление о нуждах Московского университета, в очередной же раз подчеркивая, что тот перерос старое здание. Университету было пожаловано 15 000 рублей на покупку нового дома (владение князей Барятинских). На новых участках строятся флигели и хозяйственные постройки. Оранжереи князя Барятинского становятся ядром университетского ботанического сада. И в это же время (когда занятия в Репнинском доме продолжаются) уже возводятся боковые крылья «нового здания» университета.

При выборе архитектора императрица предпочла Матвея Федоровича Казакова, талантливого ученика великого Василия Ивановича Баженова. Здание Московского университета, строившееся в 1786–1793 годах, было задумано как общественное здание нового типа, органично включенное в ткань старой городской застройки. Вид казаковского здания отличался от того, что мы видим сейчас, после переделки его Д.Жилярди в стиле московского послепожарного классицизма. Классическая постройка Казакова имела сложный, деликатный рельеф стен с тонкой игрой мелких выступов и западов. Здание было построено из красного кирпича с белокаменным декором.
Подчеркнем: здание несло на себе печать «державной мифологии». В екатерининское правление в России сложилась ситуация жесткого контроля за архитектурой, порожденная желанием ввести Россию в «круг» европейской цивилизации за максимально короткий срок. Архитектурное решение такого здания, как университет, должно было оказывать огромное впечатление как на обитателей здания, так и на жителей города. Обращаясь к смысловым значениям, которые несут на себе архитектурные формы казаковского здания, следует учитывать господствующую в тот период общую систему представлений и идей, культурно обусловленных в своем большинстве ассоциаций. В основе проекта лежала идея «Храма науки» — имеющего торжественный, триумфальный характер, одного из главных композиционных центров города, находившихся под крылом Кремля. Она отражала официальный взгляд на университет и его задачи: воспитать просвещенных и сознательных подданных путем создания «премудрых учреждений».
Однако постройка впервые проектировавшегося специально для высшего учебного заведения здания не могла не воплотить и взгляды самого создателя-архитектора. М. Ф. Казаков начал работать над поисковыми проектами главного здания университета в конце 1770-х — начале 1780-х годов. Достаточно просторные залы, светлые комнаты с высокими потолками и особенно торжественное пространство центральной ротонды — Актового зала университета, вероятно, должны были оказывать на воспитанников большое впечатление, рождать чувство благоговения перед «храмом науки», вызывать ощущение попадания в новый мир познания. Античный классицизм тогда более всего соответствовал «требованиям патриотического долга, возвышающегося над всем личным и особым, требованиям разумной ясности, гармонии и меры»[2]. В казаковском проекте здания университета — воплощении «храма мудрости» — доминирующую роль играла ротонда знаменитого круглого зала, «апсида» которого была как бы алтарем, на который ученые приносили плоды своих трудов. Эту напрашивающуюся аналогию можно считать проявлением принципиально нового для России религиозно-философского подхода к знанию, отражавшего взгляд на науку как на святое, не только «благородное», но и богоугодное дело. Недаром в Актовом зале университета, в этом «святом месте», не устраивалось ни спектаклей университетского театра, ни маскарадов, ни танцев. Здесь проходили только торжества университетских праздников и церемонии награждения отличников.
Предполагавшаяся по «Прожектированному плану» Москвы 1775 года площадь, на которой должно было доминировать здание университета, не только давала ему простор, но и связывала с Кремлем. Этот проект был полностью осуществлен только в ХХ столетии: до тех пор пространство оставалось застроенным низкими деревянными зданиями купеческих дворов, торговых рядов и лавок. В советское время Манежная площадь раскинулась, очищенная от построек, университет и Кремль вновь «смотрели» друг на друга. Но после сооружения на ней известного комплекса по проекту З. Церетели Манежная вновь потеряла свое пространство.
Университетское пространство
Итак, Московский университет переживал период становления не только как центр университетской науки России (о чем написано довольно много трудов), но и как один из важнейших культурно-исторических организмов города. Жизнь студентов, учеников университетских гимназий, профессоров и преподавателей, вспомогательного персонала протекала в рамках города с его традиционными устоями. Работа, учеба, быт, вся повседневность университетской публики, определявшаяся связями с Университетом и его подразделениями, в большой мере проходила в той городской среде, которую мы условно назовем «университетским пространством», понимая его как сферу одновременно протекающих материальных и интеллектуальных процессов. Центром всей деятельности был сам университет с его учебно-научной деятельностью. Но к «университетскому пространству» относятся, на наш взгляд, не только собственно здания университетского комплекса, учебные корпуса с их внутренним устройством, подсобными помещениями, клиниками, ботаническими садами, но и административные здания. В это пространство входит, разумеется, и университетский Благородный пансион, неотделимый от университета, и все же — не случайно! — пространственно отделенный. В него входят университетские общежития «казеннокоштных» с их особенным интерьером и атмосферой, комнаты и квартиры, снимаемые студентами в городских домах, а также частные квартиры преподавателей университета, где содержались ими частные пансионы, где проходили приватные лекции и занятия, собрания неформального характера. В университетское пространство можно включить и некоторые московские дворянские дома и особняки, куда («в свет») стали выводить университетскую молодежь ее высокие покровители типа Михаила Матвеевича Хераскова; трактиры, харчевни и кофейни, притягивавшие университетский люд попроще, и т. д. Сюда входят и книжные лавки (университетская и городские, привлекавшие университетскую публику).
Связь университета и города — это особая тема. Важно подчеркнуть, что обитатели университетского пространства были плоть от плоти города: на переднем дворе университета играли в свайку; на Святой неделе «для забавы» обычно ставились веревочные качели. Ритм жизни обитателей университета и горожан структурировался литургической обрядностью, единой традиционной системой церковных и народных праздников. На Святках и на Масленой в университете, как и во всей Москве, устраивались театральные представления и маскарады— властвовала карнавальная культура.
Университет пытался обособиться как самообеспечивающийся комплекс. Своей патриархальной замкнутостью он напоминал городскую усадьбу конца ХVIII — начала ХIХ века, причем не только пространственными формами (П-образным планом), но и всей организацией.
При университете жила обслуга (сапожник, портной, кухарки, прачки, слуги «при столе» и др.). В здании имелись комнаты «для педеля, привратника, караульных сторожей и прачек» — на нижнем этаже и во флигеле, «кухни и хлебные погреба», «кладовая для денежной казны и проч». Полуподвальный этаж и позднее продолжал использовался для хозяйственных и служебных помещений, там помимо складских помещений была казарма для семей служителей университета.
Контингент этой обслуги в ХVIII веке был постоянен — университету служили целыми семьями (в документах упоминается «кухарка, жена одного из университетских солдат»; известно, что «в больнице проживали трое солдат с их женами-прачками», что студентов обстирывали жены сторожей и т. п.). Подобная организация быта, впрочем, характеризует и другие крупные правительственные учреждения России конца ХVIII — начала ХIХ века.
На территорию допускались лишь разносчики съестного — хлебники, сбитенщики, яблочники, а также особые разносчики пудры, помады и прочего (это были «известные», т. е. постоянные, разносчики: даже здесь проявляется патриархальность и размеренность повседневной жизни). Существовала своя поварня, университетская харчевня. Руководители — правда, безуспешно — хлопотали и о заведении своей «деревни для стола» (разумеется, со своими крепостными крестьянами). Интересно, что все типографщики, переданные университету для работы в университетской типографии с 1755 года до начала ХIХ века (и жившие в Бутырской слободе), по традиции находились «как бы в крепостной зависимости» от университета. Это могло быть только в России.
Университет старался по-возможности оградить студентов от влияния нецивилизованного окружения (беспокойство о порче нравов воспитанников, остающихся под определенным влиянием города, пронизывает документы). Стремление к изоляции воспитанников «премудрых учреждений» эпохи Просвещения от грубости нравов традиционной среды лежит и в русле общих педагогических идей эпохи Просвещения.
Но сама логика университетской жизни диктовала другое. Университет жил открыто, сея навыки нового, цивилизованного быта. Публичные действа, связанные с функционированием университета — торжественные церемонии и ученые торжества, открытые диспуты, где студенты должны были полемизировать в присутствии зрителей, лекции с демонстрацией физических опытов, процедуры награждения отличников и т. п. — все это нетрадиционные, новые по сути своейритуалы, которые играли особую роль в усвоении населением города нового культурного опыта. Постепенно в него втягивались и горожане, переходя от незнания, удивления и любопытства — до включенности в новую культурную деятельность.
Университетский театр стал общедоступным (университетская труппа фактически эволюционировала в сторону публичного городского театра). Библиотека университета стала первой публичной библиотекой Москвы. Коллекции приборов и устройств, минералов, окаменелостей, засушенных растений (naturalia и artificialia, как их называли в ХVIII веке) выступали не только в качестве учебных пособий, атрибутов «научной деятельности», но и декорацией, фоном публичных действ — и образцом для подражаний. Коллекционирование в целом во второй половине ХVIII века становилось модным изящным занятием аристократии, «игрой в науку». Коллекции, доступные для общества в дни университетских торжеств, постепенно приучали публику взирать на них с новой, «просвещенной» точки зрения. Физические лекции с демонстрацией эффектных опытов были публичными, их посещали даже знатные дамы («…Феномены силы электрической, гальванизма, опыты аэростатические и проч. сами по себе столь любопытны, и Господин Страхов изъясняет их столько хорошо, столь вразумительно, что публика находит отменное удовольствие в слушании его лекций»). Кроме физического были и другие публичные курсы, которые строились на показе университетских коллекций.
Хочется отметить роль университета в издании газеты «Московские ведомости», которая, строго говоря, была не университетской газетой, а первым московским официальным печатным органом. Однако уже само присутствие «грифа» университета на официальной газете повышало его статус в обществе. Участие в качестве редакторов издания московских профессоров и их помощников — студентов университета, а также постепенное изменение «репертуара» придавали газете особый характер, делая ее каналом культурной информации, формой легитимизации науки и способом культурного влияния на общество.
Простое перечисление всех порожденных университетом просветительских феноменов (кабинетов и театра, лаборатории и обсерватории, библиотеки и типографии и т.д.) показывает, какое огромное значение имел университет в культурной жизни Москвы нового времени. «Тихонько, мало-помалу» (слова И. И. Шувалова) он становился неотъемлемой частью духовной сферы московского общества.
Организаторы
С основанием университета неразрывно связано имя Елизаветы Петровны, в царствование которой он и возник, поначалу даже называясь «елизаветинским». В эту эпоху появляются элементы нового облика государства, подходы к идее правовой политики, крепнут просветительские тенденции. Своеобразный национальный подъем, плоды которого Россия начинает пожинать в годы правления Елизаветы Петровны, привел к «подвижкам» в сознании части общества (и прежде всего дворянства). Здесь находим смешение самых противоречивых черт: легкость придворных нравов соседствует с набожностью; активность и жизнелюбие — с полной оторванностью от жизненной реальности. Одно из новшеств, которые принесла затронувшая Россию новая эпоха — европейское Просвещение с его верой в могущество знания и культом умственных наслаждений. Оно было вовсе не ново для Европы — ведь она пережила в свое время эпоху Возрождения, которой Россия не знала.
К этому времени в Российском государстве созрел сложный набор социальных, экономических, политических и культурных условий, которые позволили, с одной стороны, укорениться самой «импортируемой» идее университета, а с другой — соединиться двум таким разным фигурам, как Михаил Васильевич Ломоносов и Иван Иванович Шувалов. Становится ясным, что только совместные усилия этих двух совершенно разных людей, представителей разных сословий, смогли увенчаться успехом в деле создания университета.
План создания Московского университета вынашивался постепенно. Первый вариант проекта писал М. В. Ломоносов, а перерабатывал И. И. Шувалов. Шувалову принадлежит окончательная редакция проекта Московского университета (из 45 пунктов Ломоносов осветил три, хотя и весьма существенные). Весной 1753 года Шувалов и Ломоносов встречались в Москве (Шувалов с двором пробыл там более года, Ломоносов же ездил по делам мозаичной фабрики). Тогда, вероятно, и было выбрано для университета здание Главной аптеки у Воскресенских ворот на Красной площади — одна из красивейших казенных построек тогдашней Москвы. Шувалов же стал автором докладной записки в Сенат (от19июля 1754 года). Свои представления об университете Шувалов реализовывал потом в ордерах по университету в первые годы его существования, а также в проекте реформирования университета 1783–1786 годов.
И.И.Шувалову отдавали должное в основном дореволюционные исследователи; что касается советской историографии, то она отводила камергеру роль реакционера и прислужника самодержавия. Незаурядная личность И. И. Шувалова вновь начала привлекать внимание исследователей сравнительно недавно. А между тем его роль очень важна: верховный покровитель Московского университета на протяжении нескольких десятилетий, он во многом определил лицо учебного заведения. Эта фигура выводит нас на проблемы государственного патронажа науки, взаимоотношений научного сообщества и общества в целом.
Известно, что ХVIII век характеризовался многоступенчатостью властных структур, сложностью приводного механизма культурной политики того времени. Именно поэтому для университета так важен был институт кураторства, обеспечивавший прямое подчинение университета императорской власти. Возникший в России по воле государства, университет имел особую юрисдикцию, и главной его привилегией считалось собственное покровительство императрицы. В известном проекте Ломоносова — Шувалова выдвигается условие: чтобы «в рассуждении внутренних своих распоряжений [университет] не зависел ни от какого другого правительства». В российских условиях это была высшая степень независимости.
С точки зрения современной ситуации для нас важна роль индивида в условиях культурного «слома». Изучение истории России ХVIII века в плане культуры дает возможность поразмышлять о поведенческом выборе культурного политика, посмотреть, как он интерпретирует традиционные идеалы в конкретных жизненных ситуациях, вступая в конфликт с традицией и выдвигая новые жизненные ориентиры. Неслучайно в исторической науке последних десятилетий проявилась тенденция изучения возможностей для индивида влиять на ход истории, в том числе способствовать порождению ее альтернативных вариантов в переломные периоды истории.
Фигура И. И. Шувалова на первый взгляд выглядит феноменом своего времени. Любимец императрицы, фаворит, находившийся в исключительном положении, — говорим мы с одной стороны, с другой признавая, что фаворитизм был устоявшимся в ХVIII веке общественным институтом, видом кадровой политики. И.И.Шувалову были присущи неповторимые индивидуальные черты. (Необычность этой фигуры отмечали и его соплеменники, и французы, среди которых он жил 14 лет, будучи вынужден с приходом к власти Екатерины II покинуть Россию.) Но для нас важнее то, что этот человек — и остававшийся типичным представителем российского дворянства, и ставший частью новой интеллектуальной элиты, связанной с научной средой — был олицетворением перехода от традиционных представлений к этапу зарождения национальной науки в России. Именно противоречивые свойства личности И. И. Шувалова во многом обусловили особенности самой университетской корпорации.
В фигуре Шувалова воплотился тип времени. Это аристократ — «просвещенный покровитель» наук и искусств, осуществлявший патронаж науки в формах ХVIII столетия.
Дворянство в России середины ХVIII века в целом выступало в роли потребителя науки и культуры, понимая занятия ими в лучшем случае как развлечение и удовольствие. Невостребованность науки в России была следствием слабой тогдашней ее связи с жизненными нуждами: здесь еще не сложилось массовых производств, а значит, не было необходимости в технике, точных измерениях, стандартах. Все это отражалось на отношении общества к науке (тем более теоретическим ее основам).
Справедливости ради стоит сказать, что и в Европе наука середины ХVIII века находилась в стадии становления. В Англии она была в основном частным досугом богатых людей. Во Франции лишь начиналось складывание особого статуса подлинного «ученого» — т.е. человека, занимающегося научной деятельностью на оплачиваемой государственной службе. Заметим — это был особый статус, отличный от положения просто «образованного человека» прошлых эпох.
Для многих «просвещенных» европейцев наука становилась модным и романтическим делом, занятие ею — смесью любопытства и игры (в модных парижских салонах производились физические опыты, аристократы устраивали у себя cabinet de physique, увлеченные месмеризмом проводили индивидуальные и коллективные исцеления).
В России ХVIII века интересующийся естествознанием человек в целом имел репутацию чудака, а то и колдуна (вспомним слухи, ходившие о Я. Брюсе). К середине века, тем не менее, можно было найти вельможу, проявляющего любопытство к физическим опытам, владельца коллекции и библиотеки, но количество таких людей было очень невелико. И лишь к концу века — благодаря деятельности Академии наук и ее подразделений в Петербурге и университета в Москве — появляется новый тонкий слой профессионалов, интеллектуальная деятельность которых финансировалась государством. Ему предшествовал тип русского ученого-одиночки, получившего образование за рубежом и в силу своих способностей ставшего организатором науки и образования, как М. В. Ломоносов. Именно тогда начинал свою деятельность И. И. Шувалов. Насколько нетипичен был Шувалов в своих взглядах на науку и образование для своего времени, доказывать не приходится: «вечно с книжкой в руках» — эта редкая черта запоминалась в нем современникам.
Дворянское общество было нацелено на военную выслугу; в большой степени из-за этого предпочтение отдавалось примитивному в массе своей домашнему образованию (где господствовали гувернеры-иностранцы), в университете же впервые годы преобладали воспитанники из «неблагородных» сословий. А разночинец, даже с университетским образованием, не осознавался дворянством как «свой». Мысль о ценности образования нужно было еще внедрить в дворянские умы, и сделать это в сословной монархии можно было, например, через известный символ— шпагу, которая стала частью университетского мундира. Благородство, обеспечиваемое способностями, а не происхождением — таков смысл шпаги как части университетского мундира, который носили в университете все, в том числе и разночинцы. Для Московского университета эта деталь, разумеется, продумывалась самим куратором. (Собственно, ту же идею сформулировал Ломоносов: «Снабдить благородством неблагородных и тем отворить вход к благополучию дарованиям природным».) Университет — как особое место, где действуют иные критерии «благородства», где учение столь же почетно, столь же на благо России, как и военная служба — таким хотели явить университет россиянам его основатели.
На первый взгляд удивляет, насколько Шувалов, этот утонченный вельможа, мог вникать в самые мелкие детали быта и повседневной жизни учебного заведения (хотя административно-хозяйственные функции формально нес директор). Подобно любому рачительному помещику он, видимо, идентифицировал себя с «отцом», семьянином[3]. Именно он распределял «покои» дома у Воскресенских ворот. Позднее, получая подробнейшие письменные отчеты о делах из Москвы, Шувалов требовал постоянных сообщений о прилежании студентов, отбирал способнейших из них для посылки за границу, хлопотал о постройке новых зданий. Он продолжал вникать во все — вплоть до мундиров студентов. Неслучайно впечатление, что перед нами рачительный хозяин, который обустраивает свое личное владение (ведь в те времена дворянство в целом стояло весьма близко к жизненным проблемам своих поместий). И вряд ли мы преувеличим, если найдем в распорядительности Шувалова черты чисто феодального патернализма. Однако старый стиль руководства, который олицетворял собой Шувалов, вполне уживался в стенах университета с новейшими идеями Просвещения.
Близость к власти была чертой, становившейся необходимой для организатора науки. Двоюродные братья Ивана Ивановича в 50-х годах фактически возглавляли правительство. Это, как и личная близость куратора к императрице, — фактор, сыгравший огромную роль в обстоятельствах становления университета. Заметим, что и Мелиссино, и Ломоносов, и другие деятели были представляемы императрице Елизавете Шуваловым на балах. В том, что важнейшие организационные шаги предпринимались в неформальной обстановке, в такой форме, проявились и особенности положения Шувалова, и дух эпохи…
Роль просвещенного аристократа в системе науки Нового времени очень важна. Здесь история науки смыкается с историей социальных организаций и политической историей. Институт кураторства (попечительства) пронизывал все структуры общества. Попечителей «из числа сенаторов или других знатнейших особ» мы видим, например, при Смольном институте, Воспитательном доме. Вникнуть в нужды учебного заведения, донести их до императрицы и сенаторов и добиться взаимопонимания сторон — вот нелегкие функции вельможи-посредника. Как глава университетского суда куратор должен был быть не только покровителем, но и гарантом беспристрастного разбирательства конфликтов всех членов корпорации.
Еще одной функцией куратора была функция «эксперта». Шувалов ведь руководил Московским университетом, живя в Петербурге (как это ни парадоксально, он впервые посетил Московский университет лишь в конце 1770-х годов). При этом он периодически вызывал к себе в Петербург и преподавателей, и студентов.
Для просвещенного дворянина того времени были одинаково характерны широкий характер образованности и поверхностность знаний (как следствие первого): слишком серьезно заниматься наукой было «не по чину». И. И. Шувалов получил в детстве типичное для его слоя среднепоместных дворян образование. Впоследствии положение давало ему обширный досуг для чтения и возможности общаться с самыми образованными людьми своего времени. Но именно широта интересов и разносторонность вкусов (все это — типические черты «просвещенных покровителей наук и искусств» той эпохи) позволяли камергеру вникать и успешно решать самые различные проблемы университета.
Именно благодаря его увлеченности искусством удалось поставить на высокий уровень такие начинания Московского университета, как художественные классы (из которых выросла Академия художеств) и театр (университетская труппа фактически превращалась в публичный городской театр).
Собирание не только предметов роскоши, но и редкостей («древностей», минералов и пр.) только входило в моду. Россия постепенно воспринимала общеевропейские культурные тенденции того времени. На смену «примитивному» коллекционированию шли более совершенные, системные коллекции. И Шувалов в своих собственных приобретениях все более стремился к полноте собраний, к всеохватности коллекций (после возвращения его из-за границы шуваловский дом напоминал музей). Думается, это его увлечение сыграло роль в закладывании основы знаменитых кабинетов и коллекций Московского университета. Что касается большинства современников Шувалова того же уровня, то владение коллекциями было для них лишь статусным признаком. Но если как коллекционер Шувалов хотя бы относительно типичен (он был одним из первых), то нетипичен он в другом: своими приобретениями, сведениями о новых книгах он охотно делился с соотечественниками. И в этом видится его стремление не только слыть меценатом, но — быть истинным просветителем, приобщающим россиян к общеевропейским достижениям, мировым культурным сокровищам.
Отметим еще одну новую для середины ХVIII века черту русского «просвещенного» аристократа — склонность отыскивать людей с талантами, с охотой к учению — «из простых». Эта традиция восходит к появлению «крепостных интеллигентов», обычно использовавшихся дворянством для обслуживания усадеб (вспомним весьма распространенные крепостные театры, крепостных художников и пр.). Со временем утверждается традиция выкупать «таланты» из крепости, следить за их судьбою и помогать их становлению[4]. Внимание Шувалова к талантливым разночинцам известно.
Особый случай счастливого сотрудничества «просвещенного аристократа» с покровительствуемым им деятелем науки — разночинцем представляют отношения Шувалова с тем же Ломоносовым, который представлял совершенно иной тип «организатора науки» — практика (и был прямой противоположностью Шувалова по характеру). Общение Шувалова с советчиком по общеуниверситетским делам Ломоносовым имело большое значение. Вероятно, и сам замысел университета возник в их домашних беседах («Мы так привыкли к его звездам и лентам, к его раззолоченной карете…» — вспоминала о частых посещениях Шувалова племянница Ломоносова).
Сосуществование этих двух «типов» организаторов науки, их сотрудничество было плодотворным. С точки зрения организации университета бесценны были для Шувалова практические советы Ломоносова. Тот, получив образование в Московской духовной академии, а затем в заграничных университетах, прошел весь путь от ученика до руководителя академической гимназии, от подмастерья до ученого европейского уровня. Недаром перу Ломоносова принадлежит «Проект регламента московских гимназий» при университете (Ломоносов и сам настаивал, что проекты университетов должны составлять «люди, которые университеты видели, в них учились»).
Главной целью Шувалова было решение первоочередной проблемы — образование дворянства (неслучайно в списке профессоров философского факультета к написанному Ломоносовым «профессор истории» рукой Шувалова добавлено «и геральдики»). Иван Иванович, не считавший очень важными занятия физикой и химией (даже если ими занимался сам Ломоносов!), тем более не стремился развить опытные науки в университете и предложил слить кафедры философии и физики, назначив для их преподавания одного профессора. Иной принцип сокращения числа кафедр — заслуга Ломоносова, отстоявшего физику как особый курс. Ломоносов не мог не знать требований новейших европейских стандартов науки — имитировать природу в лабораторных условиях. Поэтому физический кабинет укомплектовывался с самого начала университета (недостающие приборы были заказаны в Голландии).
Нам известны планы Шувалова, относящиеся к 1757 году, химическую «лабораторию каменную строить». Но весьма вероятно, что и советы по организации химической лаборатории в Московском университете И. И. Шувалов получал непосредственно от М. В. Ломоносова (тому понадобилось шесть лет борьбы для осуществления своего проекта отдельной химической лаборатории в Петербурге).
Другой, появившийся уже в начале ХIХ века, тип организатора науки представлял, например, А. Гумбольдт, который подчеркивал особое значение научно-исследовательской функции университетов: он, сам будучи «универсальным ученым», руководил научными изысканиями и умело распределял большие исследовательские задачи среди своих учеников. Камергер же Шувалов едва ли мог в принципе серьезно думать о Московском университете как о центре прежде всего научном. Однако тем больше чести делает ему внимание к советам разночинца М. В. Ломоносова, который выступал именно как практик науки, прежде всего — как естествоиспытатель. Он постоянно проводил мысль о том, что университет предназначен для получения именно теоретических, базовых знаний (овладевать же мастерством в различных областях практической деятельности, получать специализацию можно было и после окончания университета).
Начиная «перестройку образования», как верный сын своего времени — века великих утопий, И. И. Шувалов верил в то, что силой разума, с помощью «премудрых учреждений» можно добиться быстрых преобразований в деле просвещения России. (На деле речь могла идти — как и сегодня! — о длительном процессе изменения ценностных ориентиров общества.) И как искренне переживал он, видя, сколь мало продолжает быть заинтересовано дворянство в образованности своих детей, предпочитая отдавать их в раннем возрасте на службу, как медленно продвигается наполнение университета дворянскими детьми, как никого не заботит судьба выпускников высших учебных заведений. В 1760 году с горечью писал он в донесении в Сенат: «…Странно и удивительно, что от время установления здесь учений, Россия желанного плода не имеет… С крайним сожалением представить должен, что успехи не соответствуют Императорского величества воле; многие тому препятства, которых я отвратить не в состоянии, если основание воспитания переменено не будет» (курсив мой. — И. К.). Как и в наши дни, занятие «науками» не сулило процветания выпускникам университета. Как нынче бизнес, так тогда — дворянская выслуга казалась (и была) более выгодной сферой деятельности. Беда в том, что юноши «принуждены натурально предпочесть счастие в происхождении нужному учению», писал Шувалов. Он видел два пути к решению проблемы: повышение статуса образования и науки, с одной стороны, и улучшение положения человека интеллектуального труда — с другой: «чтоб и штатским особливая была линия, и чтоб молодые люди, имевшие случай учиться, могли по склонностям избирать разные дороги».
Итак, перед нами — тип просвещенного государственника, для которого была незыблемой идея верноподданнической обязанности, а государство отождествлялось с личностью самодержицы. С этих позиций он и относился к университету. Просвещение было принято Шуваловым как теория, как руководство к действию. Близость же к власти (связь с императрицей, всемогущие братья) позволяла ему оперативно, в приватной обстановке проводить нужные решения. Редкие личные черты — природная мягкость характера, «толерантность», не раз отмеченные современниками, позволяли Шувалову «ладить» с самыми разными людьми, внося в отношения необычную для его круга теплоту.
Все эти качества отсутствовали, например, у другого не менее просвещенного мецената, А. Разумовского, ставшего попечителем Московского университета уже в начале ХIХ века (с 1807 года). О нем современники отзывались как о вельможе, который «заперся» в своем имении в подмосковных Горенках и «из познаний своих… сделал то же употребление, что из богатства: он наслаждался ими без всякой пользы для других». Неслучайно его репутация как покровителя Университета не шла ни в какое сравнение с репутацией Шувалова.
Нетипичными чертами куратора Московского университета И.И.Шувалова, формировавшими его жизненную стратегию (и «работавшими» на благо Просвещения), были восприимчивость к новому, щедрость, отсутствие амбиций. Собирание книг и произведений искусства не выливалось, как это часто бывает, в страсть к стяжательству, а меценатство не ограничивалось жаждой почестей. Богатые возможности фаворита императрицы (а они действительно были велики) побуждали скорее делиться, а не наслаждаться обладанием. К счастью, такие люди, как И.И.Шувалов, становились образцами нового социального поведения, и в российском обществе постепенно утверждались новые ценностные ориентиры— в частности, престижным становилось «философствование», меценатство, коллекционирование и пр.
Но главным, что отличало Шувалова, было понимание пользы образования и науки для России и их насаждение. Именно в этом он в своих действиях вышел за рамки, которые диктовал, казалось бы, его статус. Куратором двигало желание быть в курсе всех европейских новаций, чтобы иметь возможность приобщать к культурным достижением своих соотечественников, а значит реабилитировать в культурном отношении в глазах Европы саму Россию, сделав ее равноправным членом европейского культурного сообщества.
Шувалов был представителем зарождавшейся ориентированной на власть новой интеллектуальной элиты. Типичной чертой ее было следованиекультурным образцам поведения, основанным на новых, привнесенных из европейской культуры нормах. При этом куратор оставался в рамках российского быта. Для решения задач становления института науки в то время, в старой, традиционной еще культурной среде, именно этот тип, сочетающий в себе новые идеалы с неизжитыми чертами феодального менталитета, стал оптимальным, если не единственно возможным. Принадлежа равным образом и российской и европейской культуре и занимая особое место в деле просвещения, такие люди обеспечивали культурное единство России и Запада.
Объединения
Университет объединил пространственно людей, стоявших на разных социальных ступенях и на разных идейных позициях. Образ жизни и формы общения различных слоев университетской публики, разумеется, разнились, но не могли не подвергнуться взаимовлиянию.
Во второй половине ХVIII века в России, а в частности и в Москве, наблюдается появление черт нового образа жизни. Это касается прежде всего дворянского слоя: до сих пор общение семьями, усадебный быт были основными формами коммуникации. Теперь схемы повседневной жизни становятся другими: праздники, спектакли, беседы в салонах — эти формы общения лежат в русле салонных форм объединения людей, построенных как на личных и семейных связях, положении в свете и пр., так и на некоторой идейной общности.
Чем ближе к концу века, тем быстрее шло движение к формированию такого явления, как московская публика (понятие историческое). Николай Михайлович Карамзин писал о Москве: «Там без сомнения более свободы, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь, в Петербурге».
Новые формы интеллектуальной жизни и общения начинают появляться в Москве на просветительской основе, и именно в университетской среде обретают почву объединения нового типа. Прежде всего, это объединения литературного характера, связанные с развитием российского Просвещения в целом. Первые шаги в этом направлении были сделаны в Москве еще в 1757 году, когда под руководством куратора И. И. Мелиссино была предпринята не совсем удачная попытка создания литературного общества. Позднее Михаил Матвеевич Херасков стал инициатором литературного кружка, объединившего московских литераторов и часть университетских воспитанников на почве любви к поэзии.
Например, о знакомстве Хераскова и юного Богдановича В. Анастасевич вспоминал так: «Счастливая встреча! Пиит узнал пиита… записал его в Московский университет и дал ему пребывание в своем доме. Последнее важнее первого».
Эта среда культивировала тип человека, «презирающего внешние блага, углубившегося в самосовершенствование, в книги, проводящего жизнь среди высоких идей, окруженного избранными и не менее его добродетельными друзьями». В1760–1763 годах при университете под руководством Хераскова издавались литературные журналы, в которых участвовали университетские воспитанники.
В 1771 году И. И. Мелиссино вновь предпринял попытку создать официальное и представительное литературное общество. Оно называлось «Вольное Российское собрание» и ставило целью «исправление и совершенствование Российского языка» (в этом став предшественником появившейся позднее в Петербурге Императорской Российской академии). Помимо профессоров в общество входили «многие знатные особы и любители словесности». Среди целей было заявлено, в частности, рассмотрение сочинений, которые могли представить «все любители наук».
Говоря о новых тенденциях, находивших отклик в университетской жизни, прежде всего следует отметить и другие, неофициальные попытки сближения между учащими и учащимися на просветительской почве. Много нового принесло «новиковское десятилетие», время общественной и литературной активности. Тогда именно масонство становится формой организации и объединения «просвещенного» московского общества.
Николай Иванович Новиков, известный более всего как издатель, стремился сосредоточить вокруг себя в Москве приверженцев масонства благотворительно-христианского толка, склонных к общественно-благотворительной деятельности. Этим идеям сочувствовали просвещеннейшие люди Москвы, среди которых были, между прочими, и московский градоначальник, и его адъютант, и правитель канцелярии. Соединительным звеном между кружком масонов и университетом были И.Тургенев и М. Херасков (с 1778 года ставший университетским куратором). В так называемой «университетской ложе» (находившейся под покровительством кн. Н. Трубецкого) состояли многие профессора, студенты университета, ученики университетских гимназий.
Покровители кружка из числа состоятельных людей финансировали благотворительные мероприятия Новикова — школы, приюты, больницы и аптеки, раздачу лекарств беднякам, помощь голодающим крестьянам при неурожае.
На средства созданного Новиковым Дружеского ученого общества обучались многие юноши, в том числе и из университетских. И. Шварц, австриец по происхождению, с 1779 года ставший профессором Московского университета, особенно сблизился с Новиковым. Своим талантом преподавателя и ораторскими способностями он приобрел большую популярность среди слушателей: в сентябре — декабре 1782 года он читал особый курс «о трех познаниях: любопытном, приятном и полезном»; в 1782–1783 годах — эстетико-критические лекции о зарубежных литераторах. Будучи глубоко религиозным человеком, Шварц обличал пороки современного общества, считая масонство источником истинной нравственности. Своеобразная система представлений о законах Вселенной, об окружающем мире и роли в нем человека, приправленная долей мистики, сопряженная с нравственной проповедью, не могла не привлекать внимание интеллектуальной элиты.
При том, что взгляды Новикова и Шварца часто не совпадали, они успешно сотрудничали в деле просвещения и образования, создав Педагогическую и Переводческую семинарии, Дружеское ученое общество и другие объединения, в которые входили в том числе и университетские. Организаторы ставили перед собой, помимо целей нравственного воспитания, и чисто практические задачи — подготовку квалифицированных и мыслящих преподавателей и переводчиков. Молодые люди из числа университетских активно участвовали в подготовке переводных изданий книг; в издаваемых Новиковым журналах появлялись подготовленные ими оригинальные и переводные статьи, рассказы (для поощрения молодых переводчиков он иногда покупал несколько переводов одного произведения, а затем печатал лучший). Выпускники семинарий и студенты университета встречаясь, упражнялись в сочинениях и переводах, вместе читали и обсуждали прочитанное, практиковались в ораторском искусстве. И. Шварц как инспектор педагогической семинарии и преподаватель стал кумиром молодежи, внося в интеллектуальное общение струю близких, личных отношений (недаром ведь и сами московские масоны образовали именно Дружеское ученое общество). Это был своего рода самодеятельный литературный кружок — зачаток одной из формлитературной или научной повседневности, которые разовьются впоследствии.
Деятельность кружка Новикова пронизывал дух ассоциации, общения просвещенных людей. Он сам считал книгопечатание «наивеличайшим из всех изобретений», а общественную самодеятельность — надежным орудием к распространению просвещения. В пяти типографиях Новикова (в том числе и университетской) всего было издано более тысячи книг и журналов, что составило почти треть всей печатной продукции России в тот период.
В доме общества на Садово-Спасской открылась огромная аптека Дружеского общества, где бедняки получали лекарства бесплатно, содержалась публичная библиотека. Дом Шварца у Меньшиковой башни, который был куплен на его имя за счет Дружеского общества, называл «благословенным жилищем на прудах» Н.М.Карамзин, живший там, как и другие студенты и молодые переводчики — пансионеры Дружеского общества (в своеобразном «общежитии»). В доме в Армянском переулке помещались под надзором проф. Шварца питомцы Дружеского общества из Московской духовной академии и московских семинарий.
Самодеятельность как Н. И. Новикова, так и И. Шварца, их старание внести в студенческую среду новые формы общения, сотрудничества, обсуждение в несанкционированных собраниях острых проблем современного общества, наконец — финансовая независимость Типографической компании (а именно она позволяла заказывать переводы нужных книг и издавать их, посылать студентов на свой счет на заграничную учебу) — все это встретило неодобрение властей. Деятельность кружков была прервана.
Вообще власть того времени допускала некоторую общественную самодеятельность — типа дворянских городских обществ, Вольного экономического общества; поощрялось и образование торгово-промышленных компаний. Однако политика просвещенного абсолютизма в культурной политике Екатерины II сочеталась с чисто феодальной регламентацией жизни и деятельности людей. Так, согласно статье 65 «Устава благочиния» (1782), «Управа благочиния в городе законом не утвержденное общество, товарищество, братство и иное подобное собрание… не признает за действительное… буде же таковое… собрание общему добру вред, ущерб или убыток наносит, либо бесполезно, то подлежит уничтожению и запрещению». Под эту формулировку, по мнению властей, попала и Типографическая компания, и другие объединения новиковцев. В обстановке политических событий во Франции, усложнения отношений с Пруссией деятельность российских масонских обществ, связанных с заграничными ложами, вызывала у властей недовольство и опасения.
Одной из главных причин гонений на московских масонов историки называют их связи с наследником Павлом Петровичем, поводом же к аресту типографий и лавок послужило издание запрещенных цензурой книг (кстати: шесть крамольных, осужденных церковью книг были пропущены не университетской цензурой и напечатаны в одной из частных новиковских типографий; может быть, именно это спасло университет от гнева императрицы после расправы с Новиковым). У Новикова, как известно, отобрали типографию, затем было следствие и заточение. Что касается Шварца, то он был отстранен от преподавательской деятельности и вскоре умер. Даже куратор Херасков, близкий к кружку масонов, находился (по некоторым сведениям) под наблюдением полиции; его стали обходить в чинах. Подвергся преследованиям близкий московским масонам В. И. Баженов и другие.
Так просвещенческие идеалы, характерные для рассматриваемого периода, которые, между прочим, вносило в русское общество и само государство, дали неожиданные для последнего плоды. Политика просвещения, поддерживаемая самим государством, оказалась чревата для части общества тенденцией к самостоятельности в движении к гражданственности, чего императрица допустить не смогла.
Обратим внимание и на оценку причин гонений, данную Ю. М. Лотманом: Новиков противопоставил пафосу государственной службы идею организованных усилий приватных людей; это «обрело контуры борьбы за личную независимость… права человека самому определять род занятий, независимо от государственного надзора и рутины».
Действительно, Н. И. Новиков и его сподвижники в своей просветительской и благотворительной деятельности покусились на главный принцип абсолютизма: все блага в государстве проистекают от самого государства. Как образовательная, так и благотворительная деятельность были неотъемлемой прерогативой государства.
Кружки и вся деятельность Новикова и Шварца были объявлены неугодными, «вредными» для студенчества. Но с Дружеским обществом оказались связаны люди, определившие впоследствии лицо университета — будущий директор И.П.Тургенев, будущие профессора Х. Чеботарев, Я. Шнейдер, Ф. Баузе и другие; именно в переводческой семинарии делал свои первые переводы П. Страхов, ставший впоследствии профессором университета, затем инспектором его гимназии и, наконец, ректором. То, что впитали в себя участники новиковских организаций, заключало интеллектуальный и нравственный потенциал, который сохранялся в университете и после разгрома кружка; люди же, связанные с кружками (в том числе И.Тургенев, М. Херасков, А. Антонский — личные друзья Н. И. Новикова), составили костяк корпуса руководителей и преподавателей университета, становившегося самовоспроизводящейся структурой.
Корпоративность
Теперь попытаемся выяснить, в чем было своеобразие московского университетского сообщества в отличие от аналогичных корпораций за рубежом.
В своем многовековом развитии (а университеты зарождаются в ХI–ХII веках) европейская университетская культура сохраняла свою суть, проявляла удивительную пластичность, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, к особенностям каждой страны. Применительно к позднему этапу, ХVII–ХVIII веков, можно говорить уже о национальных моделях университетов. Их особенности проявлялись во всем строе университетов, в организации внутренней жизни, в пространственных формах.
В западноевропейских государствах университетская культура формировалась на протяжении ХII–ХIV веков в соответствии с уже существовавшими там корпоративными нормами и традициями в виде гильдий ремесленников, городских корпораций и пр. Университетские корпорации формировались в городах самопроизвольно, когда концентрация интеллектуалов в учебных центрах достигала определенной критической массы, а их постоянное общение становилось основным условием существования. В рамках таких корпораций постепенно зрели поведенческие стереотипы университетской демократии — системы компромиссов и противовесов, столь важные для вызревания гражданского общества. Таким образом университеты были своеобразной формой демократической практики.
В России же в силу особенностей ее развития политическое объединение страны предшествовало формированию независимых сословий русского общества. В сфере общественных отношений роль государства стала главенствующей, а корпоративные традиции были очень слабы (даже дворянская корпорации находилась в процессе становления). Именно поэтому в период начавшейся в России ХVIII века «модернизации» корпоративные формы, которые несла с собой западная университетская культура, наполнить содержанием было очень сложно.
В России даже середины ХVIII века положение ученого было полно неопределенности; «встроить» его в систему старых социальных отношений (а университетские должности и степени — в Табель о рангах) было сложно, а сознание учащихся и большей части преподавателей оставалось в плену старых норм. В Московском университете отсутствовали автономия и коллегиальность в решении внутринаучных проблем, практика свободных дискуссий, внутренний строй классического научного сообщества. Университет не получил права присваивать ученые степени. Все это не позволяет с самого начала считать корпорацию Московского университета научным сообществом в полном смысле этого слова.
Хотя Московский университет и мыслился как аналог западноевропейских, он не стал самоуправляющейся корпорацией (были отвергнуты некие «несовместные вольности», которые пытался привнести М. В. Ломоносов, указывая как на образец на Лейденский университет). По каждой мелочи приходилось обращаться в Петербург. Именно поэтому так велика была роль куратора И. И. Шувалова. Все апелляции шли к нему, он был верховный судья и ходатай. Не только отбор профессуры, сотрудников среднего звена и самих студентов, но и судьба выпускников университета были в руках всесильного куратора (что противоречит принципу, который лежал в основе университетов европейских — свободное соединение студентов и преподавателей).
В Европе получение ученой степени, даваемой университетом, означало полноту общепризнанного знания. Ни годы частной практики, ни блеск эрудиции не могли дать степени, это оставалось лишь университетской прерогативой. Полновесность европейского университета и выдаваемых им степеней (а присуждение степени обладало свойством социальной магии) гарантировалась академической свободой корпорации. «Власти, как бы далеко ни заходил их контроль — не могли отменить принципов выборности университетских должностей, свободы дискуссий и теоретически не должны были вмешиваться в процесс присуждения степеней»[5].
Со временем Московский университет начинает присваивать ученые степени (вначале ХIХ века зафиксирован первый случай: после защиты диссертации Ф.Барсука-Моисеева «О дыхании» ему была присвоена степень доктора медицины).
Говоря о корпоративности, нельзя не отметить пространственную обособленность университета: его территория неслучайно обносилась оградой с воротами и караулом на входе.
Пространства учебных заведений разных стран складывались по-разному. Оксфорд, например, традиционно складывался как федерация автономных республик-колледжей, объединенных общей внешней политикой, отношениями с правительством и другими университетами, общим бюджетом, системой ценностей и правилами учебной и научно-исследовательской работы, но внутренне абсолютно автономных. В пространственном выражении эта автономность воплощалась в особой территории каждого колледжа с собственным внутренним двором, особыми жилищами по типу монастырей, в которых проживали преподаватели и студенты.
Со времен Петра 1 в учебных заведениях такого типа царили военные порядки. Поэтому, когда возник Московский университет, стереотип был перенесен и на его внутренний порядок. Было создано особое пространство, находясь в котором, каждый должен был подчиниться установленному строгому порядку.
Неизменный распорядок дня, рапорты куратору, караулы, прогулки строем, наконец, занятия фортификацией, геодезией, летние занятия строевой подготовкой — все это (особенно на начальном этапе существования Московского университета) напоминало казарменные порядки, вовсе не похожие на беспечную жизнь французских или английских студентов.
Правовой основой деятельности любого университета были дарованные ему привилегии. Были они и у Московского университета (предусмотренные М. В. Ломоносовым при подготовке проекта и осуществляемые при поддержке И. И. Шувалова). Важной привилегией была особая юрисдикция университета, т. е. оговоренные в Уставе «неподсудность различных чинов и служителей университета никому и нигде без ведома и позволения университетских кураторов и директора». При значительных проступках студентов судили профессора-юристы по назначению Конференции.
Корпоративные обязанности были сформулированы в присяге. Студентам предлагалось повиноваться законам университета с полным сознанием достоинства этого учреждения.
За нанесенную обиду студент не должен был мстить — лишь искать законного удовлетворения. В обязанность студентам вменялось «истинное благочестие, неутомимое прилежание к наукам, поведение благородное», строго запрещались шумные сходки, пьянство, игры в карты и кости. Они не имели права делать долгов и продавать свое имущество. Всю жизнь студент обязан был «избегать того, что могло бы оскорбить значение и повредить его благу и выгодам Университета».
Таким образом закладывались основы корпоративной солидарности — одной из составляющих университетской культуры, что, разумеется, не могло не влиять на молодых людей, проводивших в университете те годы, в которые происходит социальное становление личности.
Привилегией членов корпорации было освобождение университетских от постоя и всяких полицейских должностей и сборов. Но главным преимуществом оставалось собственное покровительство императрицы — и полная независимость от любого другого начальства. Мысль об «особости» университета еще нужно было внедрить в русское общество.
Осознавалась ли «особость» университетского мирка самими его обитателями как признак реальной корпоративности? Образцом и идеалом было истинно самоуправляющееся научное сообщество западноевропейских университетов. Но идеал этот был недостижим в условиях самодержавной России, где исторически оказались неразвиты даже корпоративные права основных сословий. Университет представлял собой особый тип корпоративной общности — этот корпоративный собственник владел определенным числом приписанных к нему крепостных. Университет стремился иметь земельную собственность: только это придало бы его автономности черты реальности. В документах встречаются пожелания иметь собственную «деревню для стола». Профессора— авторы неосуществленного проекта реорганизации университета (1765) указывают, что помимо продуктов собственные университетские земли могли бы дать дрова для опытов, тканье и беление холстов, бумагу с собственных бумажных мельниц.
Традиционной российской чертой стало то, что главной фигурой учебных (и других казенных учреждений) стоял чиновник, т. е. человек, для которого наука— не главное. В Московском университете ХVIII века орган самоуправления— Конференция профессоров, важнейшая составная часть университетской корпорации, противостояла Канцелярии, состоявшей из чиновников. В разные периоды существования университета соотношение сил между Конференцией и Канцелярией было разным. В начальный период существования университета было еще возможно бороться за невмешательство чиновников Канцелярии в научные дела, и Конференция профессоров часто спорила с Канцелярией.
Одним из корпоративных признаков в ХVIII веке должен был быть университетский мундир. Он предназначался как для учащихся, преподавателей, так и для административно-хозяйственного персонала. Одежда была (как, впрочем, и продолжает быть) знаком принадлежности к какому-либо сообществу.
Первая детская форменная одежда появилась еще в 1720-х годах, когда возникли первые школы нового образца. Их учащиеся носили зеленые с красными обшлагами кафтаны — форму солдат гвардии, отличаясь лишь цветом чулок. Учащиеся же кадетских корпусов — будущие офицеры — получили форму, аналогичную военной (военно-морской). Позднее возникают гражданские учебные заведения (академические университет и гимназия, женские воспитательные заведения, Московский университет с его подразделениями и Академия художеств). Везде военный мундир является точкой отсчета. Везде вводится форма в соответствии с современной модой: элегантность считалась обязательной (ведь век Просвещения выдвинул на первый план воспитанность, понимаемую и как умение вести себя, ценить красоту, быть приятным в общении).
Мундир, одинаковый для всех университетских, с одной стороны, придавал учению статус государственной службы, с другой — выделял университетскую публику, отличал образованных от неучей, и таким образом способствовал формированию корпоративного мировосприятия.
Ношение мундира было привлекательно, им гордились; тем более притягателен был нарядный мундир военного образца для молодых людей. Ношение его должно было стирать имущественные различия между студентами, упрочивать товарищеский дух, уравнивая бедных и состоятельных. В дни же общеуниверситетских торжеств парадные мундиры извлекались из специальной кладовой, где они хранились. На публичных актах, все как один, студенты представали в темно-зеленых кафтанах с малиновым воротником, посеребренными пуговицами с государственным гербом и «атрибутами учености»[6]. Но уравнять студентов в быту значило прежде всего в повседневности прилично одеть беднейших казеннокоштных учеников, а их было всегда большинство. Это была чрезвычайно важная задача.
Еще более важно, на наш взгляд, то, что университет давал шпагу студентам из разночинцев при произведении их в студенты (правда, он не получил другой привилегии — выдавать дипломы на дворянство). Обучение приравнивалось к государственной службе.
Сам характер университета как учреждения нового типа иногда заставлял на практике отказываться от сословных предрассудков: недаром, живя на разных половинах общежития, дворяне и разночинцы учатся в одних классах и по одной программе, вместе питаются. Заметим, что наряду с дворянской и разночинской половинами в казенной столовой был один стол для «отличников» (со сладким) и один — для лентяев (хлеб и вода) — без всяких сословных делений.
Дворянское общество в целом не было готово к таким отношениям. Разночинец, даже с университетским образованием, не осознавался дворянством как «свой». Необходимо было изменить отношение к образованию, упрочив положение «ученого», с одной стороны, и подняв образовательный уровень массы дворянства — с другой. Девиз Просвещения (Sapere aude!) провозглашал главным критерием оценки личности умение мыслить, невзирая на происхождение. Таким образом, пусть в зачаточной форме, но мы видим здесь ростки новой концепции гуманизма, которую дала миру и России эпоха Просвещения.
Постепенно университет становился обособленной «самовоспроизводящей» структурой. Собственно первые «настоящие» студенты появились здесь в апреле 1759 года, когда на Акте в студенты были произведены выпускники собственных гимназий (до того в студенты набирали учеников духовных академий и семинарий). К концу века в университете появились «свои» профессора — смена профессорам-иностранцам.
Характеризуя обстановку старого университета, историк ХIХ века С. П. Шевырев восторженно писал: «Патриархальные нравы Университета, семейное обхождение начальников и наставников, дружелюбное обращение с товарищами, мыслящая атмосфера, окружавшая юношество, благородные занятия… привязывали к Университету узами любви, похожей на любовь к Родине».
Итак, возвращаясь к вопросу о типе университетской корпорации, скажем: если университетская культура сформировалась в Западной Европе ХII–ХIV веков, восприняв свойственные тому временитем странам корпоративные формы, то российские условия продиктовали Московской университетской корпорации ХVIII века другие, традиционные формы, в которые и «отливалась» в России университетская идея. Однако уже в начале 1830-х годов время прежних порядков считалось «древним периодом истории Московского университета» по сравнению с «новым»: «По ту сторону этой грани старое здание университета, старые профессора с патриархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрация, доведенная к концу до самоуправства, а по эту сторону — новое здание университета, отмеченное и на его фронтоне 1835 годом, целая фаланга новых и молодых профессоров, только что воротившихся из-за границы»[7].
Итак, на протяжении полувека собирая под одной крышей свободных людей разных сословий, Московский университет стал одним из первых учреждений, которые нарушили сословные и должностные барьеры, господствовавшие в обществе. Любая «просвещенная» личность в Москве так или иначе тянулась к университету, была с ним связана. Именно здесь, в университете, актуализировались новые тенденции, спонтанно возникавшие в общественной и культурной сферах российской жизни, рождались кружки и научные общества. Мысль об общественной пользе образования, публичное признание ценности абстрактного знания, речь и лекция, кружок и научное общество, публичный диспут как форма научного суждения, диалогичность самих научных трудов — все эти составляющие университетской культуры были новшествами, которые вносил в быт Москвы и России Московский университет.
* * *
Московский университет стал продуктом общения культур в Новое время, когда в российской практике вошли во взаимодействие два типа культуры — традиционный и инновационный. Понятие культурноевлияние не исчерпывается процессом отбора и приспособления воспринимающей стороной отдельных элементов культуры (см. работы Ю. М. Лотмана, В. М. Живова и др.). Культурное заимствование выливается в более сложный процесс — диалога культур. В нашем случае традиции европейской университетской культуры вкупе с идеями собственно эпохи Просвещения особым образом трансформировались в российских условиях, проявляясь в специфических формах — от форм человеческих взаимоотношений до пространственного решения университетских построек. Сложилась общность, с одной стороны наделенная чисто российскими особенностями, обусловленными господствующим менталитетом, системой сословных отношений и гипертрофированной ролью государства, с другой же — проникнутая чертами университетской культуры и общеевропейской идеей независимого академического сообщества.
[1] Сергеев Е. М. Московский университет. Взгляд сквозь годы. М., 1992. С. 178.
[2] Кнабе Г. С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., 1999. С. 110.
[3] Такая погруженность в университетские дела представителя власти связана с общей российской традицией максимального расширения сферы прямого участия монарха в решении государственных дел вообще.
[4] Линия такого меценатства найдет продолжение (в лице С. Строганова, А. Оленина, П.Свиньина и других).
[5] Уваров П.Ю. Университеты и идея европейской общности // Европейский альманах. История. Традиции. Культура. 1993. М., 1993. С.116.
[6] Со временем изменилось отношение к мундиру: в 30-х годах ХIХ века ношение формы стало обязательно и вне стен Университета — для того, чтобы студентов как «подозрительных» было легче отслеживать и контролировать.
[7] Козмин Н. Н.И.Надеждин — профессор Московского университета // ЖМНП. 1907. Май (Новая серия Х, № 7). С.124.