Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2002
«Средний класс» относится к тому редкому типу конвенциональных понятий, которые используются часто и, как правило, без очень строгого смыслового наполнения. Казалось бы, таков удел весьма широкого круга понятий современного общественного дискурса. Впрочем, справедливо и другое утверждение: если некое понятие действительно является конвенциональным, то в интеллектуальных кругах, безусловно, должна существовать негласная договоренность о его условном значении. Пикантность же ситуации с понятием «средний класс» заключается в том, что в нем непроясненным остается как раз его условный смысл.
Характерно при этом, что самое широкое применение в литературе и повседневной коммуникации понятия «средний класс» не приходит в противоречие с непроясненностью его значения: как можно подумать, и социальная наука, и публицистика, и журналистика заинтересованы в сохранении максимальной туманности вокруг более или менее внятного значения этого понятия. (Не всегда, правда, очевидны мотивы этой заинтересованности.)
Впрочем, говоря «средний класс», мы все же улавливаем нечто существенное для интерпретации современного общества и социальной идентичности основной массы его населения. Сравнивая разные общества, мы довольно часто судим об их зрелости именно по тому, насколько развит в них «средний класс» («средние классы»).
Более того, порой складывается впечатление, что «средний класс» в нашем сознании оформился в виде примечательного клубка смыслов. С одной стороны, это сложносоставная научная категория, характеризующая «базовый» социальный класс любого общества современного типа. С другой — инструмент социального познания (семантического описания и интерпретации) модернизационной триады «индивид — стратификация — культура».
Таким образом, «средний класс» можно рассматривать и как социальный факт, и как социальный конструкт, и как терминологическую условность, и как плод социологического воображения, и как строгий термин, и как эпистемологическую метафору.
О «среднем классе» в зарубежной социальной и экономической науке говорится вот уже сто лет с небольшим. В последнее десятилетие нашего века это понятие активно заиграло и на страницах отечественных изданий. Впрочем, серьезный конфликт толкований, как мне представляется, пока лишь только намечается. Видимо, не так много тех исследователей, кого волнует, какая российская реальность может скрываться за этим понятием[1]. В результате экономисты, социологи, политологи и журналисты, рассуждая, как им представляется, об одних и тех же вещах, по сути толкуют о совершенно различных аспектах «среднего класса» в России[2].
Об эвристичности понятия «средний класс»
О «среднем классе» в последнее время сказано так много, что возвращение к этой теме становится признаком публицистической безвкусицы. Тем не менее многие аналитики и журналисты вновь и вновь возвращаются к этой теме, пытаясь выжать из нее нечто полезное для своих целей, словно в этом феномене содержится некая разгадка нормальности современного общественного строя. Словно без «среднего класса» невозможна ни реформа, ни рыночная демократия, ни успех трансформации России в целом. Словно без обращения к теме «среднего класса» нельзя понять ни сегодняшнего состояния российского общества, ни тем более предвосхитить долгосрочные перспективы страны.
В самом деле, понятие «среднего класса» не строго прописано в социальной науке. И при том, что оно обладает удивительным зарядом познавательной притягательности, мы парадоксальным образом не стремимся ни к его дефиниционной ясности, ни даже к его жесткой дисциплинарной атрибуции. На аутентичность исследования российского «среднего класса» претендуют в равной мере как социологи, так и экономисты, и, как кажется порой, с равной степенью познавательного фиаско.
В результате — при том что практически любое частное обращение в специальной литературе к теме «среднего класса» неизбежно страдает концептуальной ограниченностью — публицистика, напротив, играет с понятием как с высоко валентной метафорой, годной к предельно широкому использованию в самых различных журналистских ситуациях. Соприкосновение же разных смыслов понятия, однако, не приводит ни исследователя, ни журналиста в ситуацию когнитивного тупика, когда затруднена научная (или массмедийная) коммуникация.
Время показало, что понятие «средний класс» — удобный и эвристичный символ стабилизирующей общественной середины любого современного общества — в известном смысле выступает метафорой современного общества вообще. И не беда, что чаще всего эта середина не имеет четко прочерченных границ, социально и культурно неоднородна. Для самоидентификации людей магия «среднего класса» оказывается настолько притягательной, что использование его как угодно и когда угодно не противоречит здравому смыслу, особенно в стране, где поколениями люди хотели быть с «большинством», жить, чувствовать и поступать «как все»[3]. «Средний класс» как идентификационный знак чрезвычайно удобен и в повседневном обиходе. Возможно, поэтому это понятие настолько популярно сегодня. Но очевидно, что «средний класс» — это совершенно иной феномен в сравнении с желанием нашего соотечественника ничем не выделяться и ориентироваться во всем на всех.
«Средний класс» на Западе и в России
Полноценной, корректной дискуссии о «среднем классе» в современной литературе по-прежнему не намечается. А между тем, как кажется, главная проблема исследовательского поиска российских социальных ученых связана именно с теоретической непроясненностью понятия.
Одна часть исследователей без труда обнаруживает в сегодняшних российских условиях сформировавшийся, пусть даже и сильно потрепанный после дефолта1998 года «средний класс» (спор идет лишь о степени его зрелости). Часть аналитиков post factum приписывают качества «среднего класса» некоторым социальным слоям общества «реального социализма», утверждая тем самым универсально модернизационную природу «среднего класса», не зависящего напрямую от типа политического режима. Наконец, есть немало скептически настроенных ученых, не считающих возможным именовать российское общество «современным» (в сравнении с западным) и поэтому напрочь отказывающих ему в ретроспективе и перспективе «среднего класса».
Трудно принять сторону какой-то одной части этого академического диспута хотя бы потому, что во всех историко-социологических рассуждениях о природе российского «среднего класса» каждый раз речь идет о принципиально несхожих явлениях (пусть даже и относящимся к «срединным» — в социологическом смысле — социальным слоям общества).
В советские времена квазисредним «классом» с большой натяжкой можно считать средний уровень партийной номенклатуры и высший слой идеологически «преданной» творческой интеллигенции. Принцип абсолютной политической лояльности предопределял «срединность» их социального статуса. Все же остальные черты их социального положения (доход, престиж, в меньшей степени образовательный ценз) были в полном смысле второстепенными по отношению к демонстрационному разыгрыванию преданности и служения Власти. Эти качества «срединности» были социально (и даже физически) отчуждаемыми, что, впрочем, неоднократно демонстрировала советская власть, проводя всевозможные социальные «чистки». Не говоря уж о том, что эти квазисредние слои не воспринимались в качестве метафоры общества, а скорее ему противопоставлялись.
«Простой» советский человек, напротив, не был наделен ни символами, ни чертами социальной «срединности» (да и не стремился, пожалуй, к этому), но в своей воображаемой тотальности и был обществом. Те же реальные слои советского общества, которые по своему статусу, доходам и престижу как-то выбивались из общего ряда «простых» людей (а разрыв подчас был удивительно велик), чаще всего пытались по мере возможности скрыть реальное положение дел, симулируя свою статусную тождественность массам. Реальный социализм, как известно, культивировал принципиальный отказ от социальных крайностей. И поэтому общество реального социализма было скорее обществом с нарочитой асимметрией статусов: в его социальном пространстве, даже несмотря на публичную риторику «равенства», едва ли можно было разместить некие легитимные социальные или даже символические «срединности». Этому противоречили и логика социального познания, и идеологическая пред-рассудочность советской социальной мысли, и обыденный опыт нормативного «неравенства» социальных верхов и низов.
В сегодняшней России, когда социальная поляризация и дифференциация обретают свое нормативно-легитимное значение, рассуждения о «среднем классе» становятся и более обоснованными, и более обстоятельными. Все чаще в повседневной коммуникации мы сталкиваемся с обыденной логикой рефлексии «в среднем», что, возможно, чаще всего оказывается тождественным рефлексии «нормального», неаномичного (др.-гр. anomia — нарушенный закон; нарушение привычного хода вещей. — Прим. ред.). Сегодня социальные крайности ощущаются постсоветским человеком конкретно, и поэтому гораздо последовательнее выглядит стремление людей к самопознанию себя через символы социокультурной середины, пусть даже и в логике повседневного суждения о том, что сегодня «худо, дальше некуда, но все так живут». В любом случае сегодняшний дискурс срединности, возможно, отражает как раз стремление людей не выпасть из нормальности.
Любопытно, что и в западной цивилизации исторический возраст этого познавательного стремления крайне невелик. Понятию «middle class», как принято считать, чуть более ста лет. В конце XIX столетия в Америке социально-сословная структура раннеиндустриального общества достигла такого состояния, когда социокультурная родственность некоторых срединних сословий стала настолько очевидной, что и родовое понятие, объединяющее их, возникло вполне естественно и логично. Понятие «middle class» тогда описывало количественно немногочисленную группу высококвалифицированных профессионалов, репрезентирующих доходные, престижные и, главное, перспективные — с точки зрения развития проекта «простая» современность — профессиональные занятия. Принадлежность к «middle class» необязательно требовала наличия значительной частной собственности, но непременно предполагала высокий образовательный ценз и ощутимо высокий на общем фоне трудящихся масс уровень индивидуальных доходов[4]. Образование-и-доход и культ профессионализма, пожалуй, вплоть до нашего времени так и остались главными характеристиками американского «среднего класса».
В начале прошлого столетия понятие «middle class» было трансплантировано на европейский континент и с тех пор используется в европейских языках, как правило, в его оригинальной английской версии. Европейский «middle class» от американского ничем принципиально не отличался, за исключением, пожалуй, более замысловатой истории своего рождения. Что, впрочем, не удивительно, если учитывать, что в основе кристаллизации «среднего класса» лежит процесс социального и культурного сближения различных сословно-профессиональных групп, каждая из которых в Европе имела гораздо более длительную, чем в Америке, предысторию.
Новейшая история «среднего класса» на Западе демонстрирует одну очень важную закономерность социологического свойства. Если на рубеже веков происходит сближение разных групп населения на основании их социального и культурного сходства (сходства профессионального и имущественного образа жизни), то для социальной консолидации (классовой солидарности) образуемого класса, безусловно, необходимы внутренние — и прежде всего культурные — «скрепы». Если же таковые не обнаруживаются, то вряд ли можно ожидать, что структурируемый класс станет «надежным» социальным образованием — прочным, долговечным и самодостаточным для самоидентификации наполняющих его социальных актеров.
Искомые «скрепы» буквально нащупывались — методом проб и ошибок. Как порождение «рациональной» цивилизации, «средний класс» видел себя в зеркале прагматических ценностей и материалистических критериев самооценки. И даже если «Я — средний класс» индивидуально мог переживаться и артикулироваться в достаточно широкой палитре риторических возможностей, то «Мы — средний класс» чаще структурировался в виде внятного социального конструкта, отражающего, как правило, совокупность нескольких базовых ценностей конкретного исторического момента реализации проекта «простая современность».
Обнаружить стабильный и константный набор этих ценностей в истории западного «среднего класса» нам вряд ли удастся. Даже такие показатели, как частная собственность и доход, не только никогда не были главными и структурообразующими, но более того, по мере исторической эволюции «среднего класса» все больше маргинализировались. Схожая участь постигла и другой критерий «среднего класса» — профессионализм. И если уже в исходный период формирования «среднего класса» мы не обнаруживаем строгого кадастра профессий, отвечающих критериям среднеклассовости, то чем ближе мы подходим к нашему времени, тем более аморфной и всеобъемлющей становится профессиональная составляющая доктрины «среднего класса».
Конструктивистски мыслящий социальный ученый предпочтет толковать феномен «среднего класса» исключительно в категориях удобной и симпатической для миллионов людей идентификационной модели, где принадлежность к этому классу определяется прежде всего волеизъявлением социального актера. Не случайно многие социологические опросы показывают, что подавляющее большинство людей склонны интерпретировать себя как «занимающих среднее положение» буквально во всем — в уровне жизни, в уровне притязаний, в профессионально-образовательном статусе, в уровне доходов и т. п., что вообще дает нам основание говорить о субъективном «среднем классе». Для конструктивиста именно мироощущение и умонастроение «среднего класса» выступают его главными составляющими, а уже после идет то, чего он реально добился в этой жизни.
Так называемый социальный реалист все же попытается навязать «среднему классу» обязательные черты, подобно имущественному цензу и/или наличию частной собственности. И, надо сказать, не безуспешно. Стратификационный статус и потенциал социальной мобильности у «среднего класса» обладают вполне очевидными очертаниями. «Дом — машина — дача» — одна из возможных формул отечественного «среднего класса» (по крайней мере, в определенный исторический период его эволюции — на заре российских реформ в начале 90-х годов). Очевидно также, что для социального реалиста установка на изменение своего унаследованного (исходного) стратификационного статуса через социальную мобильность выступает скорее сопутствующим субпродуктом среднеклассовости и никак не может отражать самую его суть. Среднеклассовость для социального реалиста есть прежде всего материальноизмеряемое качество, а уже после — состояние ума.
Конфликт двух макроподходов к понятию налицо. Рассуждая о «среднем классе», мы volens nolens выбираем между этими двумя принципиально несхожими методологическими подходами и каждый раз оказываемся заложниками односторонности своего анализа. А между тем общества «переходного типа» в 90-егоды как никогда ранее актуализировали проблему корректного понимания социальной природы постсовременного «среднего класса». Между этими двумя методологиями трудно выбирать — в том числе и потому, что само общество впервые в истории человечества осознанно совершает выбор цивилизационного пути развития. И что здесь важнее — состояние ума или результативность человеческих биографий «по факту», трудно сказать однозначно.
Для классического индустриального общества «средний класс» представлял собой чистое выражение этоса (др.-гр. ethos — образ жизни. — Прим. ред.) нормальности (в социальном и культурном смыслах — этос срединности) — следование социотипическим биографическим образцам (включая и чистое подражание тому или иному типу жизненного пути) и почтительное отношение (вплоть до подчеркнутого пиетета) к разделяемым в обществе ценностям жизненного и делового успеха (положение-деньги-успех-слава и т. п.).
И если самоидентичность «Я — средний класс» все же необходимо было подтвердить конкретной достижительской результативностью, выраженной собственностью-доходами-статусом, то это, собственно, и составляло субстанциональную — «среднеклассовую» — нормальность жизненного пути. Так поступали миллионы. И чем богаче и — в социальном смысле — продвинутее становилось индустриальное общество, тем большее число людей заполняло ряды воображаемого «среднего класса». В конечном итоге этос «среднего класса» заменил собой интерсубъективное ощущение этоса добропорядочности в обществе «простой» современности. Так, пожалуй, этос «среднего класса» стал выражением господствующего типа культуры индустриального общества.
Андеркласс и элита жили по своим правилам и в известном смысле составляли иные «общества-в-обществе» — альтернативные общества, другие культуры, антиобщества и т. п. Социальные группы, не следовавшие нормам и ценностям «среднего класса» в обществах «простой» современности, чаще всего воспринимались как асоциальные и/или контркультурные.
В условиях постсовременного (постиндустриального) общества кардинальным образом видоизменяется абрис репрезентативности достижительской культуры, а посему и революционно трансформируется в нем понятие «средний класс». Поскольку жизненные достижения человека становятся значимыми не только и не столько по своим результатам, а по тому, насколько в том или ином биографическом проекте самореализовалась личность, постольку и границы «среднего класса» определяются скорее пределами свободы жизненного выбора человека, а в трудовой деятельности или в досуге — уже не важно. Чистой срединности в обществе «высокой» современности становится все меньше.
Рефлексия жизненных возможностей и шансов сменяет собой философию стандартного жизненного пути. Жизненные достижения для актера общества «высокой» современности важны не своими результатами (в частности, материалистическими), сколько тем, насколько в них реализован принцип нестандартности жизненного пути личности. Установка на непохожесть в известном смысле стала репрезентировать новый этос «среднего класса», что, вполне естественно, приводит к размыванию первоначальной идеи «среднего класса» как социальной группы и к сохранению в нем исключительно солидаристического потенциала идентификационного «маркера» численно возрастающих слоев новых профессионалов постсовременного общества. Быть «средним классом» в обществе «высокой» современности означает прежде всего понимание-и-реализацию индивидуальной биографии как проекта.
Россия, как и другие развитые страны западного мира, переживает переход к глобальному обществу «высокой» современности. Но в ней этот цивилизационный переход сопровождается сломом старой тоталитарной политической системы и планового способа организации хозяйства. А посему установка на нестандартность (рефлексивность) жизненного пути человека приходит в ней в противоречие с практической сложностью реализации принципа свободы жизненного выбора человека. Бедность социальных условий порождает бедность социального выбора.
«Средний» постсоветский человек поступает нестандартно скорее по воле обстоятельств. И будучи поставленным в условия крайне узких возможностей жизненного выбора — в трудовой ли деятельности, или в досуге, уже не важно,— «средний» постсоветский человек по-прежнему оценивает свои жизненные достижения в шкале «простой» современности, т. е. преимущественно по результатам своей активности.
Уже этого культурного конфликта возможностей и притязаний достаточно, чтобы понять, что сегодняшнее российское общество по ряду обозначенных выше причин скорее является обществом симуляционной срединности. В нем «средний класс» еще не может жить-и-чувствовать себя по-новому («рефлексивно»), но в то же время и не способен реализовать себя среднеклассово, т. е. чисто материалистически (осознать себя как класс через результаты своих жизненных достижений — положение-деньги-успех-слава и т. п.).
Отсюда ясно, что «средний класс» в сегодняшней России все еще остается привлекательной утопией: его уже не измеришь по-старому, а развиться по-новому ему мешают социально-политические обстоятельства. Однако социального ощущения симуляционной срединности, как кажется, может оказаться вполне достаточно, чтобы оценить вектор динамики российского общества: «новый средний класс» в постсоветской России воспитывается вкусом к нестандартности жизненного пути человека. И эта «уживаемая» индивидуализация по-прежнему подкреплена чувством политической лояльности «нового среднего класса», но отныне она направлена не к державной политике идеократического государства, а к политике социальных изменений.
А там, где мы обнаруживаем богатую палитру жизненных стилей и высокий воспитательный потенциал ситуации жизненного выбора, там намечается примечательная дилемма взаимоотношения «среднего класса» и всей системы образования. И в самом первоначальном приближении она, как кажется, формулируется именно как целе-средственная дилемма.
«Средний класс» для образования или образование для «среднего класса»?
Предположив ранее, что социальное качество срединности не наследуется, а достигается в ходе реализации биографического проекта, несложно предположить, что важнейшим фактором среднеклассовости становится образование. Не только образовательный ценз для «среднего класса» выступает важнейшим стратификационным «ситом», фундаментальной предпосылкой восходящей мобильности, но и, vice versa, «средний класс» является чуть ли не единственным полигоном для развития образования как общественного института. Исторически «средний класс» выкристаллизовался на обломках старорежимной сословной иерархии благодаря революции в системе образования и педагогической философии современного общества.
Образование, с одной стороны, исторически сконструировало идею «среднего класса», с другой — создало благоприятную для него же социокультурную среду обитания. Современная система образования — источник формирования и главный гарант сохранения и воспроизводства пространства социальной срединности. Поэтому ценности и нормы «среднего класса» являются отраженным состоянием преобладающих культурных тенденций и репрезентативного типа культуры в системе образования[5].
В этом смысле в современном обществе образование существует скорее во имя «среднего класса», а сам «средний класс» является порождением современной образовательной системы. Но в то же время и наоборот: «средний класс» как социокультурная утопия модернизированного общества поддерживается в своем виртуальном качестве во имя независимых — институциональных — целей современной системы образования. На человеческом материале «среднего класса» современные образовательные учреждения оттачивают свое профессиональное искусство и педагогические технологии. На поле «среднего класса» образование утрачивает свое чисто инструментальное предназначение (служить кому-то) и выступает самодостаточным ресурсом по отношению к человеку (репродуцируя этос «среднего класса»), т. е. через «средний класс» образовательные институты современного общества служат своим властно-институциональным целям и интересам.
Эта парадоксальная инструментальная взаимозависимость «среднего класса» и образования до определенного исторического момента делала их по отдельности и в единстве наиболее консервативными силами всего модернистского проекта, обеспечивая непременность и непрерывность воспроизводства современного общества, его прогрессистских идеологий и репрезентативного типа современной культуры. И поскольку с приходом цивилизации «высокой» (или рефлексивной) модернизации эта проблема по-прежнему актуальна, складывается впечатление, что для всего проекта Современности амбивалентная — в целе-средственном смысле — взаимозависимость системы образования и «среднего класса» является нормативной.
Если в условиях «простой» современности образование воспитывало в человеке уверенное чувство стандартности жизненного пути, сохраняя за собой право как на образовательный эксперимент, так и на педагогическую ошибку, то в условиях «высокой» современности право на жизненный эксперимент и ошибку перенесено в лоно свободного выбора человека. И как только «средний класс» перерастает в «новый средний класс» и начинает практиковать принцип биографической нестандартности, то и образовательная система стремится не отстать от «духа» времени, радикально пересматривая педагогическую философию универсальности и стандартности образовательных целей и педагогических технологий.
Об образовательной повестке (для «нового среднего класса») на XXI век
Нестандартность как принцип построения системы образования скорее, чем любые другие реформаторские потуги, будет способствовать формированию в России «нового среднего класса». Эта гипотеза основана на понимании кардинально изменившейся роли образования в воспроизводстве современного общества и его культуры.
Когда мы говорим об изменении роли образования в России, речь, разумеется, прежде всего идет о способности институтов образования повлиять на социогенез среднеклассовой солидарности «новых» профессиональных слоев российского общества в начале наступившего столетия.
Вряд ли школа и вуз в этом процессе смогут функционировать на рынке образовательных услуг, не координируя свои дидактические и воспитательные усилия (как это происходит сегодня). Вряд ли школа и вуз будут по старинке восприниматься как чуть ли не самые консервативные культурные институты в обществе «переходного типа». И, наконец, вряд ли школе и вузу при решении новых и при этом совершенно аутентичных образовательных задач удастся как-то обойти стороной теорию рефлексивной модернизации, в концептуальных рамках которой сформулирован новаторский концепт «нового среднего класса».
Образовательная повестка на ХХI век подчинена логике формирования рефлексивной личности — личности, сориентированной на солидаристическую среднеклассовость исключительно в категориях биографических возможностей, шансов, рисков и индивидуальной ответственности человека. Новая среднеклассовая солидарность в рамках теории рефлексивной модернизации поддерживается на примате идеи жизненных достижений, гармонично вплетенных в биографический проект человека. Успешность жизненного пути человека уже не оценивается сообществами исходя исключительно из критериев (и/или стандартов) биографической результативности, выраженной (и измеренной) в собственности-доходах-статусе и т. п.
В известном смысле биографическим идеалом для «нового среднего класса» выступает вечно ищущий доктор Фауст, отличающийся от своего литературного прототипа тем, что он, безусловно, удовлетворен процессом своего биографического поиска и удивительным образом превращает идею собственной жизни в произведение искусства. Эстетика жизни «нового среднего класса» становится фундаментом среднеклассовой солидарности ХХI века и подчиняет своим классовым интересам всю систему образования.
«Новый средний класс» общества «высокой» модернизации признает за образовательными институтами как право на дидактический поиск, так и право на педагогическую ошибку. Впрочем, поступает он таким образом, как кажется, не столько от мазохистской склонности к самопожертвованию на поприще образовательного поиска, сколько оттого, что не доверяет образовательным стандартам и педагогическим универсалиям «простой» модернизации.
«Новый средний класс» возвращает нас к идее древнегреческой пайдейи[6] и предлагает подчас совершенно противоположные векторы образования и в особенности самообразования. Опыт, который человек извлекает в процессе образовательной коммуникации, определен им и только им самим. В образовательном процессе исчезает роль контролера за «полнотой и корректностью» навыков, знаний и умений, адекватностью и компетентностью, степенью и глубиной профессионализма, и т. д. Все это в жизненном пути человека корректирует и оценивает сама жизнь (друзья, семья, коллеги, партнеры, рынок труда, рынок услуг).
А главное, «новый средний класс» берется сам определять для себя образовательные цели, задачи и педагогические средства и тем самым существенно принижает в этом процессе фактор власти (и в первую очередь вмешательство государства в образовательный процесс).
Разгосударствление образования становится в этом смысле навязчивой идеологией «нового среднего класса», наталкивающейся на естественное сопротивление консервативных легитимаций «дипломов», «сертификатов», «единых государственных стандартов» и всего того, что пока еще обеспечивает индивиду допуск в социальную систему, но уже не гарантирует свободы, достатка и мобильности. А главное, «новый средний класс» превращает образовательную деятельность в предпринимательскую и завершает процесс создания подлинно свободного и высоко конкурентного рынка образовательных услуг.
А покуда «старый средний класс» и трансформирующееся государство борются друг с другом за властный и хозяйственный ресурс сегодняшней системы образования, социальная утопия «новый средний класс» остается не более чем красивой и заманчивой целью социального и культурного развития России на пути к глобальному обществу. Но именно эта сказка имеет самые большие шансы, чтобы уже очень скоро стать былью.
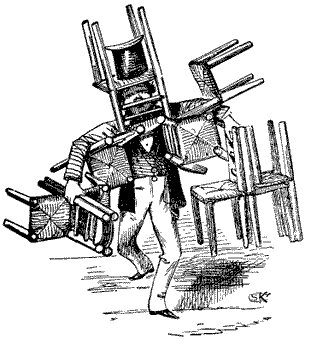
[1] О множественности интерпретаций и характерном различении субъективного и объективного «среднего класса» в сегодняшней России см. прежде всего: Заславская Т. И., Громова Р. Г. К вопросу о «среднем классе» российского общества // Мир России. 1998. № 4; Левада Ю. А. «Средний человек»: фикция или реальность? // Левада Ю. От мнений к пониманию. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 288–304.
[2] Самый большой набор толкований обнаруживается в режиме дискуссий и «круглых столов» о среднем классе. См., к примеру: Средний класс в современном российском обществе / Под ред. М. К. Горшкова, Н. Е. Тихоновой и А. Ю. Чепуренко. М.: РНИСиИП/РОССПЭН, 1999.
[3] Ю. А. Левада удачно именует это явление «притяжением середины», трактуя тот факт, что сегодня около двух третей населения России «привычно, упорно, настойчиво относят себя к некой средине» (Левада Ю. А. Указ. соч. С. 301).
[4] Об этом подробнее см.: Bellah R. N., Madsen R., Sullivan W. M., Swidler A., Tipton S. M. Habits of the Heart. Individualism and Commitment in American Life. Berkeley: University of California Press, 1996.
[5] Еще в начале 40-х годов эту взаимозависимость образа жизни «среднего класса» и структуры образования показал Курт Левин. Для него «средний американец» есть продукт американской системы образования, в то время как образование, в свою очередь, является отражением образа жизни американцев. См.: Левин К. Некоторые социально-психологические различия между Соединенными Штатами Америки и Германией // Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб: Речь, 2000. С. 119–126.
[6] О пайдейе как о культурно-воспитальном коде см.: Jaeger W. Paideia: the Ideals of Greek Culture. Vol. I–III. Oxford: Oxford University Press, 1965 (1986).