Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2002
Среди других московских школ наша выделялась тем, что в ней наряду с ребятами из близлежащих домов были собраны дети тогдашних руководителей партии и государства. Сталин, Сталина, Молотова, Берия, Маленкова, Булганин, Булганина — эти и многие другие фамилии того же ранга стояли в классных журналах школы, где учились дети членов ЦК партии, наркомов, их заместителей, руководителей Коминтерна и зарубежных компартий, ведущих военных деятелей…
Короче говоря, школа являла собой нечто вроде советского придворного лицея (по примеру Царскосельского), ее заметным по тем временам отличием от других было то, что всех классов было по одному, лишь мои сверстники не смогли втиснуться в рамки одного класса, и таковых имелось два – «А» и «Б». Мои одноклассники были 1925–1926 годов рождения, похоже, что тогда, при неожиданном нэповском изобилии, нашей правящей верхушке жилось особенно сытно, покойно и вольготно, и она расстаралась с деторождением.
Размышляя о связи времен, о двух лицеях, Царскосельском и сталинском, об их прямо-таки иррациональной преемственности, я вспоминаю об одном школьном впечатлении, которое навсегда запало в душу. Еще в младших классах нас возили на экскурсии в Загорск (ныне — Сергиев Посад), в так называемый музей игрушек. Там среди более ста тысяч экспонатов имелась уникальнейшая коллекция, которая в то время была засекречена. В двухэтажном кирпичном здании музея за семью замками хранились тысячи игрушек царских детей, в том числе и детей последнего нашего монарха, который имел четырех дочерей, одного сына и был прекрасным отцом. Большинство экспонатов этой коллекции были из Германии, мирового центра игрушек в прошлом, и из Франции, много было изделий и русских умельцев. Великолепные куклы, военизированные игры и забавы. Большинство кукол и игрушек могли передвигаться, танцевать, стрелять… Имелась там всамделишная миниатюрная трехлинейная винтовка Ижевского оружейного завода, стреляла ядрами маленькая пушка. Паровоз с вагонами бегал по рельсам, дымил и свистел. Сверкали сделанные специально для детей рыцарские латы, шлемы, копья, шпаги. Множество музыкальных игрушек — например, в клетке из чистого золота сидит механический соловей и заливается, как в кустах!.. Всего не перечислишь. И все это затейливое богатство никому не показывалось! Нас же туда допускали, разрешали там играть.
Наверное, нас возили туда просто для развлечения, к тому же столь необычного. Едва ли кто думал о нашем приобщении к безвозвратно погибшей культуре. Впрочем, кто знает?.. Известно, что Сталин в душе был монархистом.
Только в 1946 году вспомнили об этой коллекции, причем в связи с тем, что она погибала из-за отсутствия средств на ее содержание. В прессе, в частности, сообщалось: «Служащие музея не любят оставаться по вечерам на работе в одиночку. Кому-то слышатся голоса, кому-то музыка, кому-то далекий детский смех». Главный хранитель музея признается: «Когда беру в руки дворцовые куклы, что-то неосязаемое заставляет внутренне сжаться, я испытываю страх. Эти игрушки отняли у детей, и похоже, что вещи преданно несут в себе горе своих хозяев».
Некая аналогия с Царскосельским лицеем была и в том, что нас вольно или невольно приучали к обществу тогдашних вождей. В знаменательные дни, такие как, скажем, дни очередного съезда партии, мы ходили в Кремль приветствовать его участников. Случалось видеть наших вождей прямо перед собой не только по таким торжественным дням: дружба или совместное сидение за домашними заданиями приводили в самые высокопоставленные дома. Один такой сошедший с портрета вождь как-то упрашивал меня опекать в школе его нерадивого сынка.
Я уже упоминал, что в нашей школе учились и дети лидеров иностранных компартий, а также руководителей Коминтерна, тогда очень влиятельной и на весь мир известной международной организации. Ее главная цель заключалась в том, чтобы воплотить в жизнь мечту Ленина и Троцкого о мировой революции. Энрико и Уайльд — так звали моих одноклассников, сыновей известных тогда зарубежных коммунистических лидеров. Они быстро обрусели, так обычно в схожих ситуациях бывает со всеми детьми, и практически ничем от нас не отличались. В те годы вообще вопроса о национальном происхождении у нас не возникало, наш детский коллектив в данном случае отражал определенные общие закономерности. Как-то у одного моего одноклассника спросили, какой он национальности, тот ответил: «Я —интернационалист». И это никого не удивило, никто и не задумался над тем, что нет такой национальности, нам было абсолютно все равно, кто к какой из них принадлежит. Так же мы относились и к своим одноклассникам-иностранцам, их у нас было пятеро. В нашем детском коллективе все были равны.
Атмосфера и отношения в школе были простыми, демократичными, но не без некоторых издержек. Например, за двумя Светланами, Сталиной и Молотовой, по школьным коридорам всегда следовали их сопровождающие — сотрудники НКВД. Другой штрих — каждое утро, перед началом занятий, и днем, после уроков, у школьных ворот собирались машины, обслуживавшие детей высокопоставленных родителей. Это очень бросалось в глаза, ведь тогда автомобилей вМоскве было совсем немного, а личных вообще не полагалось.
Я ходил в школу пешком, вернее совершал до нее короткую пробежку, поскольку находилась она в соседнем от меня дворе. Но в предпраздничные и предвыходные дни я, как и многие мои соученики, выходил из школы, забирался в автомобиль, который катил меня через Москву за город, в заповедный район, где отдыхали руководители страны и столицы. Ехать вот так одному среди бела дня, на виду у всех, на переднем сиденье рядом с водителем, было приятно. До сих пор стоят перед глазами городские приметы, мелькавшие вдоль нашего привычного маршрута. В конце его мы попадали в ухоженный лес, где в уютных, удивительно по тем временам комфортабельных строениях и проводили свободное время наши родители и мы, их дети. Взрослые и дети жили в разных домах. Судя по тому, как ублажали нас, нашим папам и мамам тоже было хорошо.
Почти свой и в то же время абсолютно государственный автомобиль, роскошь и комфорт в чудесном уголке Подмосковья, тоже почти своем, но опять-таки все же государственном. И другие такие же приметы на каждом шагу с детства окружали нас, неожиданно избранных.
Программа обучения в нашей школе была такая же, как и во всех других столичных десятилетках, но вот учителя у нас были отменные. Я до сих пор по-доброму и с благодарностью вспоминаю их. Среди них было немало мужчин. Именно они в первую очередь встают передо мною, когда я думаю о родной школе.
Не каждый учитель так врежется в память, как, например, наш математик, профессор Юлий Осипович Гурвиц. Удивительного педагогического таланта был человек! Врожденная душевность и справедливая строгая требовательность — вот главные качества, которые, думаю, составляли основу его таланта. Мы нежно любили (я это точно помню!) нашего старого учителя, хотя за глаза подшучивали над ним, повторяя его характерные словечки и жесты. Случалось, он шумел и сердился на нас, но на него мы обижаться не умели. Ему было мало школьных уроков, которые он вел просто артистически! Во что бы то ни стало вызвать наш живейший интерес — вот была его главная цель. Он вел математический кружок. Часто мы собирались у него дома, в уютной старинной квартире, за чашкой чая. Эта немудреная процедура придавала в наших глазах какой-то особый вес занятиям, как бы приравнивала нас к учителю, еще больше приближала к нему. И это благодаря ему мы, члены кружка, уже тогда хорошо знали аудитории Московского университета, куда регулярно ходили на математические олимпиады школьников и добивались там немалых успехов.
Славный был у нас историк, Петр Константинович Холмогорцев. Увлеченный своим предметом и умевший увлечь. Однажды, в восьмом классе, он написал на доске тем двадцать на выбор для домашнего сочинения по истории. Каким-то чудом у меня до сих пор сохранилось написанное мною сочинение на тему «От смерда до крепостного крестьянина», целая тетрадь на 24 страницы. Почему я тогда выбрал именно эту тему? Потому что считал ее самой сложной из всех предложенных и хотел тем самым не столько отличиться, сколько порадовать своего учителя.
И еще об одном нашем наставнике, учителе физкультуры Ефиме Михайловиче Новикове. Это благодаря ему я в школьные годы провел в физкультурном зале времени, наверное, не меньше, чем в классе. А он, похоже, и жил в этом зале! На ночь только исчезал куда-то. Через день он вел занятия физкультурного кружка (спортивная гимнастика) на уровне, можно сказать, вполне профессиональном, год за годом! А сколько было у нас жарких волейбольных сражений! Зимой ходили за город на лыжах под руководством Ефима Михайловича. Самозабвенно любил он свое дело. Бесхитростный, открытый и цельный был человек. Погиб на Великой Отечественной, как и многие его воспитанники, которых он сделал сильными и ловкими. В 1941 году я ушел на запад, навстречу войне, со взрослым значком «Готов к труду и обороне», который прикрепил к моему пиджаку Ефим Михайлович. Его выучка очень пригодилась мне в жизни, очень помогла.
Спорт вообще занимал много места в нашей школьной жизни. Немало удовольствия доставлял нам дикий, вовсе неорганизованный мальчишеский футбол. Часто после уроков мы стремглав бежали ко мне домой (я жил ближе всех к школе), оставляли у меня портфели, хватали футбольный мяч и спешили на Малую Дмитровку, где садились в трамвай, идущий в Тимирязевский парк. Весело позванивая, не спеша поспешая, не забитый людьми среди дня так, как это бывает в часы пик, московский трамвай доставлял нас в славный зеленый уголок столицы, где было малолюдно, но зато много раздолья, больших зеленых полян. Мы выбирали себе одну из них и гоняли там мяч до изнеможения.
Главным зимним развлечением у нас был каток «Динамо» на Петровке. Туда ходили по вечерам, класса с шестого — вместе с девочками. А потом провожали их домой. Мою одноклассницу, спортсменку и красавицу Оленьку, я в состоянии абсолютного блаженства провожал с Петровки до Ленинградского шоссе (ныне— Ленинградский проспект), где она жила. Путь далекий, но проделывали мы его пешком, продлевая тем самым вечер. До сих пор помнятся мелодии и слова незамысловатых, как правило, песенок, под которые мы кружились по льду. Апотом шли передохнуть в раздевалку и с важным видом наведывались в буфет, где пили пиво. Нам тогда нравилось черное, «бархатное».
Было у нас и еще одно развлечение, для того времени не совсем обычное. Мы регулярно посещали Сандуновские бани, где нас привлекали парилка и бассейн. Высший разряд этих бань был отделан по-купечески, весьма колоритно, что не могло нам не нравиться.
Непосредственно к спортивным впечатлениям моих школьных лет примыкают шахматы. Многие мальчики нашего класса одержимо играли в шахматы. В школе один турнир следовал за другим. Играли всерьез, изучали теорию, разбирали партии мастеров и гроссмейстеров. И это неудивительно: мы подрастали в самое шахматное для страны время. Тогда шахматы стали невероятно популярны, во всех скверах и дворах взрослые и дети играли в них! Во время международного шахматного турнира в Москве, в Колонном зале Дома союзов висел лозунг: «Догнать и перегнать капиталистические страны в области техники шахматного искусства!»
Перед самой войной я играл в шахматы весьма недурно: с моим соседом по парте мы могли играть на уроках без доски, ничем не вызывая подозрений учителя. Увлекала нас своим азартом и еще одна игра, карточная, — покер. Мы часто играли в нее у меня дома после уроков. Это очень захватывающее занятие! Но мы играли не на деньги, а на фишки. Несчитаное количество часов занял у нас еще бильярд, тоже у меня дома или же у одного из наших одноклассников, жившего неподалеку от школы.
Когда я сегодня вспоминаю школьные годы, то не перестаю удивляться тому, как много мы успевали всего понаделать и в классе, и дома, и во дворе, и на улице! Откуда у нас на все это бралось время?! Не разгаданный никем секрет детства? Яточно вижу, что мои дети и внуки успевали и успевают гораздо меньше. Из-за телевизора и компьютера? Наверное. Жаль, что у них нормальная жизнь заменяется виртуальной.
Ко всему прочему многие из нас читали запоем. К началу войны, к шестнадцати годам, я по первому разу прочитал русскую и европейскую классику XIX века, советских книг тогда было еще немного, и они привлекали меня меньше. Может быть, рановато для такой литературы в подростковом возрасте? Уже много лет спустя я прочитал у Марины Цветаевой: «Дети не поймут? Дети слишком понимают! Семи лет Мцыри и Евгений Онегин гораздо вернее и глубже понимаются, чем двадцати. Не в этом дело, не в недостаточном понимании, а вслишком глубоком, слишком чутком, болезненно верном!» Со свойственным ей максимализмом Цветаева, думаю, переборщила, взяв для примера семилетний возраст, но для подросткового возраста ее слова звучат вполне справедливо. Вмои школьные годы все знакомства и дружбы со сверстниками начинались обязательно с разговора о том, кто и что читал, какого он об этом мнения. Так по литературным вкусам и сходились, они были главным определяющим фактором в наших отношениях.
Книги и театр, которым я в те годы тоже сильно увлекался, дали мне, наверное, все же больше, чем школа. Это они, а не занятия в классе привели меня в тринадцать лет к мысли писать дневник, который так или иначе я веду до сих пор, закончится он, наверное, только вместе со мной. Любопытно, что публикация нескольких отрывков из моей личной летописи вызвала целый обвал откликов, причем как добрых, так и негодующих. Правда, последних было немного, но все они — с красно-коричневым оттенком. Со школой связано много интересных историй. Вот одна из них. О ней я намеренно рассказывал многим своим сверстникам, учившимся в разных школах. Никто из них не мог припомнить ничего подобного. Речь шла, как мы, любопытные мальчишки, тогда говорили, о «процентах ума», а дело было в следующем.
Еще в 30-е годы у нас в стране существовали так называемые педологи, были они и в нашей школе. Время от времени они по одному вызывали нас к себе в кабинет. Каждая такая встреча растягивалась минут на двадцать. Садился вызванный школяр за стол напротив тети в белом халате. Для начала она давала ему две коробочки.
— Какая из них тяжелее? — спрашивала тетя и задавала еще разные другие вопросы. Например, предлагала:
— Ну, сейчас покажу тебе картинку, а ты постарайся запомнить, что на ней изображено. Я ее уберу, а ты нарисуй ее так, как запомнил.
Она показывала картинку: в окружность вписан квадрат, в него треугольник и т. п. Такого рода тестов было немало. Они шли один за другим в ходе непринужденной беседы. Ее результаты тетя в халате аккуратно записывала.
Короче говоря, это было тестирование интеллектуального развития, о чем мы, мальчишки, тогда не подозревали, хотя и догадывались, что дело касается умственных способностей. На основании таких тестов выводился «коэффициент интеллектуальности».
Педологи проверяли нас довольно регулярно. Мы уже дознались о том, что у них существует особая шкала для «процентов ума»: сто, чуть выше или ниже было нормой, а вообще колебание шло обычно в пределах 80—120 процентов. Нам, разумеется, о результатах обследований не сообщали. А детскому любопытству предела нет. Как мы могли спокойно жить, не зная, у кого сколько ума?! Выяснить это было для нас необходимо. Задумано — сделано. Как-то ближе к вечеру, когда школа опустела, три друга (и я в том числе) подкрались к двери врачебного кабинета. Она, естественно, была заперта. Просунув в щель около язычка замка длинную стамеску, мы без труда открыли дверь. Прикрыв ее за собой, забрались в картотеку и разыскали там дела нашего класса. Затаив дыхание, начали их изучать. Вначале, разумеется, поинтересовались своими «процентами ума», потом и другими. Теперь жить стало легче, еще одной тайной меньше, довольные покидаем кабинет, прикрыв за собой дверь.
А вскоре в газетах появились статьи, из которых следовало, что педологи и шарлатаны — это одно и то же. Есть у меня подозрение, что на наших педологов обрушились не без помощи некоторых родителей нашей школы. Не у всех высокопоставленных родителей дети отличались умом и хорошей успеваемостью — начиная с Васи Сталина, который безобразно учился и без конца хулиганил. Совершенно беспробудным лентяем был и мой одноклассник Лева Булганин, по отношению к учебе он был каким-то заторможенным, хотя вне класса вел себя абсолютно нормально. У нас в школе были заведены такие порядки, при которых все родители без исключения получали самую объективную информацию о том, как идут дела у их детей. Все до единого! Начиналось это с самого главного — с отметок. Так, Светлана Сталина была круглой отличницей и на самом деле прекрасно успевала, а вот ее брат, Василий, перебивался с двоек на тройки. Сам Сталин, кстати, постоянно расписывался в дневнике Светланы за каждую неделю (так было положено). Она была моей сверстницей, и мы часто разглядывали подпись Сталина, сделанную четкими крупными буквами.
Сохранился документ — письмо самого Сталина в школу в ответ на жалобы по поводу учебы и поведения Василия, в нем вождь, в частности, писал: «Ваше письмо о художествах Василия Сталина получил. Спасибо за письмо… Василий избалованный юноша средних способностей, дикаренок (тип скифа!), не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких “руководителей”, нередко нахал, со слабой, или вернее, неорганизованной волей. Мой совет требовать по строже [так в оригинале. — В. Н.] от Василия… К сожалению, сам не имею возможности возиться с Василием. Но обещаю время от времени брать его за шиворот».
Другие большие родители тоже были хорошо осведомлены о школьных делах своих сыновей и дочерей. Возможно, кое-кому из них не понравились низкие «проценты ума» их отпрысков. Кстати, не секрет, что подавляющее большинство наших самых высоких партийных и государственных руководителей были людьми необразованными, даже малограмотными, и, разумеется, плохо воспитанными. За примерами далеко ходить не надо! У В. Молотова за плечами было только реальное училище. Л. Каганович и Н. Хрущев не имели и четырехклассного начального образования… Этот перечень можно продолжать и продолжать! Сталин, например, не доучился до конца в семинарии…
Люди с такой вот биографией обычно очень обидчивы, их всю жизнь заедает комплекс недоучки. И поэтому они тем более уповают на так называемый природный ум. Вполне может быть, что из такой обиды и зародились в нашей стране гонения на педологов, которые были уничтожены заодно с генетиками и кибернетиками.
Но вернемся в наш советский лицей. К середине 30-х годов для нас, рожденных в 1925-м, приближалось время превращаться из мальчиков и девочек в подростков, т. е. заметно взрослеть. Случилось так, что жизнь резко подстегнула, ускорила этот процесс.
Как-то перед началом уроков к нам в класс вошли наш классный руководитель, все тот же математик Юлий Осипович, и старший пионерский вожатый нашей школы. Непривычно для нас запинаясь, с трудом подбирая слова, старый учитель сообщил нам, что у нашей одноклассницы Наташи (к слову, очень милой и нежной девочки) отец арестован как «враг народа». «Но вы должны, — продолжал он, — по-прежнему хорошо относиться к Наташе, она лично ни в чем не виновата. Отец ее — это одно дело, Наташа — другое. Она была и будет членом нашего школьного коллектива».
На всегда розовых щечках Наташи проступают белые пятна, на глазах — слезы, тонкие белые пальчики стиснули черную крышку парты.
Это было первое и последнее подобное публичное, перед классом, объявление. Потом родителей моих одноклассников стали арестовывать одного за другим. Об этом мы говорили между собой шепотом. Вскоре у доброй половины ребят нашего класса отцы (часто и матери тоже) были арестованы как «враги народа».
Перед самой войной, в мае 1941 года, наш класс сфотографировался по случаю окончания учебного года. Никто тогда, конечно, не думал, что это прощальный снимок. Кто бы мог предположить, что через несколько недель война разбросает нас во все стороны и другого такого снимка уже никогда не сделать? Смотрю на него и вижу — на нем больше полкласса сирот! После XX съезда партии, т. е. после 1956 года, их родители были реабилитированы, но ни один из них не вернулся, реабилитированы были уже не люди, а память о них.
А в те годы еще было далеко-далеко до XX съезда партии, и слова-то такого «реабилитация» не было в ходу. Мои вдруг осиротевшие одноклассники сразу повзрослели. На них обрушилось горе невиданное. Тем более страшное, что были они из семей благополучных, обеспеченных. К тому же родители их были людьми более чем уважаемыми, имена и портреты многих из них были знакомы каждому. И вдруг — «враг народа»!
Чудовищна была эта обрушившаяся на всю страну беда. Но ни учителя, ни ребята не изменили своего отношения к детям репрессированных. Настолько их вдруг стало много, этих «врагов народа», что, вероятно, ни разум, ни сердце не могли поверить в реальность «вражеских» происков. Не было ужаса перед тем, что вот такое обилие «врагов» сейчас тебя погубит. Был ужас перед нараставшей волной арестов. Был ужас, как во время стихийного бедствия, землетрясения, наводнения.
Известно, что при аресте отца и матери их детей отправляли в специальные приюты для детей «врагов народа». Участь их там была страшной. У нас же в школе таких потерявших родителей ребят не тронули, они остались с нами, приютившись у своих родных. Этот парадокс можно объяснить только тем, что с первого класса мы все были вместе, и с годами завязались детские дружеские связи. Оставшиеся на свободе большие родители могли еще кое-как объяснить своим детям, что исчезнувшие из жизни хорошо знакомые им люди оказались «врагами», но было бы труднее объяснить, за что пострадали их дети. У меня лично сложилось именно такое впечатление: наличие среди нашего школьного коллектива таких ребят, как дети Сталина, Молотова и других вождей, спасло от еще более тяжкой участи мальчишек и девчонок, чьи родители бесследно исчезли за решеткой. Можно сказать, что их спасли какие-то неписаные, но уже тогда создавшиеся устои нашей школы, советского лицея.
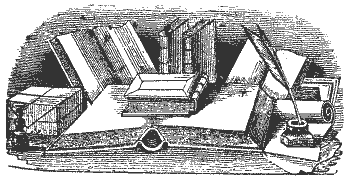
С началом массового террора наша школьная жизнь стала тише и тусклее, меньше стало домашних дней рождения и просто посиделок, которые раньше регулярно устраивались то у одного, то у другого. Вместе с пострадавшими ребятами все мы повзрослели раньше, чем положено. Частые домашние вечеринки хорошо познакомили нас со многими родителями, мы за несколько лет привыкли к этим чужим папам и мамам, которые вдруг исчезли из жизни. Они всегда были милы с нами, эти здоровые и жизнерадостные мужчины и женщины, им было где-то около сорока лет! Нет, в нашем сознании они никак не вязались со страшными образами врагов, вредителей, диверсантов и убийц.
Эта трагедия, разумеется, не ограничилась рамками нашей школы, она была всенародной. В доме, где я жил, и в соседних домах все больше и больше квартир оставалось без владельцев. Аресты производились по ночам, а утром по подъездам и дворам со скоростью всех плохих новостей проносилось еще несколько имен только что выявленных «врагов народа».
За многие годы сталинского террора его жертвы исчислялись миллионами. Их расстреливали, они погибали в тюрьмах от пыток, в концлагерях — от голода и невыносимых условий существования, обо всем этом сегодня широко известно. Меньше обращается внимания на то, что никто из этих невинных жертв не мог даже предположить, почему на его долю выпали такие мучения. Несколько иначе обстояло дело в семьях наших лицеистов. Там многие родители были настолько близки к узкой правящей верхушке, что вполне могли знать или догадываться о том, что им грозит.
Вот только один конкретный пример — судьба моего одноклассника и хорошего приятеля Юрия. До революции родители его матери были врачами, отец состоял в партии большевиков с 1903 года, близко знал Ленина, был членом Государственной думы. А его жена, бабушка Юрия, основала в 1919 году то, что тогда называлось Лечебно-санитарным управлением Кремля. Звали ее Александра Юлиановна Канель. Лечила она тогдашних вождей и их семьи. Была лечащим врачом жены Сталина, Надежды Аллилуевой, по-человечески оказалась с ней очень близка, что и послужило потом причиной страшной трагедии для всей ее семьи.
Надежда Аллилуева часто жаловалась Александре Юлиановне на свою жизнь с мужем, не раз пыталась его покинуть. В ноябре 1932 года она при странных обстоятельствах неожиданно в расцвете лет ушла из жизни. То ли она покончила с собой, то ли сам Сталин в ссоре застрелил ее. В то время Александра Юлиановна была главным врачом Кремлевской больницы, и от нее потребовали подписать заключение о том, что Аллилуева скончалась от приступа аппендицита. Она отказалась. Сталин этого, разумеется, не забыл. Вскоре Александра Юлиановна при странных обстоятельствах неожиданно скончалась, а работавшие с ней врачи и многие другие люди из ее окружения были арестованы и бесследно исчезли навсегда. Не забыл Сталин и о дочерях А. Ю. Капель.
Я хорошо помню мать Юрия и ее сестру. В доме Юрия я впервые в жизни ощутил тот факт, что, помимо нашего, с детства привычного для меня, мира, есть и другой, совсем на него непохожий. Именно ощутил, а не узнал из учебников географии и истории. Как я уже упомянул, семья его была из дореволюционной еще интеллигенции, и многие родичи его постоянно жили во Франции. На многочисленных фотографиях я видел мать Юрия на фоне зарубежных пейзажей, эти снимки она привозила из своих поездок к родным. Выглядела она на них и в жизни обаятельной светской львицей. Дух неведомой тогда у нас западной цивилизации и комфорта наполнял совершенно роскошную, особенно по тем временам, квартиру семьи Юрия. Отец его был одним из видных хозяйственных руководителей в масштабах всей страны и жил соответственно своему положению.
Юра жил в десяти минутах ходьбы от меня. Мы любили собираться у него дома не меньше, чем у меня. Человек по десять-пятнадцать заполняли его квартиру на елках и других праздниках, а то и просто так, без особого повода. Можно себе представить, какой кавардак мы там после себя оставляли. Но его родители всегда были с нами очень приветливы.
Отец Юрия был арестован одним из первых среди родителей наших одноклассников. Но, как ни странно, никаких видимых изменений сразу не произошло. Случилось так, что его мать вскоре вышла замуж за одного тоже очень большого начальника. Мы по-прежнему собирались в доме у Юрия и еще успели полюбоваться на крохотного младенца, которого мать Юрия родила уже от нового мужа. Новорожденный был еще грудным младенцем, когда одновременно арестовали и мать, и отчима Юрия.
О Юре, которому от всей громадной квартиры осталась его крохотная «детская», стал заботиться его дядя, инженер по профессии. А младенца, сводного Юриного брата, я увидел в люльке, в огромной кухне их квартиры, которая сразу стала коммунальной. Над люлькой, затиснутой в угол кухонными столами новых жильцов, хлопотала старая няня, которая растила еще Юрия. Вскоре она вернулась в свою родную деревню, не одна, а с младенцем, который неожиданно осиротел. Видно, она была так глубоко поражена всем, что случилось, такой вопиющей несправедливостью, что просто не могла не взять с собой чужого ей ребенка. Спасибо простой русской няне! В доме ребенка младенцу, рожденному от «врагов народа», выжить едва ли удалось бы. А с помощью няни он дожил до весьма почтенного возраста.
В нашей школе таких семей, как Юрина, с богатым, еще дореволюционным прошлым, с тесными связями в самых высоких кругах партии и государства, было немало. Если бы удалось написать их историю, то получилась бы интереснейшая и трагическая хроника времени и нравов, об этом до сих пор еще мало кто знает…

Последние предвоенные годы прошли в стране под знаком все набиравшего темпы милитаризма, вернее милитаризации всей нашей жизни, от армии до детских и учебных учреждений.
По нашей просторной школе, бывшей гимназии, пронзительно разносилось завывание сирены, возвещавшей о воздушной или же химической тревоге. Пока учебной… С ее первыми звуками мы выскакивали из-за парт и пулей вылетали из классов, устремляясь на свои «боевые посты». Оглушительно хлопали огромные и тяжелые классные двери, гулкой дробью рассыпался по паркету топот бегущих. Несколько минут — и все замирало: школа изготовилась к возможному нападению. Все находились на своих постах, у каждого на боку — противогаз.
В те годы противогаз был таким же спутником нашей жизни, как, скажем, школьный портфель. Все были убеждены, что грядущая война будет химической. И готовились к ней основательно. У нас были специальные уроки по химической обороне, которые устраивались после основных занятий. Нам читали лекции о боевых химических веществах, отравляющих все вокруг, и о мерах борьбы с ними. Книжки, по которым мы готовились к химической войне, были потолще иных наших учебников. До сих пор застряли в памяти названия газов: иприт, фосген. Мы знали их по запаху и другим приметам. Значок ПВХО (противовоздушная и химическая оборона) красовался у нас на груди, рядом с ним, как правило, висели и другие: «Ворошиловский стрелок», ГСО (готов к санитарной обороне), БГТО (будь готов к труду и обороне) — физкультурный. Зря они не выдавались, нужно было приложить немало усилий, выполнить разные положенные нормативы, чтобы получить их.
Вполне естественно, что в то время многие ребята мечтали о военной службе и после школы устремлялись в военные училища, особенно в авиационные и морские, конкурс туда был огромный! «Помни о войне! Готовься к ней!» — слышалось отовсюду. «Надень противогаз», — так называлась газетная статья начальника Управления противовоздушной обороны, командарма первого ранга С. Каменева. Ав популярной детской кинокартине «Личное дело» два ее героя, школьники, во время учебной тревоги надели противогаз на бюст Сократа в школьном коридоре. Другой пример. Входит в строй метро, а в газетах пишут статьи под названием «Метрополитен и оборона страны». Наш школьный подвал был переоборудован в стрелковый тир. Мы по очереди ложимся на маты и стреляем по мишеням. От затворов винтовок поднимается сизый дымок с резким и уже хорошо знакомым запахом пороха. Он почему-то приятно щекочет ноздри… Разбираем и собираем прославленную русскую винтовку и пулемет. Изучаем ружейные приемы. Маршируем на строевых занятиях. Прыгаем с парашютной вышки…
Все это в те годы было присуще не только нашему лицею, т. е. школе все же не совсем обычной. Стоит напомнить, что в то время Сталин был еще сильно привязан к своей дочери, Светлане, гордился ее школьными успехами и был хорошо осведомлен о том, как и чему нас учили, как воспитывали. Все, что происходило в нашей школе, было хорошо известно вождю и не могло не носить печать его одобрения. И само собой разумеется, что во всех остальных, обыкновенных школах дело шло на тот же манер.
В канун войны в коридорах нашей школы стали все чаще появляться юноши в новеньких, с иголочки, военных мундирах. Это вчерашние наши выпускники, курсанты военных училищ, навещали свой дом, ставший родным за десять лет учебы. Они приходили не только для того, чтобы покрасоваться. У нас в школе, как я уже отмечал, были среди учителей действительно редкие личности, к ним и приходили их воспитанники.
Однажды, незадолго до войны, наш математик, Юлий Осипович, привел ссобой на урок юношу в форме танкиста, только что окончившего училище, и представил его нам как одного из самых своих любимых учеников. Старик говорил о нем так трогательно, что голос у него дрожал. Весь урок парень простоял у стенки, почему-то отказавшись сесть за парту на свободное место. Его влюбленные глаза не отрывались от нашего учителя, который время от времени нежно поглядывал на него. Это было прощание. Старик знал это. Наверное, нечто подобное ощущал и парень. Неправдоподобно юный для военной формы, розовый, свежий, чистый, подтянутый, весь устремленный вперед. Неслышный этот диалог двух сердец, ученика и учителя, юноши и старика, и сегодня звучит для меня как пророческий реквием по целому поколению, шагнувшему со школьной парты прямо в войну и смерть.
Из воспоминаний о войне в памяти сохранилось несколько четко запечатленных сцен, словно фотографий, они случайны, но до сих пор со мной. Первой в ряду таких фотографий памяти стоит именно этот урок математики, с него начинается моя личная история войны — со взглядов, которыми обменялись перед вечным прощанием учитель и ученик.
Через месяц после начала войны Москву начали бомбить. Несколько ребят из нашей школы под руководством нашего физкультурника каждый раз бежали по тревоге к ней, забирались на крышу и ждали «зажигалок», чтобы их тушить. Так продолжалось несколько дней, а вскоре пришло и наше последнее дежурство.
Было прохладно, поэтому мы сгрудились не на крыше, а на чердаке. И мы еще не знали, что нам чудовищно повезло, когда мы решили не выбираться без надобности на крышу. Затем заспорили с Ефимом Михайловичем. Он требовал, чтобы мы разделились на две группы и разошлись в разные концы чердака. Мы же категорически протестовали. Вместе, мол, веселее ночь коротать, а до «зажигалки» добежать всегда успеем. Как-то мы одолели нашего учителя и уселись в середине чердака. Так нам повезло в ту ночь во второй раз. Ухали бомбы, громыхали зенитки, трещали пулеметы… И вдруг раздался пронзительный чудовищный вой. Он стремительно нарастал, но тут же, разодрав уши, потонул в грохоте взрыва и скрежете железной крыши. Она приподнялась и снова опустилась на прежнее место. Страшная пыль закрыла от нас все на свете, забила нос и глаза. Мы оглохли и ничего не могли разглядеть. Показалось, что здание качнулось.
Мы двинулись к выходу с чердака, пробирались на ощупь. И тут обнаружили, что наш дворник, сидевший с нами на дежурстве, ранен. Остальные уцелели, только в голове гудело. Подхватили его под руки и наполовину несли, наполовину волокли. Труднее всего было на лестнице, она покачивалась, за перила не схватиться. Спускались по ней, держась за стену, она пошла трещинами. Повезло еще, что постройка была старинная.
Бомбой оторвало угол здания, а около стены, на заднем дворе, образовалась большая воронка. Если бы мы по совету физкультурника разбились на две группы, расположившись по краям чердака, то одна из групп, несомненно, погибла бы. Наверное, от нее не осталось бы и следа.
Наша школа в Старопименовском переулке (между площадями Пушкина и Маяковского) стоит по-прежнему как школа № 17, после войны ее даже надстроили. Во дворе сооружен памятник: четыре фигуры — две девушки и двое парней. Они уходят. Один из парней прощально машет рукой. На постаменте надпись: «Школьникам Свердловского района Москвы, павшим в 1941—1945 гг.». Летом 1941-го небольшой отряд лицеистов-старшеклассников вместе с тысячами других школьников района отправился в Смоленскую область на строительство оборонительных рубежей, которые вдруг оказались необходимы. Но это уже другая история.

Восьмой класс, май 1941 года.
В центре классный руководитель, профессор Ю. О. Гурвиц. Родители многих учеников к этому моменту уже репрессированы.