Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 2, 2002
Да, это затруднительно,
понеже образование весьма мало распространено, но…
Л. Н. Толстой. Война и мир
(том второй, часть третья)
Я ученый не только по профессии, но и по мироощущению. Хотя бы в силу этого, судьбы нашей науки и образования мне небезразличны. Часто приходится слышать, что наука и образование в России окончательно погибли, что ученые голодают, уезжают на Запад («утечка мозгов»), что молодежь не хочет учиться и гонится только за деньгами, и прочее.
Хотелось бы разобраться, так ли это. Что за процессы произошли в нашем научном и университетском сообществе, все ли так плохо? В самом ли деле ситуация безнадежна или еще можно что-то сделать?
* * *
A la recherche du temps perdu*
Сперва про науку. Все жалуются на то, что наука в стране кончилась и жить ученому нельзя. Более того, многие говорят, что при советской власти наука в стране была и жить было можно.
И то и другое и верно, и неверно. Начнем с советской власти. В стране был миллион научных работников, это звучало гордо. Говорили, правда, что научно-исследовательские институты — это форма организации сезонных сельскохозяйственных рабочих. Большая часть этого миллиона работала не в фундаментальной науке, но и не занималась конкретными приложениями. Вместо этого развивалась так называемая отраслевая наука, не нужная ни науке, ни производству. Мне довелось работать в трех таких учреждениях. Количество сотрудников, у которых ни разу в жизни не возникла мысль поработать, не поддавалось никакому учету. Помню, заведуя сектором, я доказывал начальнику отдела, что он зря ругает тех, кто на рабочем месте вяжет свитера: куда хуже были те, кто и на этот трудовой подвиг были неспособны. Этот мыльный пузырь лопнул очень быстро. Люди ушли в торговлю, институты были переведены на хозрасчет и, явно или неявно, приватизированы.
Славу советской науки составляли фундаментальные дисциплины, где людей было не так много, но уровень их был действительно исключительно высок, и области, куда государство бросало много средств, как денежных, так и моральных (например, разрешение брать на работу не по анкете, а по деловым качествам). Таковы космос, производство вооружений, атомная энергетика, ядерная физика, химия и биология, связанные либо с производством оружия в нарушение международных конвенций, либо с защитой против него. Эффективность и там была очень низка, говорили, что зачастую закрытые диссертации защищаются тогда, когда стыдно делать это в открытую. Но страна была богата блестящими учеными, и дело шло.
* * *
Конечно, удав любил бананы, но еще сильнее он любил совершать научные действия.
Г. Остер. Ненаглядное пособие
Что же сейчас? Если мы возьмем развитую страну Запада, то там ученый живет на зарплату и занимается наукой и/или преподаванием, от этой науки и преподавания его, в общем, ничто не отвлекает. В реальности, конечно, это не буквально так. Есть и среди западных ученых люди, которые хотят сделать быструю карьеру, начинают сразу заниматься администрированием, общественной деятельностью и т.д. Но, по крайней мере, у человека есть выбор. Ученые, особенно теоретики, которые мне ближе, могут вообще никогда не ходить на работу, сидеть у себя дома и заниматься наукой. Или, наоборот, приходить на работу каждый день, отключать компьютер и телефон, запирать дверь своего кабинета и делать то же самое. Так было и у нас при советской власти. Во времена моей молодости, правда, младший научный сотрудник уже скорее полагался на финансовую поддержку родителей, но доктор наук еще имел возможность ни о чем, кроме науки, не думать.
Десять лет назад ситуация изменилась очень резко. И сообщество ученых прореагировало вполне адекватно. Началось то, что называют «утечкой мозгов». Здесь есть два заблуждения.
Отъезд человека из Московского университета в американский — это только часть проблемы, причем небольшая. «Утечка» гораздо серьезнее, когда человек уходит в бизнес или становится администратором. Предположим, произошло чудо и ученым вдруг стали хорошо платить — из тех, кто уехал на Запад, половина может вернуться. Но человек, который десять лет проработал здесь вбизнесе или управлении, в науку вернуться не может — квалификация потеряна, точнее, приобретена другая квалификация. Такого человека можно вернуть в лучшем случае в научную администрацию. Это же зачастую относится к тем людям, которые якобы по-прежнему занимаются наукой — человек даже и на работу в свой институт ходит, но, поскольку ему непрерывно приходится подрабатывать, для науки он скорее всего тоже потерян. Грустно, но факт. Среди моих друзей и знакомых таких много.
Второе заблуждение: с голоду ученый не умирает, голодает бывший ученый, торгующий сейчас газетами, равно как и миллионами ворочает бывший ученый, вовремя открывший свою компанию, а тот, кому повезло остаться ученым, живет как и раньше, средне, хотя и весьма скудно по сравнению со своим уехавшим коллегой.
Итак, несмотря ни на что, эти люди занимаются наукой. Как же им это удается? Конечно, хорошо, когда у человека есть независимые средства. Но в наших условиях независимые средства имеют лишь те, кто может сдавать квартиру. Хороший вариант, когда у человека есть побочная профессия. Скажем, он свободно владеет несколькими иностранными языками плюс обладает репутацией в соответствующей области. Тогда он может переводить нашу научную литературу или редактировать переводы. Больших денег, правда, это не приносит.
Другая группа, которая выживает, — это люди, работающие и здесь и там. Их довольно много, особенно среди ученых с именем и талантливой молодежи. Допустим, человек работает в американском университете месяцев восемь в году, а здесь проводит лето и конец декабря — начало января. Такой ученый успевает унас и на семинары походить, и с людьми поговорить, иногда даже и попреподавать. Кстати, молодой ученый, уезжая, многому там учится, так что польза от него могла бы быть немалой, одна беда: у нас в это время тоже каникулы. Реже встречается вариант, когда человек полгода здесь, полгода там или вообще живет как маятник. Сюда же относятся и те ученые, которые регулярно ездят в различные университеты. Это тоже нехорошо, поскольку необходимость ездить, чтобы жить, съедает массу сил, но все же лучше, чем совсем бросить науку.
Наконец, третья группа. Тех, кто к ней относятся, и учеными-то в собственном смысле назвать нельзя. Это люди, которые оказались во главе институтов и иных научных административных организаций, обладающих, например, помещениями или значительным госфинансированием. Эти люди, многие из которых были некогда очень хорошими учеными, львиную долю своего времени посвящают зарабатыванию денег.
Хуже всего то, что молодой человек, заканчивающий, скажем, наш университет, знает: уехав в Гарвард или в Париж, он будет там безмятежно заниматься наукой, а оставшись у нас, должен будет думать, как жить. Молодой человек часто ориентируется на своего профессора, и поскольку он не видит, что профессор смог выжить в России, занимаясь только наукой, то он скорее будет настроен на жизнь там. Или здесь, но без науки.
* * *
Хотелось бы обратить внимание еще на одно заблуждение, что «утечка» — это якобы очень плохо. Гораздо хуже для России была отрезанность нашей науки от мировой, неспособность наших ученых в пятидесятые-шестидесятые годы читать научные журналы из-за незнания языков, невозможность обсудить возникшую идею с коллегой из «того» мира. Вряд ли для стратегических целей страны безразлично, что бесчисленные выпускники наших университетов занимают ключевые посты в научных, производственных и административных структурах других развитых стран. Вольно или невольно эти люди внедряют нашу культуру, наши взгляды и подходы в сознание своих новых сограждан. Думаю, многие страны не прочь бы в этом с нами поменяться.
Кроме того, уехавшие наши знаменитости сохраняют научный и человеческий контакт с оставшимися коллегами. Конечно, жаль, что уехали все пять советских лауреатов медали Филдса — аналога Нобелевской премии для математиков. Но один из них очень часто приезжает и активно влияет как на сами научные исследования, так и на научную политику, а к другим непрерывно ездит учиться наша молодежь.
Обидно, что Microsoft нашел деньги на фундаментальные исследования в области квантовых вычислений, а наши компании не нашли и что теперь один из лучших специалистов в этой области получает свои 200 тысяч долларов в год там, а не 40 тысяч рублей здесь, но книги-то он пишет по-русски, да и лекции здесь читает, когда там у него отпуск.
Обидно, что один из ведущих математиков мира пытается создать теоретическую биологию под Парижем, а не в родном Питере (кстати, «утечка» еще советских времен). Но опять же, мы все можем приезжать у него учиться.
* * *
Следующий вопрос: дорого ли стоит наука? Современная наука в целом дело очень дорогое. Долговременная отдача от вложений в науку просто фантастически велика. Даже если считать только в деньгах, то деньги цивилизованный мир вкладывает в науку совершенно немереные. Но давайте посмотрим на распределение этих денег. Мировая наука не может жить без синхрофазотронов, космодромов и гигантских программ вроде расшифровки генома человека. Однако наряду с этим есть и «дешевые» науки, долгосрочный эффект от которых не меньше. Это науки теоретические. Грань проведем так: я назову науку теоретической, если в ней в нормальных условиях расходы на зарплаты ученым превосходят затраты на оборудование. Таких наук или областей науки очень много: математика, теоретическая физика, теоретическая химия, зарождающаяся на наших глазах теоретическая биология, многие области информатики и т. д. Роль этих наук никак не меньше, чем роль ресурсоемких исследований.
Вот здесь-то мой пессимизм частично перерастает в оптимизм. Физику-экспериментатору нужен синхрофазотрон — это сотни миллионов долларов.
Физику-теоретику нужен кабинет, зарплата и компьютер, который при приличной зарплате он купит на свои деньги. При этом славу нашей теоретической физики создавали один-два отдела, в которых было по пять-десять человек. Плюс, конечно, возможность брать сильных студентов и аспирантов. Иными словами, в данном случае речь идет почти исключительно о зарплате, хотя бы даже очень высокой. Теоретическую науку гораздо дешевле вытянуть из ее незавидного нынешнего состояния, чем экспериментальную. Последнюю тоже необходимо вытягивать, но это можно сделать чуть позже, а теоретическую можно и нужно вытягивать сейчас. Именно она способна дать импульс развитию эксперимента, пусть сперва недорогого или в рамках общемирового сотрудничества.
Ниже я расскажу о Независимом московском университете — одной из попыток воплотить эти идеи. Сразу оговорюсь, что ни о чем подобном не могло бы быть и речи, если бы нам были нужны хотя бы белые мыши для экспериментов, потому что и мышь стоит денег, а к белым мышам нужно приставить человека и платить ему зарплату за то, что он за ними смотрит, нужен микроскоп, нужно еще что-то. Теоретикам же, кроме хлеба, нужны книги, а книги мы получаем в подарок. Люди из многих стран оказались очень отзывчивыми. Наверное, мы могли бы и микроскоп получить откуда-нибудь, но электронный микроскоп уже не получишь — он ведь должен пройти через таможню, даже если его подарили. Поэтому пока оптимизм мой ограничивается рамками теоретической науки. Кроме нее можно еще оптимистично смотреть на ту науку, которая действительно нужна в конкретных приложениях, если горизонт отдачи три-пять лет, — скажем, новый тип мобильного телефона делать. На это скорее всего денег дадут уже бизнесмены— не наши, так западные. Хотя тоже дадут неправильно: следовало бы давать деньги на серьезные экспериментальные и теоретические исследования и развивать полезную область, а не решать мелкие конкретные задачи.
Человек, занимающийся у нас тем, что будет нужно стране через пятнадцать-двадцать лет, при сегодняшнем социальном сознании серьезного финансирования не найдет никогда. Поэтому финансирование, кроме явно недостаточного и давно поделенного, идет с Запада; огрубляя ситуацию, можно сказать, что бюджет финансирует реликты советской науки, чтобы совсем не загнулась, а Запад — перспективные исследования. Но там у них справедливо считают, что гораздо дешевле и проще использовать существующий ускоритель в Швейцарии или построить радиотелескоп в Пуэрто-Рико, а ученый сам приедет: ему надо 100 тысяч долларов в год, если очень известный, а если он не так знаменит, то и 50 тысяч хватит.
В теоретических же науках все прямо наоборот. Если людей кормить, то они будут работать. При этом потребности их достаточно скромны. Недавно один специалист по проблемам экономической отдачи от науки спросил меня, сколько надо платить, чтобы люди вернулись. Мое ощущение, что если платить половину западной зарплаты, то половина вернется. Но другую половину не вернешь уже никакой зарплатой, им надо платить в несколько раз больше, чем они получают в Америке,— хотя бы потому, что дети укоренились, да и привыкает человек.
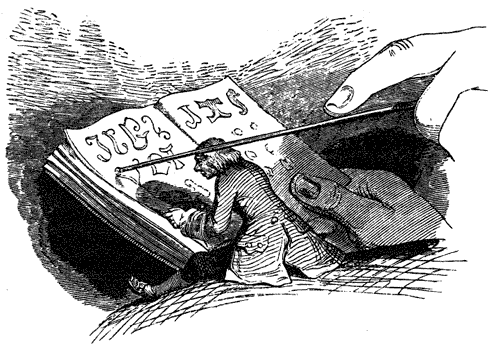
Иллюстрация Ж. Гранвиля к книге Дж. Свифта «Путешествия Лемюэля Гулливера»
* * *
Кормить вас будем по Женевской конвенции…
В. Ерофеев. Москва — Петушки
Настал момент рассказать про Независимый московский университет. Он был основан десять лет назад на волне попытки что-то сделать с математическим образованием. Ясно было, что советской системе образования многого недостает, и, не имея сил и возможностей реформировать очень инерционные сложившиеся структуры, группа ведущих математиков страны и мира махнули на эти структуры рукой и сказали, что надо делать свое, очень маленькое, но наидостойнейшего уровня. Так и получилось, университет страшно маленький (попробуйте угадать, насколько маленький, — ниже будет отгадка). У нас есть два факультета, главный из них математический, а второй очень близок к математике.
Университет с самого начала во всех смыслах независим, в том числе, к сожалению, от денег — от государственного финансирования уж точно. Был период в его истории, когда профессора платили за право у нас преподавать. Десять лет назад, когда он только появился, занятия шли по вечерам в здании одной из математических школ Москвы, 2-й школы. Пускали университет туда даром, но за электричество надо было платить, и профессора скидывались. Сейчас ситуация чуть-чуть лучше: с профессоров мы ничего не берем, а студентам платим стипендию, благодаря некоторым международным фондам. Фондам этим мы очень благодарны, но дают они немного, и существовать страшно тяжело. Второй наш благодетель — это город, который в определенный момент нам дал очень симпатичный четырехэтажный недостроенный домишко в арбатских переулках. В этом здании Независимый сосуществует с другим удивительным учреждением — Центром непрерывного математического образования, нашим официальным учредителем (его создание, в свою очередь, было инициировано Независимым университетом). Они занимаются в основном школами, олимпиадами, математическими школами, повышением квалификации учителей, а мы — в основном высшим образованием.
Недостаток административных возможностей привел к тому, что образование вечернее (поскольку мы не даем отсрочки от армии). Вообще с бумагами туго, даже получение лицензии далось с большим трудом, государственной аккредитации у нас нет, т. е. наш диплом негосударственного образца. Этот диплом признается очень хорошо в ведущих университетах и научных центрах мира, у нас он признается de facto в двух-трех академических институтах, в которых существуют сильные математические лаборатории. Студенты в основном днем учатся где-то еще, причем большая их часть — на мехмате МГУ. Из-за вечерности и как бы необязательности отсев очень большой, причем не потому, что мы кого-то гоним. Мы очень легко принимаем: у нас есть вступительные экзамены, но они необязательны — в сущности они нужны, чтобы получить стипендию в первом семестре. Атак, пожалуйста, ходи на лекции, сдавай экзамены. Текущие экзамены, правда, мы принимаем очень жестко, но при этом создаем все условия, чтобы человек, не сдавший экзамен, мог продолжать учиться. Несмотря на это, отсев такой, что на первый курс приходят 60 человек, а дипломы через пять лет получают человек5,т.е. каждый год количество учащихся уменьшается примерно вдвое.
За четыре года надо сдать все экзамены, на пятом курсе человек пишет уже вполне серьезную научную работу — диплом. Дипломная работа, как правило, публикуется в одном из ведущих журналов мира. Потом аспирантура для желающих, в аспирантуру серьезный экзамен, причем внимание обращается не только на умение решать трудные задачи, но и на широту знаний — мы не готовим узких специалистов, для них есть другие аспирантуры.
Мы учим ребят, которые уже с курса третьего сами начинают активную научную работу. Поскольку их очень мало, основной элемент обучения — это личный контакт с преподавателем, есть возможность с каждым из них много возиться.
Уровень ребят, которых мы выпускаем, совершенно поразителен, на семинарах они соображают раза в три быстрее, чем я сам. Иными словами, мы воспроизводим научную элиту в очень узком смысле, по сути это даже не профессора университета, это те люди, которые должны готовить профессоров. И все они активно работающие ученые высочайшего уровня. Это мажорная нота.
Дальше опять минор. После этого происходит естественный процесс — две трети из них оседают в Гарварде, в Принстоне, кое-кто в Париже. Оставшаяся треть преподает у нас и все время ездит, чтобы выжить. Но это уже не проблема университета, это проблема общества.
То, чем мы занимаемся, не есть высшее образование как таковое. Скорее это ниша между занятиями наукой и преподаванием. Почему люди приходят в Независимый — понятно. Приходят учиться те, кто хочет стать именно ученым в области математики. Приходят преподавать, потому что всегда интересно преподавать человеку, который очень ярок, а таких среди наших студентов большинство, особенно среди тех, кто остается после первого курса. Наш первый курс составлен из самых сильных студентов МГУ, а уж те, кому доводится до конца доучиться… И работа у нас приятная, свободная и интересная, и человеческие отношения очень хорошие.
В штате университета около 50 профессоров, ни для одного из которых это место работы не является единственным. Многие наши профессора полгода где-то, а полгода здесь. Как сказал один из ведущих наших математиков, если патриотизм у ученого недостаточен, он уезжает в Америку, ну а если он настоящий патриот, то в Западную Европу. Но еще раз повторю: если, приезжая на каникулы вМоскву, он читает курс по три раза в неделю, он не менее полезен университету, чем постоянный профессор, и уж куда более, чем человек, правдами и неправдами пытающийся заработать в России.
Потихоньку Независимый превращается в центр математической жизни Москвы, по крайней мере в один из главных ее центров. Есть у нас, например, общеуниверситетский междисциплинарный семинар «Глобус», на его заседания ходит полсотни московских и приезжих математиков. С этого года издаем «Moscow Mathematical Journal» — международный научный журнал, где печатаются ученые российские, некогда российские и вовсе иностранные.
То, что нам удалось сделать в математике, мне постоянно хочется сделать и по всем прочим теоретическим наукам. Хотелось бы вокруг Независимого университета построить настоящий многопрофильный университет, в то время как сейчас его надо было бы называть Математическим университетом, потому что он достаточно универсален в математике, но никак не больше. Но название менять поздно, слушком уж оно известно в мировых математических кругах. Пытаясь привлечь другие дисциплины, мы говорили с теоретическими физиками, с лингвистами, с другими учеными, которым не нужно дорогое оборудование.
За последние десять лет в различных науках сложились свои традиции выживания. Разные науки и потери понесли разные, скажем, наша теоретическая физика уехала почти целиком. Остались или люди очень пожилые, или люди, которые приезжают на три месяца. Так, во всяком случае, мне говорили физики. И все же дело не так плохо. Я знаю несколько сильных физиков, часто бывающих в России (у каждого из них есть постоянное место работы «там»), и пару хороших работающих семинаров, куда ходит много сильной молодежи.
Поэтому попытки расширить университет удаются только частично. В последнее время мы создали центр лингвистических данных для теоретических лингвистов, лабораторию математических методов в естественных науках, лабораторию распознавания письменной речи. Еще больше, конечно, замыслов.
Чтобы завершить рассказ о Независимом университете, надо честно сказать, что его научная репутация, особенно в международном математическом сообществе, несколько, на мой взгляд, преувеличена. Это им там кажется, что у нас рай вечный и незыблемый. А изнутри я вижу, что само его существование очень хрупко, а уж что с ним дальше будет — этого не знает даже Кристофер Робин.
* * *
Когда же, Господин,
На жизнь мою сойдет
Спокойствие седин,
Спокойствие высот.
М. И. Цветаева
Предположим, что нам удалось довести наши проблемы до лиц, принимающих решения, — есть же у нас Российская Академия наук со своей сетью институтов, есть Министерство науки, Министерство образования, другие структуры. Но очевидно, что денег от них мы все равно не получим. К тому же мы понимаем, что получить от них деньги — значит эти деньги у кого-то отнять. Мы можем, однако, получить от них моральную поддержку, что тоже немало.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на два распространенных заблуждения. Одно звучит так: советская власть оставила нам замечательную научную структуру и прекрасные кадры; этот цвет науки и называется «академиками». Другое, не менее неверное: поскольку во время оно в академики избирали только престарелое начальство, ученых в РАН не осталось. Смешно, но оба мнения мне доводилось слышать не только в России, но и на Западе.
Советская власть наложила значительный негативный отпечаток на структуру науки, на состав академии, даже на распределение видных ученых по различным научным и учебным учреждениям. Отрицать это так же невозможно, как отрицать геноцид евреев и цыган в нацистской Германии. Были учреждения, куда брали только партийных и с чистой анкетой, а были учреждения, куда чудом брали диссидентов, евреев, верующих, беспартийных, еще кого-то, и между теми и другими «утверждена была великая пропасть». Сейчас потихоньку меняются поколения, особенно в администрации, благо советская научная элита была очень старой. Со сменой поколений ситуация смягчается. И в ведущих институтах Академии наук сейчас начинают принимать решения очень разумные люди. Люди, явно заинтересованные в судьбах науки и образования, ученые, а не псевдоученые, как это бывало. И это при том, что и в самые худшие времена уровень науки был у нас очень неплох, но не благодаря власти, а в основном вопреки ей.
С очень многими «новыми» научными администраторами можно разговаривать, хотя существует несколько реликтов, о которых здесь говорить не хочется. Ученые все больше понимают: нас осталось мало, и если усилия не объединить, то все, каюк…
* * *
Не может быть, чтобы аллигатор, аллигатор— это же крокодил.
Шестилетний ребенок, подслушавший рассказ о моей встрече с одним из наших олигархов
Года два назад я ходил побираться к одному из наших олигархов. Он произвел на меня впечатление человека очень умного, достаточно хорошо понимающего ситуацию, хотя, конечно, мыслящего в своих категориях. Про деньги, которые я у него просил (я просил по максимуму, потому что пришел с планом расширения университета), он сразу сказал, что это не деньги. И вправду, речь шла о десятитысячной доле годового оборота его компании. Для нас же это были огромные деньги, в двадцать раз больше того, на что мы выживаем сейчас. Но он, проявив к нам большой интерес, захотел сразу же увидеть от этого конкретную пользу для своего бизнеса. Потом от него к нам приходили люди, которые нас изучали. У них основной тезис был такой: допустим, он даст вам деньги, но спросит-то он с нас, поэтому прежде всего нужен бизнес-план. Оно и понятно, для олигарха это деньги небольшие, и он готов рискнуть, а для его подчиненных это уже очень значительные суммы. Я, честно сказать, не большой мастер писать бизнес-планы, да и других способных на это ученых едва ли знаю. Так ничего и не вышло…
Отдача от нашего университета есть. Не буду говорить о пользе для страны и мира, скажу о более приземленной стороне.
Во-первых, в качестве побочного результата, на каждого будущего ученого мы производим десять не менее способных, хорошо образованных ребят, которые могут с успехом работать в самых разных сферах деятельности: прикладной науке и технологиях, промышленности, бизнесе, управлении. В частности, в тех структурах, которые захотят вложить в это какие-то средства.
Во-вторых, создавая у себя в компании слой высококвалифицированных специалистов, руководитель должен помнить, что ему надо или раз в пять лет менять весь состав, или же думать о регулярном повышении их квалификации, в том числе и в том, что касается фундаментальной науки.
В-третьих, реклама, ведь рекламный эффект от поддержки науки очень велик. По сути дела есть возможность взять отдельную область теоретической науки в стране и целиком спасти ее от вымирания. Вот только что она была на грани исчезновения, а через пять лет благодаря усилиям вашего холдинга она опять сильнее, чем в развитых странах. (Скольких властителей прошлого помнят главным образом за то, что в их правление в стране расцвела наука и культура!)
Такова, я думаю, логика крупных западных компаний. Именно поэтому Microsoft, IBM, Lucent Technologies и другие поддерживают фундаментальную науку, создают свои лаборатории. При этом не надо непосредственно встраивать науку в производство продукта. У науки есть свои законы. Хорошо известно, что свободное развитие целых областей науки оборачивается значительно большим прикладным эффектом, чем решение конкретных практических задач.
Как Вы думаете, в целом российское высшее образование соответствует мировому уровню, выше или ниже этого уровня?
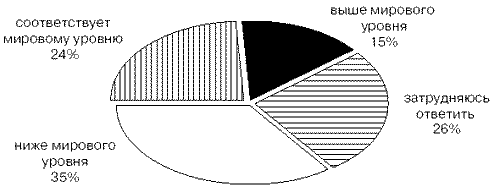
* * *
Итак, откуда брать деньги, — непонятно. Чисто моральной поддержкой со стороны власть предержащих тоже не обойдешься.
Если посмотреть, как сейчас распределяются деньги в богатых научных и околонаучных структурах, то львиная их доля уходит тем, кто готов потратить силы и время на их добывание. А человек, который наиболее ценен для нас, — это такой растяпа, профессор из анекдота, который ничего не умеет, кроме как заниматься наукой и ребят учить. Такого чудака финансировать никто не станет. Система грантов, которая у нас существует сегодня, достаточно разумна по распределению, и в основном их получают люди весьма достойные. Конечно, не все достойные и не всегда достойные, но с распределением научных ресурсов при большевиках не сравнить. Итак, люди достойные, а вот деньги — нет, недостойные. Хорошим примером здесь является не математика, а геология. Мне недавно довелось порасспросить геологов, как живет эта наука, практический эффект от которой вроде бы уж совсем очевиден. Не только что чудак-профессор, а даже и человек с достаточно сильным административным ресурсом сегодня не может получить деньги, чтобы в течение пяти лет заниматься большой темой. Зато он может набрать те же деньги из сотни мелких грантов и темочек. Правда, по каждой из них через полгода следует представить результат, и ученые вынуждены лепить халтуру. Причем лучшие сотрудники зачастую оказываются самыми толковыми и в административном плане, и вот они уже никакой геологией на занимаются, речь идет о том, чтобы за полгода хоть что-то написать: за полгода настоящий научный результат не получишь, разве что чудом, а вот отчет написать можно. Написали. Получили очередные тысяч пять долларов. Из сотни тем складываются полмиллиона, которые можно было бы дать на крупное исследование, но все боятся ответственности: за пять тысяч долларов с нас никто особо не спросит. Пусть результат слабый, но ведь и деньги были маленькие. А за полмиллиона спросить могут. В долгосрочной перспективе это губит науку в стране. Если сегодня бросить фундаментальные исследования в геологии, через двадцать лет потеряем рынок полезных ископаемых. Бросить в биологии — потеряем рынок лекарств. То же и физика, и математика, и другие науки. Если сейчас не заниматься математикой, то через десять лет будет отставание во всех остальных науках, и максимум через двадцать лет — но скорее всего гораздо раньше — это выльется в огромный материальный ущерб.
Если вы посмотрите на Западную Европу или Америку, то ни один руководитель концерна не мыслит в горизонте двадцати-пятидесяти лет. Считается, что для того и существует государство, чтобы поддерживать фундаментальные нужды общества, действовать в тех сферах, где микроэкономика не работает.
* * *
Но путать Буку с Бякой,
А также Бяку с Букой,
Всем детям строго-настрого
Запрещено наукой.
Б. Заходер
В странах Европейского союза у школьного учителя восемнадцать часов преподавания в неделю, плюс проверка тетрадей, плюс подготовка к занятиям и т. д. А у университетского профессора при той же 39–40-часовой рабочей неделе шесть часов преподавания. Почему? Потому что если профессор не занимается наукой, то он теряет квалификацию не только как ученый, но и как университетский преподаватель. Дисквалифицировавшись, он не сможет готовить не только будущих ученых, но и будущих преподавателей и управленцев. То есть наука является вершиной некой пирамиды образования. Если ее убрать, пострадает следующий слой — университетское образование, а за ним и школьное. Если профессор сам не занимается наукой, да и вообще крупных ученых никогда в жизни не встречал, то выпускник соответствующего педагогического вуза не сможет хорошо учить детей арифметике.
Более того, вузовский преподаватель, не имеющий возможности время от времени получать отпуск для повышения квалификации и собственной научной работы, тоже дисквалифицируется. Равно как и ученый, вокруг которого нет молодежи.
Поэтому наука и образование связаны теснее, чем это иногда кажется. Сегодня имеет место кризис образования в мировом масштабе. Всякому американцу с хорошим высшим образованием ясно, что американская школа никуда не годится. Все время слышны голоса, что надо что-то делать. Во Франции недавно была задумана школьная реформа, попытка оказалась неудачной, но раньше или позже к идее реформирования все равно вернутся.
Россия как раз отличается тем, что в ней еще сохранились центры интеграции науки и образования, и их гибель может стать национальной катастрофой.
* * *
Чтобы всерьез говорить о школьном образовании, надо расстаться с некоторыми иллюзиями. Сколько-нибудь образованный человек обычно переоценивает уровень образования в обществе. Случается, причем довольно часто, что люди не имеют высшего образования. Более того, обществу и не нужно, чтобы многие его имели. Да и так ли уж необходимо всеобщее среднее образование? Во Франции, например, около 80% населения получают аттестат зрелости. А в Швейцарии, если не ошибаюсь, — меньше 30%. И не сказать, чтобы швейцарцы жили хуже французов. Когда сманивают наших ученых, в Швейцарии предлагают зарплату в несколько раз больше, чем во Франции или в Германии. Когда мы говорим о школе, мы часто подразумеваем хорошую московскую школу, где все школьники будут пытаться получить высшее образование. Но в стране в целом это не так.
По Вашему мнению, сегодня в России качество школьного обучения лучше, хуже или такое же, каким оно было в советское время?
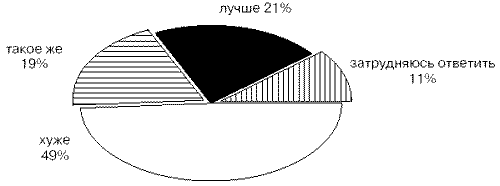
Иногда говорят, не надо учить математике или физике, поскольку восьмидесяти процентам людей во взрослой жизни они не понадобятся, а нужно, скажем, уметь работать на компьютере. При этом не учитывается, что умение набирать на компьютере через десять лет вполне может не понадобиться — машина будет воспринимать голосовую команду. Страшно востребованные в моем детстве профессии секретаря-машинистки и чертежника исчезли полностью.
Надо отдавать себе отчет в том, что мы никогда не можем предсказать, какие именно навыки понадобятся детям через пять-десять лет. Необходимо правильно выбирать приоритеты. Главное, что дает хорошее базовое образование, — это возможность ориентироваться в меняющемся обществе, в меняющейся специфике профессии, в меняющихся требованиях. В новой экономической реальности больше всего преуспели все-таки те, кто имеет высшее образование — физико-математическое, экономическое, иногда гуманитарное. Мало кто из них в своей профессиональной жизни использует знание латыни или высшей математики, но тот факт, что их этой латыни и высшей математике учили, сказывается на их способности осваивать другие виды деятельности. Другими словами, цель образования — не дать знания, а повысить обучаемость.
Зададимся простым вопросом: зачем вообще нужна математика в школе? В первых четырех классах — понятно: чтобы человека не обманули в магазине. А дальше, когда появляются алгебраические уравнения и мы учим, что квадрат суммы не равен сумме квадратов? Ответ парадоксален: математика как таковая в школе не нужна, так же как не нужна и история. Но очень нужно дать детям ощущение того, что история и математика существуют. Человек, который интересуется историей, выучит ее сам. Ему, конечно, надо дать такую возможность — кружки, факультативные занятия и т. п. Однако любому человеку необходимо знать, что мир возник не позавчера. Мне встречались замечательные, милейшие и религиознейшие американцы, принадлежащие к малым протестантским группам, искренне уверенные в том, что основатель их религиозной группы, возникшей, допустим, в XIX веке, родился чуть ли не сразу после Деяний Апостолов. Никакого представления, что у человечества была длительная история между этими двумя событиями, у них нет.
Почему мы видим Луну иногда круглой, а иногда серпиком? Потому ли, что она поворачивается к нам в профиль, или по иным каким причинам? Если у человека нет никакого представления о геометрии и физике, то ответить на этот вопрос ему очень трудно. Почему водку пить можно, а тормозную жидкость нет? Раньше или позже в быту, профессиональной деятельности или духовной жизни у человека возникает необходимость отличить истину от лжи. Математика должна учить человека четко мыслить, и этому надо учить всех и каждого. Она должна учить человека давать определения определяемым понятиям и понимать, что далеко не все в мире можно точно объяснить. Она должна учить человека тому, что существуют вещи более или менее доказанные; существуют вещи гипотетически верные, в пользу которых можно привести некоторые аргументы; существуют вещи из области научной фантастики, которые тем не менее невозможно немедленно опровергнуть; и, наконец, существуют утверждения заведомо ложные. Умение отличать истину от лжи — это базовое умение, которое должно даваться в школе, и в первую очередь при изучении математики. Поэтому математика, история и религия союзники. От непонимания этого возникает страстное увлечение колдунами и астрологией. Отсюда столь сильное желание пересмотреть хронологию в истории. От полной неграмотности не только в истории, но и в математике и естественных науках, от непонимания того, что каждая наука трудом поколений вырабатывает свою грамотность и свои критерии истины, у многих возникает ощущение того, что ученый, священник и колдун — это примерно одно и то же. И ловкие люди отлично разрабатывают рынок человеческого невежества.
История в школе преподается, как правило, без понимания того, что на один и тот же вопрос может быть несколько разных ответов или что ответ может быть никому не известен. Точно так же преподается зачастую и математика — школьника обучают неким действиям, как обезьяну. Правда, действия эти ему никогда не понадобятся, потому что в кармане у него уже лежит калькулятор, а скоро будет лежать уже видеокомпьютеротелефон. Умение переносить в левую часть с обратным знаком нужно далеко не всем, а вот научиться понимать, почему формула остается верной после этого перемещения, полезно было бы многим. В лучших наших школах лучшей части школьников это умение дается. В остальных школах оно не дается вообще.
Мы часто говорим: «Как глуп чиновник N!» или «Смотри, какую умную статью написал такой-то политолог или экономист — заметил вещи, которые другие не замечают». Нам кажется, что это им Богом дано, что один родился умным, а другой глупым. Ничего подобного. У одного было приличное образование, его научили думать. Другому сумму знаний дают такую же, а думать не учили никогда.
Математика и вообще все теоретические науки, как естественные, так и гуманитарные, — базовые, они нужны именно для того, чтобы научить человека думать. Конечно, не обязательно это делать именно на математике, есть люди, которые более восприимчивы к гуманитарным наукам. Важна не сумма знаний. Гораздо важнее умение приобретать знания, пользоваться ими и четко мыслить.
* * *
— Уважаемый господин спикер. Будет ли согласно с нашими уставами и традициями, если я назову глубокоуважаемого премьер-министра правительства Его Величества грязной жирной свиньей?
— Нет, господин депутат. Это было бы глубоко противно нашим обычаям и традициям называть глубокоуважаемого премьер-министра правительства Его Величества грязной жирной свиньей.
— В этом случае, господа, я вынужден удержаться от того, чтобы назвать глубокоуважаемого премьер-министра правительства Его Величества грязной жирной свиньей, хотя он таковой и является, и приношу ему мои глубочайшие извинения.
Старый анекдот про британский парламент
Я много здесь рассуждал о проблемах науки и образования. Но вернее было бы сказать так: нет у образования и науки никаких особых проблем, есть проблемы у общества, которые так или иначе отражаются в образовании и науке. Например, во всем обществе есть проблема, что вся страна живет налево. Эта проблема есть и в образовании. Я знаю профессоров, которые, чтобы выжить, преподают в добром десятке вузов, получая в каждом зарплату, о которой стыдно говорить. В результате такой профессор не может серьезно готовиться к лекциям ни в одном из них. Своих дипломников он не видит никогда, потому что после лекции у него есть пятнадцать минут, чтобы добежать до следующего университета. Это ученый с именем, человек, который лекции читает легко, хорошо и красиво, студенты к нему идут охотно. И тем не менее ничего от него не получают. Почему бы не платить ему в десять раз больше в одном месте? Деньги-то те же.
Учитель в школе, который живет на подарки родителей, — это то же явление, но это, опять же, проблема не школы, это проблема государственного служащего, который не может жить на свою зарплату.
То же самое с научными грантами, я говорил об этом выше. То же и с реформой образования. На мой взгляд, она малоудачна, по крайней мере, то, что относится к математике, резко неудачно. Но беда не в этом. Беда в том, что истинные цели реформы так же далеки от провозглашаемых, как у ГАИ, санэпидстанции или пожнадзора.
Ложь на всех уровнях, присущая обществу в целом, отражается на науке и образовании особенно губительно, так как из ткани административной жизни проникает в ткань самого образовательного процесса и научного исследования. Конечно, везде кривят душой, но в России сейчас уж как-то особенно. Остается только надеяться, что если не дети, так внуки наши сумеют с этим побороться.
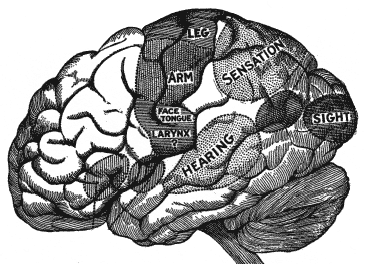
* «В поисках утраченного времени» (фр.) — название цикла романов Марселя Пруста. При другой расстановке знаков препинания переводится «А, наука! — Пустая трата времени».