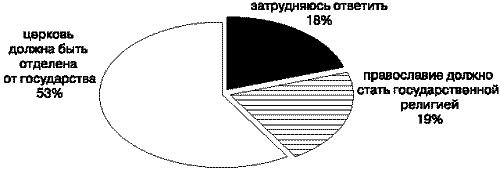Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 1, 2001
| Отношения религии и религиозных объединений к государству определены в Конституции РФ (1993), из которой (ст. 14) следует: 1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Один неформальный штрих внес в эти отношения Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997), в преамбуле которого, с одной стороны, подтверждается, что РФ является государством светским, но, с другой стороны, признается «особая роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры». На пространстве между формальной границей действующего конституционного закона[1] и не очень ясной «особой ролью православия»[2] к настоящему времени сложилась ситуация, конкретизирующаяся как эксклюзивное отношение государственной власти к одной православной организации — Русской православной церкви (она же — Московская патриархия). Степень эксклюзивности этого отношения на сегодняшний день такова, что социальная идеология РПЦ допускает возможность (но не цель, которая при существующем положении дел формально была бы антиконституционной[3]) возрождения «православного государства»[4]. При этом в согласии с обычными схемами формирования общественного мнения артикулируются, в частности, статистические данные[5], призванные показать, что русский народ близок к состоянию «православного народа» (определение, предусмотренное СК (II, 3)). За показатель «близости» берется при этом если не степень активной воцерковленности, то признак конфессиональной самоидентификации. Достижение этого состояния и является предварительным условием перехода к «православному государству». Ряд «приватных», но при этом имеющих вполне определенный публичнозначимый резонанс интеракций, осуществляемых время от времени на уровне высших представителей государственной власти РФ и высших православных священнослужителей, открывает пространство для самых смелых прогнозов относительно сближения государства и РПЦ. Особенность протекающего между Церковью и государством диалога заключается еще и в том, что РПЦ (в лице не очень централизованной группы священнослужителей), следуя укладу придворной «византийской политики», предпочитает осуществлять взаимодействие с властью в ходе кулуарного общения с аппаратом чиновников разного уровня. Причем это взаимодействие не урегулировано рамками единого бюрократического органа, существовавшего в России с некоторыми кратковременными перерывами со времен Петра I. Кроме того, отдельная проблема формирования публичного коммуникативного пространства, в котором тематизируются взаимоотношения Церкви и государства, заключается в том, что пространство это формируется главным образом самой Церковью или же религиозно ориентированными интеллектуалами, тогда как со стороны государства здесь выступают политтехнологи (в идеале — анонимно организующие и структурирующие пространство СМИ) и бюрократия, не осуществляющая функцию формирования публичного дискуссионного пространства. В силу ряда обстоятельств, важнейшим из которых является, по-видимому, переоценка степени секуляризации общества, воспитывавшегося в духе советской идеологии, эта тема фактически не вызывает широкого интереса у светски ориентированного научного и интеллектуального сообщества. Оно полагается скорее на конституционные основы государства, имманентную рациональность государственной бюрократии и либеральную журналистику. Степень экспертной тематизации отношений Церкви и государства ограничивается в этой среде анализом отдельных сегментов проблемы или же частными дисциплинарными проекциями. Если попытаться выделить основные структурные механизмы сближения государства и РПЦ, можно указать довольно обширную группу таковых, работающих в различных идеологических, социальных, политических и символических плоскостях, и здесь имеет смысл назвать лишь некоторые из них. Во-первых, достаточно прозрачна тенденция власти сделать «православную религиозность» элементом собственного имиджа. К этому побуждают, видимо, два обстоятельства. С одной стороны, это кризис публичной «общечеловеческой» неограниченно-либеральной риторики внутри страны, сопровождающийся переориентацией на умеренные консервативные ценности. С другой стороны, в области внешней политики — поиск такой условно-символической платформы, на которой Россия и Запад могли бы выступать как равноправные партнеры, а не строить свои отношения по модели «ученик-учитель». Обе эти тенденции — ориентированные, соответственно, на внутренний и внешний рынок — отчетливо просматриваются в сфере массмедийной стратегии экспонирования власти и используют самые поверхностные ресурсы символического капитала РПЦ. Сказанное относится как к многочисленным «политтехнологическим» моментам внутриполитической жизни (например, к предвыборным акциям нынешнего Президента РФ), так и к высказываниям, из которых следует, что православие может выступать в качестве интегрирующего элемента вхождения в «европейскую культуру»[6]. Механизм сближения на уровне политического имиджа (ориентированный главным образом на внутренний рынок) имеет определенное влияние на отечественную «политическую элиту». Однако, протекая на самом поверхностном (хотя и самом заметном) уровне взаимодействия государства и Церкви, он интересен пока лишь с точки зрения функционирования рекламных по своему характеру механизмов политтехнологии и особенностей подражательной психологии российского политического бомонда. Настойчивое воспроизведение такого взаимодействия может, разумеется, оказывать влияние на все другие уровни отношений государства и РПЦ. Выделение этого взаимодействия в особую группу не означает, что оно является исключительно «мнимым». Вполне возможно, что за действиями государственных лидеров стоят серьезные внутренние мотивы, однако, выходя в публичное пространство, они подчиняются правилам функционирования символического политического рынка. В то же время именно эта сфера взаимодействия государственной власти и РПЦ — максимально открытая и «профанная» — наследует и воспроизводит одну из древнейших функций религии по отношению к власти, а именно функцию сакрализации. Под сакрализацией понимается здесь один из элементов традиционалистской формы легитимации власти[7] — приобщение ее к некоему высшему вечному порядку. Эффективность этого механизма основывается на самых элементарных, так сказать, «подсознательных» свойствах социальной психики (всегда улавливаемых самой властью, даже самой «атеистической», — мавзолей Вождя пролетариата является этому лучшим памятником). Поэтому сакрализация власти прослеживается практически в любых обществах и вне зависимости от содержательных особенностей задействованной здесь религии. Нельзя понять, какой светский правовой смысл имеет присутствие Патриарха при передаче полномочий и «ядерного чемоданчика» от действующего Президента РФ исполняющему обязанности такового, но достаточно ясен сакральный смысл передачи Власти, символизированной Могучим Оружием, стареющим Вождем молодому в присутствии Жреца. Своеобразной параллелью прямому использованию элементов православия для создания государственного имиджа, но уже в области взаимодействия Церкви и общества, является рост числа прихожан за счет мотиваций, которые имеют весьма отдаленное отношение к собственно православному вероучению (если вообще имеют хотя бы какое-то). Как власть использует Церковь для решения своих текущих прагматических задач, так и люди идут в Церковь, лишь в малой степени руководствуясь собственно церковными ценностями. Их побуждения в таких случаях точнее было бы назвать архаическими суевериями, помогающими решать конкретные психотерапевтические или утилитарно-бытовые проблемы (ближайший пример — освящение автомобиля). И хотя в этой области существуют социальные группы с различной мотивацией, это «омассовление» Церкви за счет лиц, ценностные ориентиры которых размывают внутреннюю церковную идеологию, не может не стимулировать тенденцию к обмирщению ее задач и функций. (Уместной социологической аналогией будет здесь изменение состава партии большевиков после революции). Вторым и более фундаментальным фактором, который приводит в действие идеологический механизм сближения государства и РПЦ и представляет собой эксплицитный и артикулированный момент организации как светского, так и религиозного дискурса в этой сфере, является группа проблем, которую можно объединить в рубрике «мировоззренческие ценности». Она включает уже упоминавшуюся и довольно расплывчатую тему «духовности», а также нравственных и специфически национальных ценностей, жизненных ориентиров и т. д. Отличительной чертой организации дискурса в этой области является апеллирование к «традиции»[8], а также тема «духовного» или «нравственного авторитета». При этом РПЦ понимается именно как носитель «традиционных» для России интегрирующих ценностей, которые можно «возродить», а также de facto как публичный авторитет в мировоззренческих (а как показывают некоторые рейтинги, также и в политических) вопросах. Весь этот потенциал «мировоззренческих ценностей» государство стремится использовать для разрешения своих собственных проблем. Главная из этих проблем — создание интегративной и конструктивной идеологии, описывающейся, например, в терминах «национальной идентичности». По своему функциональному назначению эта идеология призвана консолидировать общество вопреки процессу критической социально-экономической дифференциации и инфляции прежней (действительно традиционной) советской системы ценностей (при всем бережном отношении к некоторым основным символам, вроде музыки гимна или мавзолея)[9]. Комплекс социально-экономических трудностей российского общества не позволяет в то же время сколько-нибудь активно вовлечь достаточно широкие социальные и интеллектуальные слои в спонтанно-органичный процесс создания новой системы мировоззренческих ценностей и установок. Этот процесс требует многолетних и целенаправленных усилий (проблема «гражданского общества»), тогда как прямое заимствование соответствующих западных систем не имело большого успеха. В этой ситуации естественной государственной стратегией является привлечение «олигархических» потенциалов, способных обеспечивать функционирование более или менее долгосрочных идеологически ориентированных проектов (как то и было в эпоху Ельцина). Однако «экономические олигархи» на поверку оказались мало привязанными к родным пенатам, с легкостью обращая свои ресурсы на осуществление деструктивных (с государственной точки зрения) идеологических проектов. В этой ситуации естественно было бы воспользоваться потенциалом такого «олигарха», который изначально ограничен в свободе передвижения, а таковым и является по ряду параметров именно РПЦ. Дефицит востребованной системы «мировоззренческих ценностей», призванной обслуживать общество, обнаруживается в процессах социальной дезинтеграции, которые хорошо известны (падение нравов, расцвет разного рода сектантства и т. п.). Проект привлечения РПЦ к решению этих задач является светским и утилитарным по своему характеру: религиозные ценности рассматриваются как нечто приносящее пользу обществу так же, как это предусматривала для своего времени уваровская формула «православие, самодержавие, народность». В связи с затронутой здесь идеологической и социальной проблемой можно, однако, обратить внимание на два момента. Во-первых, не особенно замечен простой факт, что РПЦ, на протяжении всего постсоветского периода существующая вне государственного контроля и опирающаяся при этом на весь свой символический капитал, так и не смогла реализовать свой идеологической потенциал без вмешательства и содействия государства. Разумеется, все это списывается на «объективные» материальные трудности, которые не могут быть преодолены без определенной протекционистской политики со стороны государства, равно как и на идеологическую инерцию «атеистической» эпохи. Но как эти трудности соотносятся с «высокой пробой» и жизненной необходимостью тех ценностей, которые Церковь способна, якобы, предложить обществу? А ведь эти ценности не смогли в свое время предотвратить переход значительно более широко, чем сейчас, «воцерковленного» российского общества к этой самой «атеистической» эпохе. Можно предположить, что реальная проблема заключается здесь скорее в некоторых структурных особенностях функционирования самого института РПЦ. Поясним сказанное одним наблюдением из области «жизненного мира»: все постсоветские годы автору приходилось общаться на улице с активно «проповедующими» агитаторами большого числа религиозных направлений, групп и организаций: это были кришнаиты, свидетели Иеговы, мунисты, представители Армии спасения, последователи Береславского и проч. В то же время за пределами церковных стен или же каких-то организованных мероприятий РПЦ была представлена на «ничейной» территории городской инфраструктуры только молчаливыми людьми с ящиками, собирающими пожертвования на очередной храм. Фактически именно эта проповедническая активность привела к расцвету сектантского движения, что, собственно, является справедливой «трудовой» заслугой соответствующих религиозных организаций. На этом фоне стратегия РПЦ выглядит как позиция «мандарина», предполагающего, что соответствующий социальный контингент в любом случае окажется в православном храме. Поскольку, однако, эти надежды не очень оправдываются, Церковь использует или стремится использовать именно государственные бюрократически-правовые механизмы для создания благоприятных условий расширения своей социальной базы (законодательное закрепление «особой роли» православия; антисектантская политика, активные попытки внедриться в систему светского образования и т. д.). Декларируя перед обществом свой особый ценностный капитал, Церковь на деле не способна использовать его без содействия государства. (Государство оказывает ей в этом содействие даже на уровне упомянутого выше и имеющего также и обратное влияние поверхностного «политтехнологического» взаимодействия.) И хотя история русской Церкви последних нескольких столетий позволяет какимто образом объяснить эту ситуацию, нельзя не отметить характерное расхождение между риторикой РПЦ, нацеленной на повышение действенности своих ценностно-мировоззренческих акций, и отдачей от этих акций в сфере «реальной экономики». Второй существенный момент, связанный с проблемой «мировоззренческих ценностей», не может не вызывать беспокойства в связи с темой «особой роли» православия в русской культуре. Риторика «возрождения», как хорошо известно на примере большого числа ренессансных движений, является во многом фиктивной по своему характеру: та «традиция», которую предполагается возродить, — вещь воображаемая и отражает современные проблемы заинтересованных групп. Тема эта связана, в частности, с проблемой раздела символического капитала, скрывающегося за выражением «традиция»[10], — старообрядцы, например, имеют на него не меньше прав, чем РПЦ, но получают меньшую долю. Но даже не вдаваясь в этот вопрос специально, нельзя не заметить, что русская культура включает также тех деятелей, которые имели к церковному православию довольно косвенное, если не прямо конфронтационное, отношение. К числу тех, кто создавал это наследие, относятся, между прочим, авторы «Гавриилиады» и «Демона», Белинский и Герцен, русская анархическая и революционная мысль, равно как и «католически» ориентированные мыслители, в том числе значительнейший русский философ Вл. Соловьев. Русская культура не может быть предметом оптового торга и присвоения — даже и в ракурсе «традиции». Хотя нельзя отрицать и того, что религиозный дискурс имеет в своем распоряжении эффективные средства присвоения любых культурно значимых образований (различая, например, «христианские» намерения и неудачное — по причине отпадения от Церкви — исполнение). Наконец, третья — the last but not the least — тенденция, приводящая в действие механизм сближения Церкви и государства, исходит от самой Церкви. На наш взгляд, именно эта тенденция сопряжена с наибольшим драматизмом. РПЦ как социальный институт, чрезвычайно разросшийся в последнее время и нацеленный на стабильное процветание, не может на сегодняшний день обходиться без протекционистской государственной политики. Дело в том, что в силу ряда исторических причин Церковь не способна, в частности, безусловно успешно действовать на рынке свободной конфессиональной конкуренции и в условиях «самоокупаемости». В обмен на эту протекционистскую политику (ограничения деятельности других конфессий и сект, налоговые льготы, частичная реституция и т. п.) государство, следуя светской утилитаристской логике, вовлекает Церковь в решение своих собственных проблем (или питает надежды на то, что Церковь поможет их решать). Покровительство, защита и протекционизм, в которых нуждается институт РПЦ, не может в то же время не иметь политических последствий: кто защищает — тот управляет, а значит, и никакой самостоятельной авторитетной позиции здесь быть не может. Все это неминуемо возвращает Церковь к традиционной российской схеме, когда она рассматривается лишь как один из общественно-государственных институтов. Это, однако, не может удовлетворять и устраивать Церковь в силу особенностей внутренней логики ее вероучения, ее негативного исторического опыта и характера традиционных схем отношения с государством, расценивающихся как оптимальные. На пересечении этих двух тенденций и складывается нынешнее неопределенное, но, тем не менее, символически-значительное положение РПЦ по отношению к государству и обществу. С одной стороны, Церковь рассматривает себя в качестве культурного и идеологического «олигарха», требующего к себе особого отношения. С другой стороны, попытка государства заставить этот капитал работать на благо общества (вопрос, правильно ли понимается это благо, выносится за скобки) наталкивается на очень странное обстоятельство: оказывается, этот ценностный капитал не может быть без остатка конвертирован в ходовую валюту «общественного блага»[11]. Для того чтобы очертить масштаб скрывающейся за этим парадоксальным обстоятельством проблемы, следует рассмотреть взаимоотношения Церкви и государства в их несколько более широкой исторической и идеологической перспективе. В древнем обряде крещения, принятом и в Русской православной церкви, исповедание верности Христу завершается вопросом священника: «И веруешь ли Ему?» На что оглашенный (или восприемник) отвечает: «Верую Ему, яко Царю и Богу». Это окончательное решение и называется, собственно, принятием христианской веры. Всякий член Церкви как собрания верующих во Христа тем самым присягает на верность определенной форме политической власти. Эта власть совершенно особого рода, ибо «Царство», воином и членом иерархии которого становится неофит, — «не от мира сего» (Ин. 18. 36). В то же время неофит остается подданным и другой власти — государственной, или власти «кесаря», которой надлежит отдавать то, что ей причитается, в частности налоги. Различие этих двух «царств» — применительно к историческому контексту возникновения этой дилеммы в христианстве — не совпадает полностью с дихотомией «сакрального» и «профанного» или сходных с ними понятий. Власть «кесаря» в социально-политическом контексте истории с римским динарием, о которой повествует Евангелие (Мф. 22. 17—21; Лк. 20. 22—25), идеологически была связана с сакральными сферами чрезвычайно тесно. Так, культ римского императора Августа (предшественника Тиберия — «кесаря», изображение которого и находилось, по всей видимости, на упомянутом динарии) в значительной степени подогревался слухами о его божественном происхождении, а после смерти он был причислен к лику богов. Тот же Август был одновременно «отцом отечества» (pater patriae) и «верховным жрецом» (pontifex maximus). Позднее, начиная с Аврелиана (III в.), император вообще принимает титул «господин и бог» (dominus et deus). В сочетании с восходящей к Августу идеологией, прокламировавшей завершенность «миссии Рима» и наступление «золотого века», тенденция, направленная на совмещение светской и религиозной власти в одном лице, и породила то кризисное состояние античного политеизма, которое подняло волну разного рода эклектичных учений (гностицизм и т. п.) и было ликвидировано Константином Великим. Последний воспользовался тем типом отношения между божественной (сакральной) сферой и императорской властью, который предлагало распространившееся вопреки гонениям христианство[12]. Предшествующая римская схема отношений государственной власти и сакральной религиозной сферы строилась на прямом включении правителя в божественную иерархию через систему родства (эта схема была характерна и для многих других культур). Христианство же организует свои отношения с государством таким образом, что мирские и сакральные функции не отождествляются. И даже там, где они долгое время совмещались в одном лице (например, при средневековом католицизме), всегда существовало понимание этих различий (в данном случае — доктрина «двух мечей»), что и находит свое полное выражение в осуждении двух разновидностей их слияния (папоцезаризм и цезарепапизм). Византийская формула «симфонии», получившая законченную формулировку во второй половине IX века, требует для своего содержательного понимания обширного комментария из области христианской антропологии, описывающей отношения «тела» и «души» в человеке. Кроме того, необходимо привлечение христологической проблематики соединения в одном существе двух природ, причем на все это накладывается еще и реминисценция «Церковь есть тело Христово» (так что «мирская власть» — это что-то вроде «тела тела»). Не вдаваясь в эти тонкости, следует отметить, что исторически «первичная сцена» возникновения христианства определяет и предпочтительный для него тип государственного устройства — императорскую власть. Именно империю как «рамочное условие» предполагают все традиционные схемы отношений православия и государства (включая названную «симфоническую» схему «согласия»). Впоследствии — когда отношения империи и Церкви сложились позитивно — это выразилось в многовековом союзе «трона и алтаря». Однако и в условиях первоначальной конфронтации именно такой тип государственной власти получает религиозное благословение, выраженное в словах апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13. 1; ср. 1 Петр. 2. 13–16). Примечательно, что это сказано в то время, когда Римом правил небезызвестный император Нерон, который хотя и не был «систематическим» гонителем христиан (вроде Трояна или Марка Аврелия), однако обращался с христианами (включая того же апостола Павла, обезглавленного по его приказу вместе с апостолом Петром) с такой демонстративной жестокостью, какую не могла себе позволить, например, та же Советская власть. Поскольку в столь экстремально агрессивных и конфронтационных условиях христианская Церковь могла успешно выполнять свою миссию, возникает вопрос, не является ли именно такой тип отношений Церкви и государства идеальным с точки зрения чистоты самой Церкви. В ситуации «мирного сосуществования» государства и института Церкви этот тип отношений проявляет себя в отшельнической самоизоляции Церкви. (Эта самоизоляция, как известно из византийской истории, государством также первоначально воспринималась враждебно.) Однако такая постановка вопроса уместна лишь в рамках бескомпромиссной религиозной «этики убеждения», которая сразу же делает маргинальным ее представителя в области церковно-государственных отношений, требующих обсуждать вопросы этих отношений с позиций «этики ответственности», в русло которой и вводит эти отношения, например, нынешняя социальная концепция РПЦ. Внутренняя этика религиозного убеждения является дихотомической: это всегда «или — или». Современная же политика РПЦ — это логика, так сказать, соединительно-конъюнктивная: «и — и». Текст, в котором излагаются основы социальной концепции РПЦ на современном этапе, представляет собой замечательный документ такой «мягкой» логики. В нем можно найти как дихотомическое напряжение, которым питается сильное религиозное чувство[13], так и позицию, способную удовлетворить рационально мыслящего бюрократа[14]. И все это едва ли не на одной странице[15]. Однако само соприсутствие этих положений выдает ослабление и либерализацию вероучительного единства — процессы, с необходимостью сопровождающие периоды адаптации института Церкви к новым историческим и социально-политическим реалиям. (В эту картину вписывается и многообразие доктринальных течений, распространенных в РПЦ.) Среди этих реалий можно назвать две важнейшие. Во-первых, опыт советского государства продемонстрировал, что возможна Империя, которая вообще не нуждается в религии (в обычном понимании этого слова)[16]. Во-вторых, на сегодняшний день нет Империи, задающей рамку традиционных схем взаимодействия православной Церкви и государства. В силу изначального различия «двух царств» христианский тип отношения к светской власти несет в себе зародыш их возможной полной дифференциации, что фактически и нашло свое выражение в принципе отделения Церкви от государства, законодательно закрепленном в настоящее время также и в России. В то же время история отношений государственной власти и христианской религии обнаруживает эпизоды чрезвычайно сильного сближения. Это сближение можно охарактеризовать как взаимную инструментализацию. С одной стороны, государственная (имперская) власть использовала христианство как опору своей легитимности, как механизм идеологического влияния и мобилизации народов, как основание государственной консолидации и централизации власти, как производителя интегрирующих «мировоззренческих ценностей», позднее — как элемент национальной идеологии в период ее возникновения и т. п. Указание на роль Церкви в осуществлении этих государственных по своей природе задач (роль, которую артикулирует русская церковная история[17]) является смешением понятий, поскольку ни одна из этих функций не входит в компетенцию Церкви (даже как-то неловко было бы ссылаться при этом на отношение к актуальным политическим вопросам самого Иисуса Христа). С другой стороны, Церковь равным образом постоянно использовала государство для решения своих собственных задач, из которых важнейшими являются деятельность охранительная (сохранение истинной веры, в качестве необходимого условия которого предполагается процветание института Церкви) и проповедническая (распространение веры)[18], что время от времени подогревалось эсхатологически окрашенными идеологическими концепциями «последнего царства» (отечественной разновидностью каковых является доктрина «Москва — третий Рим»). Основная же функция Церкви — литургическая — довольно косвенно может быть связана с государством. Из этого следует, что инструментализм (или «техническая» целерациональность) не является исключительной прерогативой государственного и бюрократического мышления. Конечно, существуют такие формы организации христианской религиозности, в которых — по крайней мере в идеальной тенденции — осуществляется отказ от преследования каких бы то ни было целей, понятых в целерациональных категориях, которыми руководствуется и государственное мышление (по крайней мере современное[19]). Однако это означает одновременный отказ и от мирских средств достижения подобных целей, что выводит такого рода формы организации из сферы конструктивного государственного интереса (поскольку государство не может оказывать в этой сфере практически никакого влияния, а значит, и использовать эти формы в своих интересах). Одна такая форма и представлена уединенными созерцательно-аскетическими практиками (в русской церковной истории эту позицию символизируют «заволжские старцы»[20]). Но история русской Церкви показывает, что хотя такой путь и не отвергается ею в ограниченных масштабах на уровне индивидуального подвижничества, однако доминирует совсем другая тенденция (в России никогда не было, в частности, такого института, как нищенствующие монашеские ордена[21]). Привлекая тот же условный эпизод церковной истории, эту традицию можно назвать «иосифлянской», и строится она на вполне «мирском» и взаимно инструментальном обмене услугами[22]. И, несмотря на то, что эти позиции едва ли могут существовать в чистом виде, определенные предпочтения здесь, тем не менее, обнаруживаются и сказываются на характере вовлеченности церковной политики в сферу широких государственных интересов. Та же «альтернативная» Церковь (наследница «катакомбной» Церкви, существовавшей в советское время), как известно, в отношении верности чистоте вероисповедания считает себя духовно выше Московской патриархии, преемницы лояльного по отношению к советскому государству «сергианства». Возможно, она имеет на то право с точки зрения ригористичной логики Царства «не от мира сего». Однако тем самым она сразу же ставит себя в маргинальную позицию, не вызывающую того публичного государственного интереса, которым окружена Московская патриархия. Длительный период функционирования разных (во многом идеализированных и идеализируемых) форм сосуществования христианской церковной и светской государственной власти (православная «симфония» на Востоке, гармоничное католическое средневековье на Западе) закончился. И закончился он тем, что государственная власть, руководствующаяся «этикой ответственности», пересмотрела отношения этого сосуществования. Например, превратив Церковь в одну из отраслей государственного аппарата управления (синодальный период в России 1721–1917 годов) или же в удобный и управляемый национальный институт («чья власть, того и религия»). Поводом для этого послужили как длительные религиозные войны в Европе, так и, например, такого рода дезинтегративные эксцессы, как русский церковный раскол, когда обществу пришлось расплачиваться за перенос на государство собственно церковной функции (сохранения истинной веры). Процесс дифференциации религиозной и светской власти нашел свое отражение и в изменении политики Церкви по отношению к государству. Крайним выражением этого можно считать явление, которое мы — разумеется, лишь метафорически — назовем здесь «иезуитизмом» (по аналогии с названием ордена иезуитов, обросшего соответствующей мифологией). Мы имеем в виду практику использования светских средств для достижения собственно церковных целей и без оглядки на национально-государственные интересы. В этом смысле «иезуитизм» является своего рода контрмерой по отношению к «макиавеллизму» (выражаясь на современный манер — беспринципной «политтехнологии»). Символично, что Макиавелли и Лойола были практически современниками. С другой стороны, инерция христианского видения динамики исторического процесса в рамках секуляризованной социально-политической мысли наблюдается в разных формах утопизма. Предлагаются схемы устроения совершенного общества на земле человеческими силами, в качестве религиозного аналога которых традиционно называется «хилиазм», или учение о «тысячелетнем Царстве», основывающееся на одной из интерпретаций Откровения Святого Иоанна Богослова[23]. Близким нам эпифеноменом этой формы частичной секуляризации является коммунизм, который унаследовал ряд особенностей русской религиозности (о чем написано немало литературы). Другим примером такого рода трансформации является имперская идеология Соединенных Штатов, заквашенная на чрезвычайно радикальных протестантских идеях и нацеленная как раз на реализацию проекта «самого совершенного общества», который, по мнению многих, но главное — самих американцев, им и удается более или менее успешно осуществлять. Мощнейший «мирской» креативный потенциал, высвобождающийся в процессе секуляризации общественного сознания и создавший, в частности, «трудовую этику» капитализма, однако, дал сбой в России (здесь не существенно, по каким — внешним или внутренним — причинам). Обобщая эту тему применительно к нынешней российской ситуации, можно сказать, что «социалистическая» система ценностей была нарушена, тогда как проект создания секуляризованной интегрирующей мировоззренческой системы пока не привел к положительным результатам (в понимании определенной части общества и государства). Учитывая то, что прежняя социалистическая ценностная система не была свободна от определенных структурных особенностей религиозного мировоззрения, обращение к православию выглядит в этой ситуации достаточно закономерным. Однако сугубо светские функции, которые оно призвано осуществлять, явным образом входят в противоречие с имманентной логикой тех схем, которые считаются оптимальными для выстраивания ее отношений с государством. Церковь может принять функцию государственного служения полностью и без остатка только в «православной империи», власть в которой санкционирована свыше и на этом основании признается Церковью. Но такая форма, в свою очередь, входит в противоречие с самим принципом легитимности современного демократического государства[24], власть в котором имеет силу лишь в рамках «общественного договора» и концепции «народного суверенитета» («Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (Конституция РФ, ст. 3, п. 1)). В рамках этой концепции власти можно много чего изменить. Можно ввести конституционную монархию, равно как и «государственную религию» (в границах тех резонов, которые были указаны уже Руссо[25]) и т. д. Нельзя только одного — изменить сам принцип легитимности этих изменений. А ведь именно это и предполагает политическая логика христианской религии, для которой «народ» не может быть предельным авторитетом, а государство должно возложить на себя заботу о потусторонней судьбе своих граждан и обеспечении интересов «истинной религии». На этом схематичном историческом и проблемном фоне относительно перспектив сближения государства и Церкви можно сказать следующее. Церковь, несомненно, входит в сферу интересов государства. Это происходит как в силу того, что она позиционирует себя в качестве обладательницы значительного символического капитала, так и в силу представления о ней, которое сложилось у самого государства («олигарх» с широкими возможностями). В то же время сами эти интересы продиктованы главным образом текущим дефицитом интегративных ценностей и интегративной идеологии. Этот дефицит — в обмен на соответствующие протекционистские меры — обещает восполнить православие (прежде всего в лице РПЦ). Такую перспективу, на наш взгляд, нельзя рассматривать как долгосрочную, поскольку (если взять этический аспект проблемы «мировоззренческих ценностей») известная дилемма русского литератора, переформулированная как «или Бог есть, или все позволено», является по существу неверной. Можно также надеяться, что основные секуляризованные принципы государственного устройства России, резюмирующие определенный исторический опыт отношений государства и Церкви, обеспечивают достаточный иммунитет от переоценки интегрирующего потенциала религиозных православных ценностей, и дело не дойдет, в частности, до введения урока Закона Божьего в школах. Следовало бы также надеяться, что в русле умеренного консерватизма государство ограничится созданием таких условий для православия, которые позволят гражданам, имеющим религиозные потребности, реализовывать их (если на то нет каких-то других оснований, базирующихся на сильных приватных убеждениях) в рамках исторически и культурно обычной и приемлемой для российского общества конфессии. Причем при условии, что эта конфессия не просто будет поглощать соответствующий социальный, интеллектуальный и прочий капитал, но сможет обеспечить его некоторую отдачу с точки зрения «общественного блага». Этот утилитарный подход является платформой взаимодействия государства и Церкви как «земного» института, нуждающегося в материальной и проч. поддержке. Ничто, однако, не исключает того, чтобы это утилитарное отношение, сколь бы болезненно оно ни воспринималось в рамках предельной логики религиозного мышления, дополнялось какими-то иными формами присутствия религиозного сознания и практики. Однако эти формы могут иметь лишь «нестяжательный» характер, а в силу этого — если реалистично учитывать современное состояние общества, исторический опыт и некоторые склонности человеческой природы — не будут оказывать сколько-нибудь широкого идеологического и социального воздействия, строго ограничиваясь приватной сферой. Попытка же внедрить эту предельную и радикальную логику в систему широких церковно-государственных отношений может иметь лишь дезинтегрирующие социальные последствия (так как светская общественность в такой перспективе будет вынуждена мобилизовать свой собственный культурный и идеологический потенциал). Мало того, такая попытка будет травмировать само религиозное сознание, поскольку лишь отодвигает необходимость выработки более дифференцированных схем отношений Церкви с обществом и государством в ситуации, когда идея возрождения «Православной империи» может иметь лишь иллюзорный характер. [1] Сам конституционный закон, правда, и в существующей форме может истолковываться (и истолковывается отдельными активными деятелями РПЦ) так, что не исключает проникновение Церкви в важнейшие общественные институты, находящиеся в ведении государства (например, образовательные). [2] В особенности это относится к «духовности», за возрождение которой, например, Международная академия экологической реконструкции наградила в 2001 г. Патриарха Алексия II премией и орденом Святого князя Александра Невского [http://www.pravoslavie.ru/news/010702/15.htm]. Понятие «духовность», вообще говоря, не имеет сколько-нибудь внятного содержания и объема, и его определение носит «круговой» характер: православие возрождает «духовность», а «духовность» — это и есть то, что возрождает православие (можно, поэтому, предположить, что следующую такую же награду, но уже «за возрождение государственности» получит от указанной академии действующий Президент России). [3] Статья 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». В то же время документы РПЦ пропитаны более или менее сдержанными негативными оценками современного «антропоцентристского» светского права. Оценки эти диктуются правилами религиозно-церковной языковой игры и имеют определяющее значение для формирования идентичности самой Церкви. Приведем, например, одно из положений письма Патриарха Алексия II, направленного ряду религиозных лидеров Европы по поводу Хартии фундаментальных прав ЕС [http://www.orthodox.org.ru/nr012141.htm]. Письмо составлено по правилам «внутренней» религиозной логики и предназначено для экспортного позиционирования: «Преамбула Хартии, как уже неоднократно отмечалось представителями христианских Церквей и объединений, игнорирует религиозное наследие Европы, подчеркивая роль лишь гуманистических ценностей, не являющихся безусловным приоритетом для целостного религиозного миропонимания». Тогда как в документе, предназначенном главным образом для внутригосударственного обращения, — «Основах социальной концепции Русской православной церкви» (далее — СК) — один из аспектов этой проблемы получает иное и уже значительно более спокойное освещение: «Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом. Но этот принцип оказывается одним из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев общества» (СК, III, 6). [4] Ср. СК, III, 7: «Однако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного устроения станет естественной». Если судить по упомянутой выше акции награждения Патриарха Алексия II Международной академией экологической реконструкции, «общество» уже действительно стоит на пороге именно этого состояния. [5] См. раздел статистики на сайте «Государственно-конфессиональные отношения» [http://www.state-religion.ru/]. [6] В последнем случае, правда, не вполне ясно, каково происхождение самой этой идеи, поскольку достаточно очевидно, что именно в Европе «предельные» религиозные ценности в полной мере обнаружили свой дезинтегрирующий потенциал в ходе многочисленных кровавых столкновений на «единой» христианской религиозной почве (хотя в целом современное объединение Европы благоприятствует усилению идеологии католической Церкви, некогда действительно объединявшей весь Запад). Христианские религиозные ценности являются объектом жестких притязаний отдельных конфессий, каждая из которых — в полном соответствии с логикой церковного религиозного мышления — претендует на то, что только она хранит их в абсолютной чистоте и подлинности. Поэтому в рамках церковной логики невозможна никакая ценностная интеграция без символического, а затем и институционального, слияния, которое, если реалистично смотреть на вещи, исключено в отношении любой комбинации крупных христианских конфессий. Только секуляризованное мышление способно относиться к этим ценностям как к нейтральному «культурному наследию». [7] М. Вебер называет «традиционалистским авторитетом» «господство, основанное на том, что действительно, мнимо или предположительно существовало всегда» (Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Введение // Вебер М., Избранное. М. 1994. С. 68). В настоящее время легитимация власти в России является, по типологии Вебера, «рациональной», но это не значит, что она осуществляется без косвенного привлечения других типов легитимации (которые никогда не бывают представлены в чистом виде). [8] Ср., например, один из проектов концепции государственной политики в сфере отношений с религиозными объединениями в Российской Федерации, разработанный Институтом государственно-конфессиональных отношений и права и Главным управлением Министерства юстиции РФ по г. Москве в лице заместителя начальника Главного управления В. Н. Жбанкова [http://www.state-religion.ru/], где среди задач государственной политики в сфере отношений с религиозными объединениями называется «содействие возрождению и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества» с использованием потенциала «традиционных религиозных организаций». Озвучивание этой задачи вызвало позитивные отклики со стороны экспертов и авторитетов РПЦ, равно как мусульманских и некоторых других религиозных объединений, претендующих на часть символического исторического капитала, скрывающегося за понятием «традиционная религиозная организация». [9] На что накладывается неудача проекта «перестройки», равно как и идеологии ельцинской эпохи, которую, огрубляя, можно назвать радикальным либерализмом. [10] На рынке «подлинных традиций» спекуляция развита до чрезвычайности: существует большое число многозначительных агентов, проповедующих какие-то «глубинные», «восточные», «евразийские» и проч. «традиции». [11] Образцом такого рода логики является позиция РПЦ в вопросе налогообложения «пожертвований» (СК, VII, 4): «Церковь заявляет, что если тот или иной ее доход носит предпринимательский характер, то он может быть облагаем налогами, но любые посягательства на пожертвования верующих являются преступлением перед людьми и Богом». Достаточно простой аргумент, который может предложить светское прагматическое мышление: для Бога может представлять ценность только сам акт пожертвования, тогда как Он не испытывает нужды в самих пожертвованных благах, — неприемлем для Церкви как института «двойной природы», которому — при всех его мистических качествах — свойственно испытывать материальные затруднения. [12] Импульсом к признанию христианства государственным культом послужили для Константина, испытывавшего военные и политические трудности, вполне утилитарные соображения, характер которых резюмируется в предании о том, как на небе ему явился крест с надписью «Сим победиши». Примечательно, однако, что Константин «стал на стороне христианства и христиан в такое время, когда число христиан по сравнению с язычниками представляло меньшинство» (Лебедев А. П. Эпоха гонений на христиан. М., 1994 (репринт 1910 г.). С. 276). В русле религиозной логики «большинство», вообще говоря, не является значимым критерием, что показывает история ересей. Поэтому вся аргументация Церкви, выстраиваемая на апелляции к каким-то цифрам, иллюстрирующим ее доминирование, а потому и правомерность особого отношения к ней, является совершенно светской по своему характеру. [13] «В той степени, в какой мир не подчиняется Богу, он подчиняется “отцу лжи” сатане и “во зле лежит” (Ин. 8. 44; 1 Ин. 5. 19)» (СК, III, 3). [14] «Религиозно-мировоззренческий нейтралитет государства не противоречит христианскому представлению о призвании Церкви в обществе» (СК, III, 6). [15] С имманентных позиций христианской эсхатологической логики вообще непонятно, о каком «нейтралитете» в бескомпромиссной борьбе предводимой Христом «Церкви воинствующей» со все еще скованным, но влиятельным «князем тьмы» может идти речь в перспективе неуклонно приближающегося Армагеддона. Заранее, кроме того, известно, что эта борьба при всем своем напряжении должна — накануне вмешательства потусторонних сил — окончиться поражением: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13. 7–8). Из каких источников питается уже упоминавшаяся оптимистическая возможность «духовного возрождения общества» (СК, III, 7), нельзя понять без допущения некоторого «мирского» прогнозирования «духовного возрождения», поскольку никаких религиозных источников для такого рода оптимистических ожиданий не известно. [16] Включение в СК положения о возможности призвания к гражданскому неповиновению является, по сути, попыткой учесть это новое обстоятельство. [17] В декларации Поместного собора 1917–1918 годов, сочувственно цитируемой в «Основах социальной концепции Русской православной церкви», в частности, говорится: «Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в Российском Государстве первенствующее среди других исповеданий публичноправовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Государство Российское…» (СК, III, 4). То, что эти заслуги не имеют никакого отношения к сущности и внутренним задачам Церкви, видно из того, что это высказывание при подходящей замене наименования государства и конфессии могло бы войти в документы очень разных стран с совершенно другими конфессиями. [18] Если православие традиционно настаивает на своих заслугах в области охранения веры, то пальма первенства в ее распространении принадлежит, конечно, католичеству (статистический факт). [19] Понятие целерационального действия поддается, впрочем, такой модификации содержания, что может включать в свой объем почти все формы религиозного поведения. Такое расширение встречается и у М. Вебера и заключается в сведении «цели» к некоторому актуально переживаемому психическому состоянию (например, уверенности в спасенности). Внутренний нерв христианства как Царства «не от мира сего» пульсирует, однако, именно в напряжении «абсурда»: «верую, потому что абсурдно» — мотив, восходящий к Тертуллиану и многократным отзвуком отдающийся во всей последующей христианской культуре в те моменты, когда она пыталась освободиться от «онтотеологии», т. е. понимания Божественного в тех категориях, в которых мыслится доступное рациональному познанию сущее. [20] А. В. Карташев говорит, например, о «внегосударственной пустыннической позиции пр. Нила» (Очерки по истории русской церкви. Т. 1. М., 1991. С. 396). Симпатии русской либеральной культуры традиционно находятся на стороне «нестяжателей», тогда как символизация самого этого эпизода русской церковной истории является во многом заслугой одного из активных участников «Отечественных записок» второй половины XIX века А. Н. Пыпина. [21] Максим Грек в свое время с сожалением констатировал это обстоятельство применительно к православию, приводя в пример несколько идеализированную практику одного из католических орденов. Позволим себе привести эти его положения в развернутом виде, так они выражают самое существо дилеммы «стяжательства» и «нестяжательства», никак не изменившееся за несколько столетий. «Так следовало бы и нам, православным, устроить относительно нас, иноков, и чтобы соборами богоносных отцов избирались игумены для священных обителей, а не так, чтобы посредством даров серебра и золота, даваемых народным писарям, игуменские места достигались желающими, из числа коих большая часть совсем не обучены предметам божественным и проводят бесчинную жизнь, упражняясь всегда сами в пьянстве и во всяком чревоугодии, а находящиеся под их управлением братья, презираемые ими в телесных потребностях и пренебрегаемые в духовных, скитаются по распутьям, как овцы, не имеющие пастыря. Увы, увы! Пощади, Господи, пощади! Если же некоторые, ослепляемые самолюбием, спросят, откуда же и чем будут они питаться, если станут любить совершенное нестяжание, то, так как они сами добровольно, побуждаемые самолюбием и славолюбием, закрывают глаза перед евангельскою истиною, я скажу им: “Не слышите ли, добрейшие, Спасителя нашего Иисуса Христа, говорящего святым Своим ученикам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам” (Мф. 6. 25, 33). Исполняя эту спасительную заповедь и это учение, вышеупомянутые иноки не пекутся о том, как приобрести обилие стяжаний и имений, стада разного скота или большие земные сокровища, золото, серебро. Одно у них преизобильное стяжание и неистощимое сокровище, это – прилежнейшее хранение и исполнение всех евангельских заповедей, посредством которых скоро и удобно исправляется ими главнейшая добродетель – любовь к Богу и к ближнему, ради чего они день и ночь трудятся в изучении Священного Писания, просвещаемые которым более и более разжигают в себе угль божественного желания и, движимые и руководимые им, не могут умалчивать спасительное и учительное слово во славу Божию, но непосредственно поучают в церкви, проповедуя благодать Господню и доказывая всякому человеку неисчетное Его человеколюбие и благость к тем, которые живут согласно воле Божией, совершая свое спасение со страхом Божиим; также возвещают и нестерпимый Его гнев и ярость против прогневливающих непрестанно всякими безобразиями, неправдами и развратом неизглагольное Его долготерпение. Являясь всегда таковыми для народа и имея, как чадолюбивые отцы, непрестанное попечение о свободе многих, они у всех находятся в чести и всеми любимы, и потому все с великой благодарностью и с добрым распоряжением предлагают им ежедневную пищу и прочее, необходимое для жизни» (Повесть страшная и достопримечательная; здесь же и о совершенном иноческом жительстве // преп. Максим Грек. Творения. Ч. 3. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. С. 122–124 (цит. в современной орфографии)). [22] В случае Иосифа Санина (настоятеля Волоколамского монастыря и довольно жестокого даже для своего времени инквизитора) — идеологическая поддержка и апологетика великого князя московского в обмен на неприкосновенность церковной собственности как средства осуществления религиозных задач. [23] Всякий «наивный» читатель Откровения неизменно приходит к хилиазму, и требуется довольно искусное толкование, чтобы его избежать (таковое принадлежит Августину и перенято, если верить «Догматическому богословию» о. М. Помазанского, также и в православии). Вообще непосредственное обращение к Священному Писанию (Библии) и попытка его осмысления заканчивается обычно какой-нибудь ересью с точки зрения церковной догматики. Поэтому прочтение Святого Писания в рамках Церкви должно быть опосредовано либо авторитетным интерпретатором, либо чтением Священного Предания (в этом отчасти заключается и смысл сохранения языковой дистанции — латыни или церковнославянского языка). Массовая «библеизация» страны (бесплатное распространение Библии), произошедшая в постсоветское время, осуществлялась, насколько можно судить по составу включаемых в распространяемые издания неканонических ветхозаветных книг, усилиями протестантских миссионеров. А это, в свою очередь, связано с особенностями протестантского вероучения, редуцирующего институт Церкви и всякое Священное Предание как препятствие для непосредственного общения с Богом (sola scriptura — только Писание; sola fide — только вера). [24] Которое, нельзя забывать, и предоставило Церкви свободы, достаточные для осуществления ее служения, не возвращая в то же время государственно-церковные отношения к схеме «синодального периода». [25] «Право над подданными, которое получает суверен по общественному соглашению, никак не распространяется … далее границ пользы для всего общества. Следовательно, подданные обязаны суверену отчетом в своих воззрениях лишь постольку, поскольку эти воззрения важны для общины. А для Государства весьма важно, чтобы каждый гражданин имел религию, которая заставляла бы его любить свои обязанности; но догматы этой религии интересуют Государство и его членов лишь постольку, поскольку эти догматы относятся к морали и обязанностям, которые тот, кто ее исповедует, обязан исполнять по отношению к другим. Каждый может иметь, кроме этого, какие ему угодно мнения, и суверену вовсе не положено их знать. Ибо поскольку он не обладает никакими полномочиями в ином мире, то, каковы бы ни были судьбы его подданных в грядущей жизни, — это не его дело, лишь бы они были хорошими гражданами в этой» (Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1998. С. 319–320). |
| ||