Опубликовано в журнале Октябрь, номер 2, 2004
ПРАВЫЙ ЛЕВИН
Все счастливые семьи
похожи друг на друга.
Л.Н. Т о л с т о й
Любому сочинителю всегда понятны и близки предшественники. Они живут в его плоти и крови, внутри, поэтому совершенно свои. Конечны и очевидны.
Современники где-то там, снаружи, пугающе непредсказуемы, как варианты новых геометрических построений на множестве звездных точек ночи.
Инородные фигуры. Марсиане.
Тем поразительнее совпадение. Цвет, группа крови, химический состав вдыхаемой и выдыхаемой воздушной смеси. Я ведь тоже родился в маленьком городе, Ленинск-Кузнецкий, бывшее Кольчугино. Точно в середине западно-сибирской неизменности. А жена моя, Ольга, в Анжеро-Судженске, на транссибирской железной дороге. Мой отец – беглый белорусский еврей, ее – сын башкирских кулаков, спецпереселенец. Нас с детства окружали люди с двумя высшими образованиями.
Московский университет, Южкузбасслаг.
Первый украинский фронт, СибУЛОН.
Надо ли говорить, что роман-идиллию Александра Чудакова я читал запоем. Хотя, казалось, и давно физически на такое не способен. Даже вино цежу, пью долго, медленно, глядя в окно и разговаривая. А тут буквально залпом. Стакан за стаканом. Невероятно.
Но, впрочем, Боже мой, это, конечно, сопли, слюни, непрофессиональный разговор. Песня “Пой, ласточка, пой” тоже бередит душу, но со стихами Мандельштама никак не соотносится. Вопрос, который оказался однозначным для Букеровского жюри, решением окончательным этого же самого синклита не снят. Наоборот, открыт и требует ответа. Что перед нами, проза или нет? “Ложится мгла на старые ступени” – роман или записки антрополога, дневник историка, отчет путешественника по времени воображаемому Императорскому Географическому обществу?
Ответим. Начнем с того, чем, по всей видимости, закончила шестерка судей. С отсутствия сюжета. Два, три стежка трифоновскими нитками даже не намечают, слегка только обозначают типичный городской конфликт наследников. Они не в счет. Пальто не сшито все равно. Отдельно рукава, отдельно хлястик. Подкладка на столе, а пуговицами играет дочь. Ну и отлично. На самом деле в сюжете нет никакой нужды. Для современного романа необходимость в хребте завязки и развязки отпала с изобретением телевизора. Стала опциональной. Проза больше не обязана копировать часовой механизм, где все колесики жестко и однозначно сцеплены. Компьютерные спецэффекты лишили очарования старый фокус. Секрет в другом. Человека эпохи беспроводной связи и коммутируемого доступа может завораживать только одно – подлинное чувство. Только оно может порождать художественный текст нашего времени. Не кованые ребра скелета делают ныне роман, а невидимое электричество натянутых нервов. Попросту лирика, которой переполнен текст Чудакова, как воздух летнего леса свистом и стрекотом прямо- и перепончатокрылых.
Роман о смерти. О русской смерти. Он только так и мог быть написан, организован грядками, как огород. С ботвой, цветами и собакой. Он заканчивается там, где начинается французский. И это как всегда не поняли люди с одним образованием. Филологическим.
Но, впрочем, снова не о том! В конце концов ведь правда прозы не в медалях и триумфальных лентах. Она в образе. И здесь главная победа Александра Павловича Чудакова. Он проиграл “Букера”, но выиграл у Толстого. У графа Льва Николаевича.
Ходульный Левин, убогий Левин, столь же нелепый, как сапоги, что под расписку яснополянский дед навялил, всучил слабовольному Фету. Гадость. Наказание за счастье вкушать главы о несравненном Стиве. Картонный человечек, порождение ума, не сердца.
Типичный случай, когда обрести правоту, живым стать можно только через расстрел, повешение, колесование.
“В Чебачинск! В Чебачинск!” – должны были кричать чеховские сестры. Москва – неверное направление. Русское благородное сословие в девятнадцатом, двадцатом веках делало все, чтобы погибнуть. Никто только не мог понять: зачем? Теперь нам объяснили: чтоб по-толстовски духом и делом доказать свое величие и благородство.
Вот как. Теория соединяется с практикой на границе Сибири и Казахстана. Левин варит мыло и садит морковь. А его умница-внук сочиняет правильную “Анну Каренину”. Пусть только одну треть, пусть четверть книги книг, но это уже счастье, которого сам себе только и может пожелать любой пишущий по-русски. По-чешски, по-китайски, по-немецки. Неважно. Просто любящий жизнь.
ПАРАСОЛЬКА
Я всегда радовался тому, что не родился на Украине. Не оказался каким-нибудь Изей Львовичем Мордюховичем из города Станислава. И не должен поэтому зонт называть парасолькой, как конюх пана Потоцкого.
Стыдно сознаться! Но наказание за глупость и высокомерие все равно пришло. Писатель Клех не поленился. Дзекуе. Поставил все-таки меня в галицкий угол. Заставил восхититься выражением “космический харч”.
Именно так. Честное слово. Мистикой, белыми аистами с черной отметиной, витражами и карпатской кафкианой, усами и песнями сечевиков меня, сибирского пельменя (три части свинины, две части говядины и лука, лука от души), как ни старайся, не тронешь, не возьмешь. Не стану сидеть с открытым ртом, и все тут.
Я должен щупать. Нюхать. Рассматривать. Бесплотный дух мне непонятен. И неприятен. Для меня вещь, только вещь одухотворена. Прекрасна и волшебна в своей определенности. Каждая штука на белом свете. А Клех умеет эти штуки подсовывать под самый нос, прямо в руку вкладывать, бросать за шиворот и к пузу прижимать. Вот как.
Удивительный дар. Способность превращаться в одно из чувств. Собаки, кошки, муравья и стрекозы. К предметам подходить много, много ближе, чем это дано обыкновенному человеку. На расстояние прозрачной лапки и нежного усика. В этих запредельных, пограничных точках счастливо являются писателю невиданные цвета, неслыханные звуки и открывается наука геометрия, непостижимая для разума двуногих. Абсолютно иррациональная конкретность. От которой мурашки бегут по коже.
Что поразительно, при этом мистика лесов и гор присутствует, реют над Клехом аисты, скачут гуцулы и пишет Бруно Шульц, журчат реки Полесья, стоят костелы Львова, шумит та самая карпатская пурга, что мне, сибирскому валенку (на два кило картошки пакет лисичек и лука, лука не жалеть), чужда и подозрительна по определению. А результат вне времени, национальности и географии. Как слово Коперника.
Вы открыли закон всемирного тяготения. Второй закон термодинамики. Это самое лестное и замечательное, что можно только сказать о писателе и его слове. Сравнить сочинителя с математиком и астрономом. Иметь на это право. Беллетрист завидует Конан Дойлю. Настоящий поэт – только Галилею. Радость узнавания способствует хорошему сну читателя. А радость открытия умножает обаяние. Превращает читателя в птицу, рыбу и юркую ящерицу. Делает равным автору. Если, конечно, он Игорь Клех.
Что касается меня, сибирского котелка (огурчик покрошить, яичко, кислый квас и лука, лука с черемшой побольше), то мой предел – все тот же Изя Львович. Метр с кепкой Мордюхович. И ладно, я не жалуюсь!
Ведь парасолька, как выяснилось, просто время солить борщ и гулять в ночном тумане по росе. Счастливая сказка о Парасе и Ольке.
Две нотки соль, ни бемоли и диеза, а гамма, целый мир, фортепианный аршин, разбегающийся во все стороны бесконечного и неисчислимого предметами своими света.
И каждый чист, прекрасен и неповторим. Sztuka.
ПИСАТЕЛЬ С ДЕТСКОЙ ФАМИЛИЕЙ
Был когда-то, то есть писал хорошо, чудесный сочинитель В.П. Аксенов. Про местных хулиганов и бесконечную дорогу на Луну. Легко и жизнерадостно. А потом как-то неожиданно “босоногое детство” у него стало “голожопочным”. Таких слов не бывает в инструкции по пользованию катапультой. И в руководстве по запуску перпетуум-мобиле подобных не найти. Другой жанр. Неинтересный. Массовый.
А хочется по-прежнему индивидуального. Ясного и светлого. Как наставление по игре в баскетбол за ленинградский “Спартак”. Ведь в жизни всегда есть место четкому стуку и тихому звону. Такая уж у человеков физиология. Схема перетоков жизненных веществ. Главная муза хорошей литературы.
Критика чистого разума и теория прибавочной стоимости, идеи вообще – разъединяют. А внешняя схожесть и функциональное подобие сердечно-сосудистых систем, наоборот, объединяют. Не буквы на скрижалях, а тайна обмена веществ в собственном организме приводит человека к мысли о том, что себе подобных надо любить.
Надо быть добрым, черт побери. Просто потому, что умрешь. И друзья твои умрут, и подруги. И враги, конечно. Которые, понятно, не враги, а так. Просто ненужных, нехудожественных книжек начитались или не ели никогда немытых лесных ягод на ночь.
А хорошая литература – это постоянство. Сказка на сон грядущий. Всегда одна и та же, только слова меняются. Как в биографиях Гагарина, Титова, Терешковой и Джона Гленна. Я рад, что у нас снова есть сочинитель простых историй. Оле Лукойе. Писатель с настоящей, правильной фамилией. Детской, не испорченной каким-нибудь лысым логопедом. Андрей Геласимов.
У синеглазых и нескладных все как у больших, которые с паспортом и удостоверением, все так же, но только по правде. Потому что еще не пришлось ни разу предавать, воровать, убивать, а равно быть преданными, обворованными и убитыми. Романтика и вера праведных красит. И вообще они милы, прекрасны в любом виде – щенки, котята, жеребята, пионеры.
Их только трудно, очень трудно разговорить. А вот Геласимов умеет. Все же, наверное, Андрею помогает славная фамилия. Его, почти сорокалетнего, принимают за своего скворцы, щеглы и юные футболисты. Существа с законным правом на румянец. На марки острова Маврикий и резиномоторный планер. Счастливцы, которым знакома мышечная радость и сердечная печаль. Основа философии любви и равенства, рожденной, освященной единством кожно-гальванических и соматических реакций людиков и звериков.
Это здорово, что с нами кто-то снова говорит хорошим, ясным языком, ничто не радует так душу, как короткие, простые предложения журнала “Моделист-конструктор”. Самого элитарного издания из всех. Там ни Сорокин, ни Проханов напечататься не могут. Кишка тонка. Нужно по меньшей мере знать, как и почему работают тиристор и транзистор.
Андрей Геласимов знает. Конечно. Он, может быть, во взрослой жизни не очень разбирается. Он явно не трудился никогда на режимном предприятии и не видел серого, напрочь лишенного картинок журнала “Коммунист”, однако нет никаких сомнений, что правота за ним.
Конечно. Да.
Поскольку, потому, что кто-то должен, обязан постоянно, ежедневно нам всем напоминать, что мы умрем. Исчезнем.
То есть на самом деле нет. Никогда. Если, конечно, только захотим.
ИЗОБРЕТЕНИЕ ПАЛЬЦА
Я ср…ть сюда пришел,
Но ср…ть не стану,
Свободу я потребую
Луису Корвалану.
Писателя с приятной, артистической внешностью обвинили в изготовлении порнографии. Это унизительно и обидно. Человек всю свою жизнь делал фальшивые деньги. Переставлял нули и единицы. Подобно Мичурину, Стаханову и летчице Гризодубовой умножал народное богатство.
По крайней мере создавал иллюзию, как станция метро “Арбатская-кольцевая” и высотное здание на Садовой-Кудринской. А тут раз, вдруг, ниоткуда такая беспонтовая, подзаборная статья. Это нечестно.
Ведь никакой грязи. Только клей и ножницы. Метод называется “деконструкция”. Некоторые думают, что его изобрел Билл Гейтс. Несчастное поколение мягкий знак. Более подкованные, продвинутые граждане уверены, что деконструкцию придумали французы. Такая хитрая нация. Парикмахеры. Плодиться не хотели. Чресла берегли. Надеялись мир перекроить одним шиньоном и щипцами для завивки. Увы, это чудовищное заблуждение. Механистическое по сути, расистское по содержанию. Ведь лягушатники дали человечеству в двадцатом веке таких замечательных людей, как Эйнштейн, Фрейд, писатель Башевис Зингер и футболист Михаил Гершкович. А значит, одной расческой, даже с ручкой, никак не могли обойтись.
На самом же деле метод сборки и разборки симулякров придумали посетители общественных туалетов. Заскочил после очередной динамы на улице Тверской и ну сверлить в фанере дырки. Глаголом жечь. Крючок накинул, щелкнул шпингалетом и обладай. Пусть дверью, но зато в любую сторону души.
И это правильно. “Настоящий большевик не лезет на, а пилит броневик”, – писал Владимир Ильич в своем основополагающем тексте “Партийная печать и партийная литература”. Имея в виду то, что тактика должна быть гибкой. Если нет под рукой клея и ножниц, используй другие подручные материалы. Как Жанна д’Арк, Патрис Лумумба и подводный водолаз, капитан Немо, – передовые представители народа, пролетариата и революционного крестьянства.
В любом случае стены уборной, крашенные водостойкой краской, – идеальное место для деконструкции Некрасова, десакрализации Пушкина и демистификации декана шахто-строительного факультета политеха. Проблема писателя с оперной растительностью на лице не в том, что он использует бумагу. Это допустимо. Беда в том, что нерационально. Это уже уклон. Отрыв от вскормившей его и воспитавшей трудовой интеллигенции.
Деконструктивный период должен быть строго равен периоду истечения струи. Как у лучших сказителей, акынов и боянов. Оскара Уайльда, Жана-Поля Бельмондо и князя Петра Андреевича Вяземского. Не более шести-восьми строк. Только в этом случае он гармоничен и смешон, как сто рублей с тремя нулями. Как хокку, танка и рязанская частушка. Роман же в двадцать авторских листов рассчитан на мочевой пузырь слона или носорога. Человеку столько не выпить. И не съесть.
То есть никакой порнографии в желудке нет. В наличии избыток жидкости. Воды. Не более того. Преступление писателя с красивыми глазами должно быть переквалифицировано. А сам он немедленно амнистирован. Освобожден со снятием судимости. Поскольку, гражданин прокурор, несмотря на всю тяжесть им содеянного на каждой нарисованной товарищем банкноте, на каждом левом казначейском билете, четвертаке, катюше, четко и ясно написано: сделано пальцем.
H3-CH-OH-CH3
Синонимы: изопропанол, 2-пропанол,
пропан-2-ол, диметилкарбинол.
Я даже не знаю, как это правильно изобразить. Может быть, в виде пары
свободных радикалов? Вот так.

Его дар – обезжиривать. Удалять инородную пленку. Снимать муть амальгамы, обнажая металл. Абсолютную суть. Молекулярный уровень. Это против правил. Это потрясающе.
Похоже на следственный эксперимент. Все раскладывается по полочкам. Раз, два, три и четыре. Натуральный, естественный вид. Форма и содержание. Невероятно.
Обыкновенный писатель. ГОСТ 17237-93. Алхимик. Хитрец. Парфюмер. Он смешивает. Детство и юность. Пепел и кровь. Подливает. Капает. Взбалтывает.
Суспензия. Эмульсия. Варево. Сертифицированный продукт творчества. А “Берлинская флейта” – спектральный анализ. Движение вспять. Чудеса самости и обособленности. Вселенная до изобретения сложения и умножения. Первозданный божественный хаос. Чистые цвета атомизированного мира.
Ломоносов, Менделеев, Лавуазье.
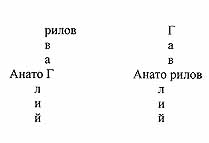
Музыка как универсальный растворитель слипшейся реальности. Жидкость для промывания глаз. Катализатор воображения. Триумф сопротивления современной народной беллетристике. Повествовательному идиотизму бытописания. Почесухе клинического морализаторства. Стакан чистой воды. Приглашение не прочесть о чужом оргазме, а испытать свой. Прочувствовать собственный! Каждой клеточкой кожи. О!
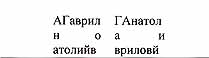
Потрудиться! Качество прозы измеряется в килоджоулях. Оно равно работе, производимой читателем. Вектор первоначального усилия. Это сродни механике любви. С качественным текстом невозможно быстро перепихнуться. Только жениться. Причем по классической схеме. Долго стесняться, томиться, ухаживать. Наконец в один прекрасный день решиться. Снять томик с полки и раскрыть. Путь бесконечного, как жизнь, познания. Себя и другого.
Так собирают грибы. Один за другим. Словно ноты. Восьмушки сыроежек и ми-соль подберезовиков. Аккорды опят и целое, черное ре груздя. Каждый сам по себе. А вместе лукошко. Симфония. Итог прожитых дней.
Бутлеров, Зелинский, Кюри.
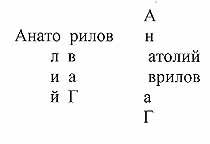
“Берлинская флейта” – чудо химии познания и соучастия. Обратная задача обмана. Свежая, как озон. Цель сочинителя – до блеска отмыть, очистить все компоненты реальности. Освободить. Расщепить. Готовые, мономолекулярные, они засыпаются. Поступают в колбу читательской головы. Высушенные и обезжиренные. В заданном темпе, строго отмеренными порциями и периодами. А дальше свобода. Работа. Цепная реакция читательской фантазии. Свет и тепло.
Кольбе, Бертло, Марковников.
А автор? Автор, сделавший свое дело, похож на чайку. Даже не спорьте!
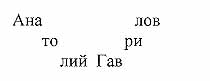
НАШЕ ВСЕ
Поэт Сергей Самойленко – замечательное воплощение поморских грез о собственных российских Платонах и Невтонах. Ну да. Просто не надо, глядя в немецкий монокль, надеяться, что если уж таковой и появится из леса, то непременно с циркулем и рейсшиной. Сказано же: наш, собственный, родной, не шведский химик-фармазон.
А наш естествоиспытатель в инструменте не нуждается, зачем ему пинцет и микроскоп, да еще с дюймовой шкалой, куда с ним, когда вперед пятьсот, назад пятьсот?
Нет, Родина измеряется исключительно ямбом и хореем, и именно потому поэт здесь больше, чем поэт. Он наши глаза и уши. Вообще наше все. Обоняние, осязание. Рецепторы. Не будь их, разве узнали бы мы, например, что между молотом и наковальней наливается кровью звезда?
То есть без поэта лишь копоть, грязь и суета, а с ним и смысл, и идея, и связь времен. Все очень ясно проступает: и обратная перспектива декабря, и четырехмерность лесов.
Цифры когда начнешь складывать, вечно не то выходит, не бьет, сомнения, а пришел поэт, рифмами оперил, и все на место встало, абсолютная ясность, полная видимость. Необъяснимое объяснилось. Красота!
Сергей Самойленко – металловед и физиолог. Предмет его исследований – воздействие стужи на одушевленную и неодушевленную материю. Через него мы узнаем, что
позвоночник Уральской гряды
выгибает звериную спину,
и поджилки железной руды
так дрожат, что трясутся осины.
Без этого знания совершенно невозможно понять, почему длинная сибирская ночь для идущего вдоль нее наполнена скрипом и хрустом. А просто продрог этот чертов кит, на котором стоит наша Азия. Шевелится – значит, пока жив кормилец!
Только благодаря поэту картина мира делается цельной. Потому-то и неизбывен и вечен вопрос в читательском сердце: “Сережка Есенин, видишь ли ты меня, Володьку Телескопова?” Если нет, то беда, пиши пропало, так и будет ни свет, ни заря никакого числа мартобря, помрешь и не поймешь зачем.
Сережа Самойленко нас всех видит.
Сменился ракурс, новый горизонт
открылся вещей оптике разрыва.
Ты не ослеп, и в этом весь резон.
Ты плачешь и на мир глядишь в упор,
глаз обретает резкость объектива,
и беспристрастно щелкает затвор.
Готово! И вот мы уже знаем, все разложил по полочкам поэт – как полномочный представитель реальности, нам данной в этом мире через слово, в чем суть и смысл неполного смыканья век.
Вы думали, трамвай, зима, усталость? Вовсе нет. Чтобы видеть будущее через снежинки ресниц и прошлое в морозном зеркале изнанки век. Причем одновременно! Одновременно!
Обмирая от вкуса свинца, холодея от запаха йода, невозможно бесконечно дрожать на ветру, рано или поздно должен кто-то прийти, взять за руку и ласково растолковать: “Успокойся, это не черти, это элементарное эхо”.
Явление природы, такое же, как кельманда и комцумир.
А кто на подобное способен? Только поэт, краевед и натуралист, он единственно верным силлабо-тоническим методом постиг непостижимые тайны мироздания, и его пониманию доступны как высокая органика крови и спирта, так и неорганическая простота стекла и металла.
Вся жизнь ночная, вплоть до подноготной,
просвечена рентгеновским неоном.
И этот негатив наоборотный
развешан на веревках кленов.
Замечательно, теперь не пропадем. Просто не выйдет, мы остались в словах, впечатались в строки, как в глину, потому что поэт не просто глаза и уши, он еще наша память, он вообще наше все, Менделеев, Мечников, Микоян и Гуревич.
Поскольку жизнь в конечном итоге лишь предисловие к тексту. Да, да, именно так, и это все, то есть точка в переводе на идиш.
КАТАКОМБНЫЕ ЛЮДИ
“Женя, вы оптимист собачий!”
Илья Ильф – Евгению Петрову
Илья Арнольдович Ильф – чемпион недосказанности. Один из самых знаменитых молчунов двадцатого века. Впрочем, все они были такими. В двадцатые, тридцатые и позже, в сороковые. Даже говорливый и смешливый Петров. В стране Советов.
Люди с двумя половинками мозга. Публичной и интимной. Несоединяющиеся сосуды. Как стаканы на свадьбе. Или на похоронах. Так бывает всегда, когда во что-то очень и очень веришь. Всем сердцем. Всей душой. За полноту чувства расплачиваешься дробностью мыслей. Разделенными косточками одного яблока.
Хвост и ящерица никогда не срастаются в голове счастливого человека. Улыбка на свету, а слезка в темноте. Без телефонной и телеграфной связи.
Это и есть подвиг по Маяковскому. Наступить на горло собственной песне. Отрезать провода.
Илья Арнольдович Ильф очень любил Владимира Владимировича Маяковского. Поэзию и прозу. Поэта и скорохода. И он был счастлив, Илья Арнольдович Ильф. Революцией призванный и мобилизованный. Он работал на Республику. Не разрешал общаться. Правому полушарию радировать левому.
Но они перестукивались. Пытались. Искали точку соприкосновения. Это так естественно для заключенных в одном теле. И он нашелся. Общий горизонт. Вид из окна. Буквально.
Я думаю, именно это, магия синтеза, невербального соединения, и сделало фотографию столь популярной среди советских писателей двадцатого века. Катакомбные люди. Инженеры человеческих душ обретали цельность, припадая к видоискателю “Лейки”. Илья Григорьевич Эренбург. Илья Арнольдович Ильф.
Фотографический процесс – заменитель свободного высказывания. Важный, как акт. Сам по себе. Техника замещения, а не соревнование с Родченко и Эль Лисицким.
– Скажи “Уржум”.
Александра Ильинична Ильф по отношению к объекту изучения, соавтору “Стульев” и “Теленка”, похожа на астронома. Она не помнит отца. Свет звезды идет к ней через космическую толщу лет. Вакуум. В апреле 1937-го, когда Илью Арнольдовича принимали в свою компанию Диккенс и Рабле, ей было всего два года.
А еще она похожа на нас всех. Не вооруженных инструментами. Письмами и документами. Ей видна лишь одна половинка луны. И только. Профиль. Сыр – рекордсмен. Но Александра Ильинична делает все, чтобы увидеть обратную, домашнюю сторону. Вторую половинку. Родинки. А не увидеть, так вообразить. Реконструировать.
Именно ее стараниями впервые изданы в оригинальном, полном виде записные книжки Ильи Ильфа (“Текст”, 2000). Предпринята попытка додумать за Петрова. Сложить по его схеме из чужих кубиков биографию соавтора и друга (“Текст”, 2001). Но самый трогательный результат этих усилий дочери – фотоальбом. Конечно. Вечная птица с крыльями страниц к шестьдесят пятой годовщине отцовского ухода.
“Илья Ильф – фотограф. 1930-е годы”. Альбом. (М., ЗАО “Московский центр искусств”, 2002.)
Только название мне кажется неудачным. Точнее и правильнее было бы Илья Ильф – человек. 1930-е годы. Ведь он не мог и не хотел откинуть шторку. Соединить две перспективы. Прямую и обратную. Он мечтал о счастье. Своем и общем. Но он оставил шанс. Дал его нам, которые уже ничего и никого не боятся. Не верят и не ждут. Побыть в его шкуре. Вжиться. Глянуть на мир глазами современника первых колхозов и пятилеток. Соединить несоединимое и полюбить. Илью Арнольдовича Ильфа, советского писателя, отца и мужа. Молчаливого человека.
И текст альбома работает на это идеальное, почти лабораторное слияние с другим, далеким, неизвестным. Фраза за фразой словно специально созданы, выращены в пробирках “Правды” и “Известий” времен канала Москва-Волга. Особенно обширная статья Алексея Логинова. Цитирую.
“С целью развития фотолюбительского движения с 1926 года издается журнал “Советское фото”, впоследствии ставший единственным периодическим фотоизданием в СССР, на страницах которого обсуждались все вопросы фототворчества”.
Еще.
“Массовое распространение фотографии в СССР в начале 1930-х годов сдерживала лишь нехватка фотоаппартов и фотоматериалов”.
А вот апофеоз:
“В первом же номере нарком просвещения Анатолий Луначарский писал: “Но как каждый передовой товарищ должен иметь часы, так он должен владеть фотографической камерой. И это со временем будет. В СССР будет как всеобщая грамотность вообще, ток и фотографическая грамотность в частности”.
“Ток” вместо “так” – смешная опечатка. Вполне в духе Соплей и Воплей молодого Ильи Арнольдовича. В книге подобных огрехов много, ошибок, ляпов. Мой экземпляр – вообще недоразумение. Дважды вшита, спина к спине, одна и та же тетрадка. Стр. 37-48. Но это уже не так смешно. Скорее естественно. Проходит. По части воссоздания советской ауры. Душка. И он воспроизведен со стопроцентной идентичностью. Полное погружение в вату эпохи. Сверху кумач, снизу сатин.
А между ними художник. Мышцами глаза управляет правая половина мозга, мышцами пальца – левая. Единство и борьба противоречий. Объектива и затвора. Общественного и личного. Человека думающего и человека верящего.
– Скажи “Батум”.
Это не приказ. Просьба. Словно Киршон у ясеня, Ильф спрашивает. Илья Арнольдович. Ищет ответа на незаданный вопрос. Солдат революции. Сержант изящной словесности при майоре госбезопасности. Интересуется. У городов, друзей и большеглазой жены Маруси. Все правильно? Это и есть счастье?
А на той стороне линзы, окна, такие же катакомбные люди. Смотрят прямо. И улыбаются. Наверное. Будем надеяться.
И только Михаил Булгаков. Михаил Афанасьевич. Единственная шляпа в море кепок. Отводит глаза. Похороны Маяковского. 17 апреля 1930 года.
Двери закрыты. Письма не ходят. Просто за стенкой кто-то дышит. И точно так же прикладывает ухо к тонкой холодной перегородке. А ухо к уху – просто море. Неясный шелест, трепет и печаль. Чистая лирика. Стихи, которые в иные времена ужимаются до знака. Одного символа. Черно-белого иероглифа. Человеческого следа. Отпечатка. Фотографического.
На той стороне Соймоновского проезда, прямо за окном комнаты, в которой был написан “Золотой теленок”, взорвали храм. “Ровно в 12 часов”, – сообщила “Вечерняя Москва” назавтра. “Величественное здание словно зашевелилось… и “только “горестные руины”, – написала спустя годы дочь. А отец? Он быстро-быстро отвернулся и щелкнул “Боты”.
– Какой же вы оптимист, Илья Арнольдович. Котячий! Недоверчивый, но неисправимый.
Конечно. Настоящий и безнадежный. Так ему мог сказать Создатель. Мог! Определенно. Он и не такое может. А кроме него, единственного, кто же еще посмеет?