Беседа Кирилла Кобрина с нижегородскими художниками Дмитрием Степановым и Артемом Филатовым
Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 1, 2020
[стр. 219—236 бумажной версии номера] [1]
В 119-м выпуске «Неприкосновенного запаса» был опубликован мой разговор со знаменитым детским иллюстратором и классиком советского неофициального искусства Виктором Пивоваровым о влиянии китайского искусства и образа Китая на его творчество и на художественное мышление его поколения [2]. Эта беседа стала первой в серии разговоров на ту же самую тему с представителями разных направлений и поколений российского [3] искусства. Следующий разговор состоялся в июле 2018 года с рижским фотографом, художником и поэтом Владимиром Светловым [4]. Речь шла о «китайском влиянии» и «образе Китая» в условиях латвийского опыта двуязычия и «двукультурия».
Третья беседа произошла также в середине лета 2018-го, но уже в Нижнем Новгороде, в Центре современного искусства «Арсенал». Мои собеседники – художник и куратор Артем Филатов, так же художник и городской исследователь Дмитрий Степанов. Они представители уже совсем иного поколения, сформировавшегося в последние десять лет в условиях постсоветской России и арт-ландшафта XXI века. Более того, речь идет о художниках российской провинции – и взгляд из ВолгоВятского региона на «китайский опыт» совсем иной, нежели из Москвы или Петербурга (не говоря уже о Латвии). Наконец, в своих художественных практиках оба моих собеседника невольно используют некоторые приемы и подходы, характерные для искусства стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии; особенно это характерно для стрит-арта и концептуальных проектов Филатова, но и видеоработы Степанова имеют отдаленный отпечаток – преломленного, конечно, через западный и российский культурный опыт – философского влияния буддизма и даосизма. [Кирилл Кобрин]
Кирилл Кобрин: Итак, здесь сидят два молодых нижегородских художника. И они представляют собой ту категорию современных художников, которые не рисуют. Или рисуют? Немножко рисуете?
Дмитрий Степанов: Как guilty pleasure.
К.К.: Я понимаю, но картины маслом…
Д.С.: [одновременно с Артемом Филатовым] Нет.
К.К.: Нет! Но вы имеете дело с визуальным – с визуальным и социальным. Вы работаете визуально с социальным, а социально – с визуальным. Не всегда можно это точнее определить. Современное искусство – это область, которая, как мне кажется, определяется так: о современном искусстве нельзя вынести эстетическое суждение. О современном искусстве можно вынести суждение социальное, этическое, какое угодно, но не эстетическое. То есть эстетическое – это побочный эффект. Вот последняя нашумевшая работа Артема, как бы это обозначить, – это инсталляция, или выставка-музей, что ли [5].
Артем Филатов: Нет-нет-нет, нельзя назвать это инсталляцией, потому что инсталляция – это все-таки единичное произведение, зафиксированный в пространстве объект. «Обратно домой» – это выставка-проект, потому что это не просто застройка выставочного зала или галереи, а это именно проектное решение какой-то проблемы, с которой я работаю посредством современного искусства.
К.К.: Ну, хорошо. Хотя мне кажется, нужно просто расширить понятие инсталляции. Не будем спорить. Итак, тема моего разговора с вами, российскими современными художниками, – образ Китая, представление о Китае, место Китая и ваши представления, если таковые имеются, о китайском искусстве и китайской культуре сегодня. Я всегда начинаю разговор с одного и того же вопроса: когда вы в первый раз, если помните, конечно, столкнулись с образом Китая – или даже, пользуясь выражением Дмитрия Александровича Пригова, с «китайским»?
Д.С.: Я думаю, что это было в детстве, это были 1990-е. Кажется, мне было лет семь или восемь. Это, конечно, фильмы с Джеки Чаном. Тогда Китай представлялся как страна людей, где все обладают сверхспособностями, страна суперменов, где все очень хорошо владеют своим телом. Джеки Чан обладал для меня всегда образом положительного персонажа.
К.К.: Он хороший, да.
Д.С.: Такого супергероя, который перемещается по всем этим сложным пространствам (я имею в виду с социально-экономической точки зрения). Это, конечно, был первый образ, первое столкновение с китайским. На экране я видел смешение – если говорить уже о городе, где все это происходило, – каких-то небоскребов и в то же время элементов сельской местности, каких-то временных построек, трущоб. И большое скопление людей, конечно. Это всегда очень большое скопление людей, это потоки людей, которые куда-то движутся, очевидно, за поденным заработком. И есть такие прекрасные люди, как протагонисты Джеки Чана.

К.К.: То есть образ Китая для вас был современный, даже ультрасовременный?
Д.С.: Я думаю, да.
К.К.: Если соотнести этот образ с российской реальностью 1990-х, то ведь он достаточно сильно коррелирует, хотя, конечно, (к сожалению) такого количества небоскребов в Нижнем Новгороде не было и нет, тем не менее эти два мира были чемто похожи и вы, наверное, вчитывали это и в свою ситуацию каким-то образом.
Д.С.: Я бы сказал, что в первую очередь это ситуация такой разбалансировки. Разбалансировки, дисгармонии в том плане, что ты не можешь спокойно ходить по улицам. Я вырос на Автозаводе [6], и, хотя, насколько я знаю, тем, кто родился лет на пять раньше меня, в 1985 году, а не в 1990-м, было тяжелее, потому что у них подростковый период попал как раз на конец 1990-х. А у меня все-таки в 10 лет 1990-е уже номинально закончились. Ну, все равно прогулки, даже вокруг своего дома, представляли опасность и определенное напряжение. Все находилось в постоянной динамике, какие-то дела вокруг тебя постоянно решались. И этот образ человека, который (вспоминаю «Полицейскую историю») наводит порядок и восстанавливает баланс, был важен.
К.К.: Понятно. А Артем?
А.Ф.: У меня опыт немножко другой. В советское время делали мультфильмы, которые были посвящены Китаю, китайской традиции и мифологии. И один из таких мультфильмов – «Желтый аист» режиссера Атаманова, выпущенный в 1950 году, – рассказывал китайскую сказку о мандарине и бродячем музыканте. Это была красивая, рисованная мультипликация со всеми необходимыми атрибутами: толстый чиновник в паланкине, борьба угнетенного народа с богачами… Это был мой первый опыт, когда я, будучи ребенком, смотря разные мультфильмы, соприкоснулся со стереотипным советским образом Китая. И там тоже, между прочим, были трущобы, так что это никуда не делось. Я думаю, что, если мы сейчас окажемся в Китае, мы легко обнаружим для себя эти два мира. Я в первую очередь, получается, соприкоснулся с китайским фольклором.
К.К.: Скорее, с китайской традицией. То есть и для вас, Артем, и для вас, Дмитрий, первый образ Китая был визуальный, а не вербальный. Но для Дмитрия этот образ был современный (современный, пропущенный через американскую голливудскую традицию), а для вас, Артем, – традиционный Китай, пропущенный через советское представление. Но советское представление, хоть оно и было визуальным, но подпитывалось вербально – титанической, героической деятельностью переводчиков издательства «Восточная литература», которые перевели на русский язык очень-очень многое, что было написано в Юго-Восточной Азии. Я должен сказать, что очень многие тексты, которые были в советское время переведены на русский язык (китайские, например, корейские – особенно корейские), никогда на английский язык не переводились. То есть это было тем, что философ Александр Пятигорский называл «культурной роскошью»: она вроде никому не была нужна, но тем не менее она проникала к нам через поп-культуру, например, мультфильмы?
А.Ф.: Конечно.
К.К.: Это очень интересно. Так, вы шли с одной стороны – визуальной, но все-таки разными тропинками. А каково было ваше первое столкновение с текстовым и было ли оно?
Д.С.: Ну, у меня, кажется, это был – в переводе, естественно, – «Дао дэ цзин». Это, наверное, было первое мое столкновение с китайским текстом, текстом, который я сам читал. Мне было уже лет 16–17. Меня интересовала восточная культура, восточная философия, буддизм – параллельно с этим.
К.К.: Ну, это не буддизм, вот в чем дело. [Смеется].
Д.С.: Понятно, что это не буддизм, но это все было… Вы понимаете, я имею в виду, что для нас, из этой точки (назовем ее нижегородской, поволжской, окской), для нас они были… не то чтобы они смешивались в одно – конечно, различение происходило какое-то, но все они шли, для меня по крайней мере, в блоке, условно, «восточной»…
К.К.: «Восточной мудрости».
Д.С.: Восточная мудрость – это то, что с Ближним Востоком у меня ассоциируется. Это уже больше про вино и Омара Хайяма.
К.К.: Как интересно! А для поколения, скажем, Виктора Пивоварова восточная мудрость – это как раз старцы с жидкой бородкой. Это тоже очень любопытный феномен: что и содержание мудрости другое, и регион другой. Так вот, у меня довольно незатейливый вопрос в связи с этим: изменило ли вашу жизнь чтение «Дао дэ цзин»?
Д.С.: Конечно! Я думаю, да. Но в какую сторону? Понимаете, направлений-то после чтения «Дао дэ цзин» становится много, во все стороны. Если после чтения европейской философии ты знаешь, что прямо – вот это, а налево – вот это, например (ну, по крайней мере для меня)…
К.К.: После чтения Шопенгауэра, например…
Д.С.: Который вдохновлялся восточной мудростью.
К.К.: Буддизмом.
Д.С.: Ну, восточной мудростью.
К.К.: Буддизмом. Нет, буддизмом, точно совершенно. Именно буддизмом и только, потому что концепция абсолютной воли, которая есть ничто, – это, понятно, буддийская концепция.
Д.С.: Я понимаю, да, но я все равно имею в виду какую-то относительность, отсутствие, может быть, цели в восточной традиции.
К.К.: Ну, нет, даосизм и буддизм – это на самом деле очень разные вещи. Я уже не говорю о том, что буддизма единого никакого нет – есть много буддизмов.
А.Ф.: Конечно.
К.К.: Понятно, что нам свойственно упрощать, и на этом строится любой культурный обмен и взаимоотношения. И я не думаю, что это чисто нижегородское отношение, потому что, когда я разговаривал с Виктором Пивоваровым, он тоже все время перескакивал: говоря о «Дао дэ цзин», он говорил о дзен. «Какой дзен?» – «А, ну, да, это чань». В частности, мы с Пивоваровым обсуждали выпуск альманаха «Пастор», который делал Вадим Захаров [7], посвященный Востоку [8]. Это удивительный документ. Ну, во-первых, он интересен как документ своего исторического времени. Во-вторых, там есть такое высказывание: Павел Пепперштейн говорит: «Мы увлеклись даосизмом и решили поехать в Тибет». Так что ничего специально нижегородского в этом смешении нет. [Смеется]
Д.С.: Понятно.
К.К.: И сама концепция «Шизокитая» [9], придуманная младшими концептуалистами, она говорит о том, что вообще нам же все равно, что там на самом деле, в Китае. Вот просто есть какая-то область, куда мы ссылаем свои страхи, желания, представления, фантазмы, что угодно, как их ни назовите. Артем, а как было у вас?
А.Ф.: Попробую начать, нащупывая проблему. Я много слышал о разных текстах, книгах и работах людей разных эпох из Китая, но желания что-либо читать никогда не существовало. Если мы говорим с вами, например, о Лао-цзы, говорим с вами о буддизме, то мне всегда был интересен скорее дзен-буддизм. В связи с этим стоит признаться, из восточного я больше всего читал японцев, нежели китайцев.
К.К.: Ну, дзэн и чань-буддизм похожи все-таки, и название одно и то же в разных языках.
А.Ф.: Но отношение к школам в Японии, конечно же, совсем другое, их терпимость к разным течениям внутри канона, феномен сект. Это другое. Интересно их одновременное существование с традицией Синто, с весьма жестким религиозным воззрением.
К.К.: Вы знаете, в Китае это тоже происходит, но в основном изза религиозной индифферентности. Мой личный опыт такой: в городе Чэнду, где я провел год (а это очень важный центр буддизма – не только потому, что там живут несколько миллионов тибетцев, ведь у тибетцев свои храмы и свой буддизм, у китайцев – свои храмы и свой буддизм), там довольно много даосских храмов. Так вот мои студенты и аспиранты перед экзаменами и защитами диссертаций ходили, по-православному говоря, «ставить свечку».
А.Ф.: Благовония.
К.К.: Ну, да, назовем это для простоты «ставить свечку». Они ходили, и им было все равно куда, что ближе или куда интереснее, или вот в одном буддийском храме при монастыре ресторан замечательный веганский есть, можно заглянуть. Но на самом деле религия – это просто область, которая должна существовать, по моим представлениям, для современного китайца. А вот уже различение внутри этой области не очень важно, порой совсем неважно, но сама область должна быть, потому что это часть традиции, вот и все. Понятно, конечно, что есть семьи и христианские, и буддийские, и в даосской традиции воспитанные. И все же основная масса населения религиозно индифферентна. А то, что вы рассказывали про Японию, это интересно. Видимо, там по-другому это устроено: люди не индифферентны, но при этом открыты.
А.Ф.: Я могу сказать о других соседях – о корейцах. И в этом смысле они, конечно, тоже очень не индифферентны к религии. Я думаю, что ни для кого не секрет…
К.К.: …что это бывшее буддийское теократическое государство.
А.Ф.: Плюс христианство исповедуют множество корейцев, и эта часть современного культурного кода Южной Кореи. К сожалению, я немного знаю о китайском кинематографе, а вот в корейском кино описание местной ситуации часто происходит с помощью упоминания локальных христианских общин – протестантов и католиков. В Японии то же самое.
К.К.: Вернемся все-таки в Китай. Итак, значит, с кино понятно, с книгами – вы все-таки немножко избежали ответа на вопрос. Вы сказали, это было неинтересно. Это было еще неинтересно, потому что это было модно: ведь не стоит читать того, что все читают – правильно? Когда все ходят и говорят: «Дао дэ цзин». А если о китайском буддизме (да и вообще о буддизме), то там нет такого текста, как «Дао дэ цзин».
А.Ф.: Ну, да.
К.К.: Там есть разные книги, которые становились модными в западной рецепции. «Тибетская книга мертвых», которая не является в этом смысле чисто буддийской классической книгой, мы знаем, что это во многом позже сконструированная вещь. Конечно, есть «Алмазная сутра»… Но они не всеобъемлющие, они не описывают всего учения. Поэтому, чтобы прочитать «главный буддийский текст» – что можно прочитать? Наверное, книгу о буддизме, не буддийский текст, а книгу, описывающую буддизм. Для меня такими книгами, безусловно, были книги Эдварда Конзе, которые, видимо, считаются устаревшими, хотя я не понимаю, что здесь может устареть. Они по крайней мере идеально описывают и объясняют, что это такое. И в этом отсутствии «главной и единственной книги» – отличие даосизма от буддизма. Тем не менее, даже если забыть это отличие, все равно понятно, что отчасти, как мне кажется, ваше отталкивание от этого было еще связано с тем, что когда каждая собака носится с этим делом, то неохота это читать.
А.Ф.: Проблема еще в том, что большинство людей, которых я знаю, прочли Лао-цзы из-за культуры русского рока.
К.К.: Борис Гребенщиков очень много сделал для этого.
А.Ф.: У меня не было романа с Гребенщиковым настолько, чтобы я после него пошел что-либо читать. Нет, достойная музыка, хороший музыкант, все совершенно нормально, но я не был сильно погружен в русский рок. Наверное, самое главное, во что я погрузился, – это Курехин, и на этом закончилось. Но Курехин – это совершенно…
К.К.: Там есть «Тибетское танго» [10]. [Смеется]
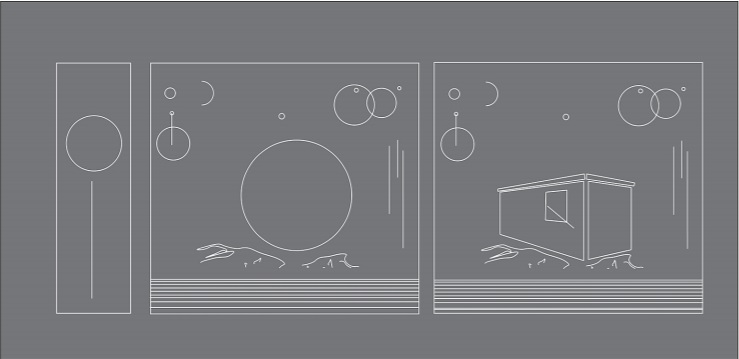
А.Ф.: Да, точно. [Смеется] Я вообще не люблю обязательного чтения: мол, если ты «культурный» человек, который хочет обладать каким-то опытом, тебе нужно прочитать то-то и тото. Конечно же, и с точки зрения общего человеческого развития, и с точки зрения профессионального развития это не совсем честная конструкция, потому что легко можно черпать необходимый опыт, углубляясь в одну проблему. В связи с этой проблемой можно собирать общие знания о тех артефактах культуры, которые встречаются на пути и являются обязательными для прочтения, но оставаться в определенной традиции. И это, заметьте, очень японская концепция. Здесь уместно вспомнить весьма популярную кинокартину «Мечты Дзиро о суши» [11]. В ней показан очень хороший пример того, что можно упорно заниматься чем-то одним, не обращая внимания ни на что другое. Иногда хочется разобраться в чем-то очень подробно, и ты понимаешь: вот ты находишься в России или в США и у тебя нет возможности прочитать нечто в оригинале. Ты читаешь какие-то книги, переводы и понимаешь, что находишься в отрыве от интересующей тебя культуры. Где бы найти этот источник? Где бы найти людей, которые будут передавать ту или иную культуру? То же самое, когда я общаюсь с людьми, которые занимаются восточными единоборствами, физическими или духовными практиками, они всегда говорят: «Нам нужен учитель-китаец». С одной стороны, я понимаю, что в этом есть определенный конфликт, а с другой стороны, в этом есть и определенный смысл. Скажем, существует традиция Бон – религия, которая была в Тибете, – и о ней мало информации: ну, там, находили свитки, их истребили буддисты. Все очень-очень интересно. Была большая долгая печальная история. И у нас есть прекрасный коллектив «Phurpa» и их лидер Алексей Тегин. И они вроде бы работают с традицией Бон: выступают на концертах, используя их инструменты, одеваются в их костюмы. Но, как только ты заглядываешь поглубже, ты понимаешь, что это его преломление, это какое-то русское преломление.
К.К.: Как вы понимаете, это все началось с Джорджа Харрисона, который «услышал ситар и заторчал» [12]. Смотрите, как интересно. Вы затронули очень интересную тему, о которой я, собственно, думал, но этого разворота не учел. Мне кажется, обязательно надо о нем поговорить. Это упоминание Гребенщикова и вообще роли, которую он сыграл. Я вот, честно говоря, не помню, чтобы кто-то еще не эпигонски создал в одиночку – ведь он один создал это все, – выстроил какой-то удивительный миф, который состоит одновременно из Толкиена, «Дао дэ цзин», буддизма (хотя он его редко упоминает), индуизма, потому что там достаточно много всяких индуистских штук, и так далее.
А.Ф.: Ну, и из какого-то Палеха. Новгорода, Палеха.
К.К.: Этого я уже не добавляю – ужасный период, начинающийся с 1990-х.
Д.С.: Русские равнины.
К.К.: Я немолодой человек, я помню и люблю «старого Гребенщикова», а не то, что началось с 1990-х. Многие относятся к Гребенщикову довольно высокомерно, но я считаю, что это глубоко неправильно. Человек совершил настоящий подвиг: он привнес, в частности, и Китай в русскую поп-культуру. Одновременно с этим в 1970-е – первой половине 1980-х уже на уровне «высокой культуры» происходили интереснейшие вещи. Было то самое издательство «Восточная литература», которое выпускало на русском редкие и удивительные «восточные книги», и были какие-то удивительные люди вроде гения подпольной русской литературы Леона Богданова [13], которые сидели дома, почти никуда не выходили и посвящали свою жизнь чтению этих книг. И не надо преуменьшать значения такого рода вещей. Но был и Гребенщиков. Вот я лично о существования Ли Бо [14] узнал от него. Вот вы совершенно из другого поколения – сыграло ли все это для вас какую-то роль?
Д.С.: Как раз в 16 лет я очень много слушал Гребенщикова – тогда, когда начинался интерес ко всевозможным духовным практикам, поискам всевозможных альтернативных способов восприятия, причем я не столько про все эти игры с восприятием, а вообще о том, как жить, как жить среди всего этого.
К.К.: Жизнестроительная практика
Д.С.: Да, жизнестроительная. Гребенщикова я очень много тогда слушал. Я сейчас не могу вспомнить каких-то конкретных песен, каких-то его конкретных высказываний, по которым я могу сказать: да, Ли Бо я через него узнал.
К.К.: Через рифму «Мастер Бо – мост Мирабо». [Смеется]
Д.С.: У меня просто так было с Летовым, поэтому я не могу Гребенщикова поставить на первое место: мол, пришел Гребенщиков, принес Лао-цзы с «Дао дэ цзин» – и все, и мы тут сидим уже которую вечность. Но на уровне бессознательного, конечно, какие-то вещи с его песен заложились, потому что слушал я его тогда очень много. Я вспоминаю: «Мне двадцать пять…»
К.К.: «Я инженер на сотню рублей» [15].
Д.С.: А у него там «начальник заставы и беспечный рыбак». Я думаю – откуда они?
К.К.: Так «начальник заставы» – это про Лао-цзы как раз. Лаоцзы уходил через заставу на запад, и начальник ее попросил мудреца записать кратко свое учение и оставить рукопись ему. А потом начальник заставы стал первым учеником Лао-цзы. Эту историю, кстати, и Кафка рассказывает – по-своему, конечно.
Д.С.: Наверное, в другую сторону: у Пелевина Китая много было. Я вот фанат Пелевина был.
А.Ф.: А меня на него не хватило. Я пытался…
Д.С.: Я у него все прочитал.
К.К.: Он привнес, насколько я понимаю, не Китай в русскую культуру, а проанализировал, в каком-то смысле очень талантливо, сознание молодых людей 1990-х в связи с их представлениями о Китае и так называемом «Востоке». Это все-таки разные вещи. Я, конечно, не говорю: мол, Гребенщиков лучше Пелевина. Но Гребенщиков в каком-то смысле завершает большую русскую культурную традицию, потому что он плоть от плоти советской культуры, подпольной, но тем не менее мейнстримной. Все-таки это тот ее последний извод, который подпитывался культурой дореволюционной. Можно сколько угодно скептически относиться к людям, которые боготворили Рериха в 1970-е, но они Рериха боготворили, потому что Рерих был частью этой культурной традиции, он был частью Серебряного века, «Мира искусств» и прочего, и, соответственно, это все выстраивалось в какую-то определенную картину. А вот Пелевин – это точка разрыва. Он как будто вчера родился, и до него либо ничего не было, либо это совсем не важно, если было. А есть только копирайтеры, рекламщики, которые мечтают о том, как бы откинуться куда-нибудь в Гоа и ничего этого не видеть.
А.Ф.: Ну, конечно.
К.К.: Я вообще в последнее время довольно много думаю вот о чем: русская литература, как это ни странно, тесно связана с Китаем. Скажем, Лев Толстой. Его концепция истории в «Войне и мире» совершенно буддистская. И просветление, которое нисходит на Андрея Болконского на поле Аустерлица, – понятно, что это такое. И неслучайно Толстой написал, кажется, первую биографию Будды на русском языке. Это брошюрка, но все же. А о буддизме ему кто рассказал? Его друг Афанасий Фет. Афанасий Фет переводил Шопенгауэра. Очень любопытно, как эта культурная линия выстраивалась. Это только маленький пример. Я уж не говорю про Блока, который после Владимира Соловьева начал рассуждать о «желтой опасности», панмонголизме и так далее. Или Андрей Белый в «Петербурге» – там разговор об ужасных китайцах, которые вот-вот хлынут. Русская литература, как это ни странно, особенно начиная со второй половины XIX века, довольно тесно связана и с идеями, и религиозными представлениями, характерными для Китая, и с Китаем как геополитической силой. В ваших отношениях с русской литературой, если все-таки таковые имеются, эта тема как-то существует или нет?
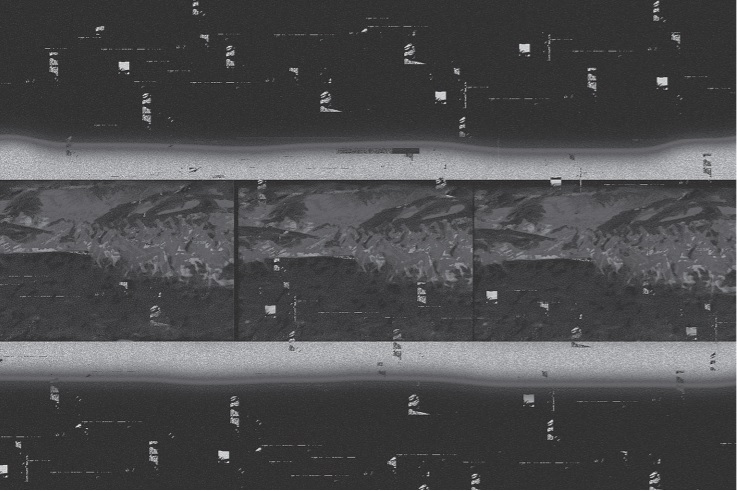
Д.С.: Китай?
К.К.: Видели ли вы в русской литературе когда-нибудь чтонибудь, связанное с Китаем?
Д.С.: Скажем так, если опять же про интенцию говорить, я не искал. Я не искал в русской литературе Китая, я всегда смотрел на это через другие источники.
К.К.: Я бы тут вспомнил знаменитую легенду о Занаду – о дворце, который построил Кубла-хан (Хубилай). Это же один из самых удивительных образов рафинированной западной культуры. У Сэмюэла Кольриджа, английского поэта-романтика, есть незаконченная поэма «Кубла-хан, или Видение во сне», посвященная дворцу Занаду, который построил первый китайский император-монгол. Любопытно, что (мы сейчас не китайскую историю обсуждаем, никто из нас ничего в этом не понимает, мы обсуждаем западные образы Китая) в империю, казалось бы, вторгаются варвары, но один из этих варваров, став императором, тут же строит восхитительный дворец, который вмещает в себя все чудеса этого мира, о чем и пишет Кольридж. Посмотрим, что произошло с сочинением этой поэмы. Кольридж был опиоман, как многие тогда. Он пьет настойку опиума (плохо себя чувствовал) и ложится спать. Ему приснилась эта поэма. И он смотрит ее и запоминает слова во сне. И в этот момент кто-то стучит в дверь и прерывает сон. Вещь осталась незаконченной, потому что поэт записал только то, что ему приснилось. Он больше не мог сочинить ни строчки. Если бы мы с вами были сюрреалистами героического периода, мы решили бы, что это есть главный образ Китая – вообще Юго-Восточной Азии – в западном сознании. Это то, что нам приснилось, да еще под действием какого-то наркотика. То есть мы мечтаем, мы просто мечтаем о Китае. Мы видим, как Джеки Чан бегает по этому Занаду, а здесь – буддийские монахи молятся, здесь – пьяный Ли Бо. Знаете, как, согласно легенде, Ли Бо погиб? Он плыл на лодке ночью пьяный и увидел отражение луны рядом. Поэт решил его поймать рукой, свесился за борт и утонул. «Ловить луну в реке рукой» – это вот как раз об этом было у Гребенщикова [16]. Не кажется ли вам, что все наше представление о Китае – это Занаду, или вы все-таки хотите прорваться к какой-то реальности (или к тому, что мы считаем реальностью)?
Д.С.: Китай складывается из того, что просачивается, само приходит, как Гребенщиков: «Ребята, я вам Китай принес». К.К.: Но мы же можем и сами. Мы живем не во времена Марко Поло.
Д.С.: Да, я согласен. В какой-то момент в моей жизни появился современный китайский режиссер Цзя Чжанкэ [17]. Очень важный режиссер для Китая. Да, или Ай Вэйвэй [18] появляется. Но этот образ очень фрагментарный, скомпилированный. Скажем, если мы китаисты и целенаправленно занимаемся Китаем, его историей, его культурой, его экономикой, его социальными отношениями, его драмами, то мы так или иначе к чему-то, что более-менее можно было бы назвать «реальным», можем прорваться. А если мы это делаем факультативно (это мое личное мнение), скажем так: «Пойду-ка разберусь, что такое Китай», то, кто мне скажет, где та инстанция, соотнеся себя с которой, я смогу сказать, какие знания о Китае мне необходимы, чтобы более-менее понимать, что такое Китай?
К.К.: Как минимум можно прочитать статью в «Википедии», потом пойти по всем ссылкам в «Википедии». А потом по ссылкам ссылок – и по библиографическим указателям. Артем, а вы хотите прорваться к «реальности Китая»?
А.Ф.: Нет, я не хочу прорваться ни к реальности Китая, ни Японии, ни Кореи, ни Ирландии, ни США. Сейчас я не вижу необходимости ни поверхностного изучения того, что есть Китай, его истории, литературы, еще чего-либо, ни глубокого. Может быть, в будущем когда-нибудь это желание появится. Как с Японией. Я стал изучать эту культуру, потому что были определенные точки, в которые я уходил очень глубоко. Я исчерпывал все имеющиеся источники информации, мне приходилось все больше и больше работать с оригиналом: просить сделать интервью с японцами, которые вообще говорят на ломаном английском языке… Я не приближаюсь к полю, пока у меня не появляется какой-то профессиональный интерес, который этого будет требовать.
К.К.: Или экзистенциальный.
А.Ф.: Может быть.
К.К.: Хорошо, сейчас очень короткий вопрос, который требует очень короткого ответа. Китайская литература мощная, богатая, потрясающая. Относительно недавно Нобелевским лауреатом стал Мо Янь [19]. В то же время, когда западные люди говорят «китайская литература», то в основном говорят о том же, как когда говорят и о русской литературе – говорят о классической китайской литературе. Хоть что-нибудь из этого вас интересовало? Что-то вы читали? Роман «Цветы и сливы в золотой вазе» [20], например, или что-то еще?
Д.С.: Из классического не читал ничего.
К.К.: А из современной?
Д.С.: Мо Яня читал. В общем, Лао-цзы мы вряд ли уже можем к литературе отнести.
К.К.: Нет, я говорю о литературе.
Д.С.: А вот из литературы – нет.
К.К.: А поэты? Те же Ду Фу и Ли Бо? Тао Юань-мин?
Д.С.: Тоже нет. Может быть, я открывал, не помню. Вот так чтобы интересоваться, погружаться – нет.
К.К.: Понятно. Артем?
А.Ф.: Отвечу, но несколько со стороны. Скажем, есть Китай – страна чая, большой потрясающий Китай, который дал нам все, что мы представляем о чае. И очень часто, когда люди говорят о чае, они подразумевают пуэры, они подразумевают как раз все эти…
К.К.: Большая недооценка индийского и шриланкийского чая.
А.Ф.: Ну, хорошо, хорошо. Но вся эта история потрясающих заимствований, распрей и отвержений между Японией и Китаем, конечно, всегда меня подталкивала в сторону Японии, где чтото брали, надкусывали, надламывали, пробовали и говорили: «А мы можем в три раза лучше. Давайте попробуем».
К.К.: Ну, не совсем так, особенно в древности. Тогда высокая японская культура молилась на китайцев, считая себя варварской.
А.Ф.: Конечно, если бы не было этого пути, например, в чайной традиции и они потом не переосмыслили всю пышную китайскую традицию, не пришла бы эра Ваби-саби [21]. Чайные мастера, которые раньше строили богатые, позолоченные китайские чайные домики во дворе…
К.К.: Чайные дома, большие, они в Китае в огромных количествах существуют до сих пор.
А.Ф.: Стали строить хибары, культивировать крестьянскую керамику, которая вся такая кривая, с обжигом, с трещинами, природными цветами. Стали склеивать разбитую посуду, появилось кинцуги [22]. Поэтому, когда задается вопрос про китайскую литературу, я всегда понимаю, что я намного больше читал японцев.
К.К.: Понятно. Но так получилось, потому что в советское время (в позднесоветское время) японцев переводили очень много. И все знали имена (мало кто читал, но имена знали) Кобо Абэ [23], Кэндзабуро Оэ [24], Акутагава Рюноске [25] и так далее, а вот послевоенных китайских авторов в силу политических причин в СССР в 1960–1980-е почти не переводили. Да, но, возвращаясь к тому, что вы художники и с визуальным работаете, – какое для вас главное китайское визуальное влияние?
Д.С.: За классическую живопись я, наверное, здесь ничего не смогу сказать. Кинематограф, да. Я уже вспоминал Цзя Чжанкэ. Он оказался очень важным режиссером для Китая. Начинал как независимый режиссер, потом стал получать от государства деньги, но своего критического запала сумел не снизить.
К.К.: Дистанцию, скорее.
Д.С.: Да, дистанцию. У него один из первых фильмов, «Воркарманник», насколько я помню, находился под влиянием европейского кино, но самобытности уже там было очень много. А вот его работа «Мир» 2004 года, она была очень интересна в том плане, что, с одной стороны, это то, с чего мы начали сегодня – там виден переход от традиции к современности. Это, видимо, очень важная китайская тема, которая у него в фильмах прорабатывалась. Там и отчуждение, и капитализм, и китайские деревни, и пустота какая-то, и все это происходит очень медленно, на статичных планах. Все очень красиво, люди ходят, передвигаются в статичных планах. Поскольку я начал с фотографии, с кино, потом уже перешел к видеоизображению, эти вещи, которые я мог посмотреть на экране, мне были гораздо важнее, чем какая-то живопись, например. Хотя каллиграфия китайская – да. И еще что важно, может быть, это не совсем про искусство, но меня всегда вдохновляла китайская архитектура в виде этих домиков и растений вокруг, садов.

К.К.: А современное китайское искусство для вас существует?
Д.С.: Ай Вэйвэй.
К.К.: И все?
Д.С.: Я думаю, почти все.
К.К.: Артем?
А.Ф.: Из-за того, что я изучал тех или иных авторов, которые провели свое детство, например, в Корее или были как-то связаны с Японией, я постоянно видел это противопоставление: Корея и Китай, Япония и Китай. Именно другая точка зрения повлияла на меня больше. Когда Ли У Хван [26] пишет про китайскую экспансию – он международный художник, – понятно, что на него это оказывает сильное влияние. Когда я читаю историю Японии про то, как монголы до нее не доплыли, – это супер [27]. Один раз, потом второй раз. Это очень смешно. Но каждый раз я заканчиваю, будь то чай, будь то искусство, будь что угодно, я заканчиваю Японией, потому что я-то плыл, плыл и доплыл до Японии – у меня в голове расцвела она. Но вернемся к профессиональному – даже не к искусству, а к продаже искусства. Китай в этом смысле невероятен. Это огромный арт-рынок, причем не до конца известный в России.
Д.С.: У меня здесь есть одно такое замечание. Когда я думаю про Китай, я понимаю, что почти не знаю персоналий. Пока я жил в Барселоне, я много ходил по галереям и центрам современного искусства. И когда я ходил в МACBA [28], я помню, там было какое-то потрясающее видео – я просто таких прекрасных видео никогда в жизни не видел – китайского художника. Я не запомнил имени этого художника. Я записал его себе, бумажку потерял, имя забыл…
К.К.: Да, языковой барьер – вещь невероятно тяжкая.
Д.С.: Хотя я это видео до сих пор помню. Помню, что там происходило, как время там текло, какой ритм, но я не вспомню, как зовут этого художника. Для меня Китай не существует в виде каких-то персоналий. Я читаю «Карту и территорию» Уэльбека [29], там присутствуют китайцы. Я помню, в 2012 году Нобелевскую премию получил Мо Янь, я помню, его прочитал – но не больше. Что в книгах его происходит, условно есть в памяти, имен персонажей – нет. И я понимаю, что для меня Китай – это что-то очень большое, действительно, такой, может быть, Большой Другой, который где-то там находится на Востоке. И что я представляю о нем? Что вот есть этот арт-рынок безумно большой, с которым мы никак не можем совладать… Это действительно отношение к какому-то Большому Другому, к чему-то трансцендентному, к чему – вот вы употребили это выражение «прорваться к реальности» – нет доступа. Или, может, нет интенции какой-то опять же, потому что сегодня слово «интенция» тоже звучало. А пока, на уровне культурных феноменов, мне кажется, к Китаю почти закрыт доступ. Ну что там опять же? Годар «Китаянка» [30]. Интерес всех этих французских товарищей.
К.К.: Ну, это понятно, с чем было связано.
Д.С.: Я имею в виду, что, даже интересуясь этой историей с «культурной революцией» и так далее, мы не к Мао обращаемся, а все равно читаем западных левых структуралистов, постструктуралистов, авангардистов 1968-го, чтобы понять.
К.К.: Соллерс [31], пишущий о Китае.
Д.С.: Да, а сам Китай?
К.К.: Мне еще кажется, это связано с тем, что Китаю в этом смысле не повезло, потому что в Китай ездили и Соллерс, и многие другие интеллектуалы, но они ничего на самом деле толкового не написали, а Ролан Барт съездил в Японию и сочинил блестящую книгу [32]. И теперь каждый раз, когда кто-нибудь приезжает в Китай и не понимает Китая, начинает ссылаться на «Империю знаков», которая о Японии. Вот это, кстати, большая несправедливость, которую надо ликвидировать, мне кажется. Нужна блестящая западная книга о Китае. Но это шутка. Хорошо, давайте завершать на этом. Я подведу, казалось бы, к неожиданному выводу. Вы знаете, я внимательно слушал, что вы говорите. Помимо всего упомянутого, есть одно удивительное обстоятельство. Китай далеко? Нет. Китай недалеко. Китай рядом. У России огромная граница с Китаем, это приграничная страна.
Д.С.: Но она далеко.
К.К.: Понимаете, это очень важно. Китай далеко, а мы сидим в одежде, которая, может быть, сшита в Китае (хотя основное производство ее ушло в другие страны Юго-Восточной Азии), и девайсы в карманах этой одежды уж точно сделаны в Китае. Китай далеко, но тем не менее в Нижнем Новгороде полно магазинов чая и прочих китайских диковинок. И китайские рестораны везде. В Нижнем еще нет чайнатауна, но наверняка будет. Удивительно наше умение не видеть того, где мы на самом деле находимся. В данном случае я даже не говорю, что это плохо, в этом вся европейская культура: понимание, которое есть результат непонимания. По сути дела нас интересует только то, что нас интересует в связи с нами. Но осознавать, что Китай недалеко, что вот он у меня в кармане лежит или что есть протяженная российско-китайская граница, что сотни тысяч китайцев живут в России, что на Дальнем Востоке немалая часть российского населения ездит на заработки в Китай, а китайцы ездят на заработки в Россию, что мы живем в очень тесном переплетении, но тем не менее ментально мы находимся где-то еще, знаете, во временах Владимира Соловьева с его стихотворением «Панмонголизм». Я думаю, что эта ситуация удивительна и требует осмысления.
[1] Данная публикация – часть проекта «Восприятие и распространение китайского современного искусства в русскоязычном культурном мире», который поддержан грантом Министерства культуры Китая «Исследование культуры и искусства» (2017 год, номер проекта 17DH05). Я благодарю своих коллег по Сычуаньскому университету Чи Цзиминь и Цю Синь за возможность работать над этой темой.
[2] Это – китайское! Беседа Кирилла Кобрина с Виктором Пивоваровым // Неприкосновенный запас. 2018. № 3(119). С. 246–272.
[3] Российского в широком смысле. Имеется в виду не только то искусство, что создается и функционирует в России. Здесь важен не паспорт, а факт, что данный художник вырос на территории бывшего СССР и сформировался в рамках существовавшей (или существующей) там разновидности русской культуры.
[4] Даосизм, летающие монахи и пекинская опера. Беседа Кирилла Кобрина с рижским художником Владимиром Светловым // Неприкосновенный запас. 2019. № 1(123). С. 184–200.
[5] «Обратно домой» в Нижегородском музее интеллигенции (2017). Артем Филатов получил за нее артпремию «Инновация» в категории «Региональный проект».
[6] Автозаводский район Нижнего Новгорода, построенный вокруг Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), традиционно считался местом небезопасным, особенно в 1990-е.
[7] Вадим Захаров (р. 1959) – художник-концептуалист, один из ярких представителей московской концептуальной школы, лауреат премии Кандинского (2009).
[8] Это – китайское!.. С. 246–272.
[9] Концепция «Шизокитая» разработана участниками арт-группы «Медицинская герменевтика». Подробнее об этом см.: Там же.
[10] Композиция Сергея Курехина с альбома группы «Аквариум» «Радио Африка» (1983).
[11] Фильм американского режиссера Дэвида Гелба о владельце крохотного заведения в Токио, посвятившего жизнь приготовлению суши (2011).
[12] Цитата из песни группы «Кино» «Ситар играл».
[13] Леон Богданов (1942–1987) – писатель, художник, один из героев неофициальной культуры 1970–1980-х, автор основополагающей книги русского литературного андерграунда «Заметки о чаепитии и землетрясениях».
[14] Ли Бо (701–762/763) – китайский поэт, жил во времена династии Тан, современник и друг еще одного классика – Ду Фу
[15] Песня «Аквариума» «25 к 10» с альбома «Акустика. История Аквариума – Том 1» (1982).
[16] Цитата из песни «Аквариума» «Дорога 21».
[17] Цзя Чжанкэ (р. 1970) – китайский кинорежиссер, продюсер, актер. Главные темы его фильмов – социальные проблемы современного Китая.
[18] Ай Вэйвэй (р. 1957) – современный художник, куратор, арт-критик, создатель «China Art Archive & Warehouse». Подвергся преследованиям со стороны китайских властей, после чего в 2015 году переехал жить в Берлин.
[19] Мо Янь (р. 1955) – китайский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года. По одному из его произведений снят фильм «Красный гаолян».
[20] Бытописательный роман начала XVII века, авторство которого приписывают «Ланьнлинскому насмешнику». Содержит множество откровенных сексуальных сцен. Советский перевод книги (1977) подвергся основательной цензуре.
[21] Важная часть японской эстетической традиции. Переводится как «скромная простота».
[22] Особая японская техника реставрации керамики, исходящая из того, что трещины и выбоины не следует маскировать, так как они являются частью данного объекта и его истории.
[23] Кобо Абэ (1924–1993) – классик послевоенной японской литературы; помимо прозы, писал пьесы и киносценарии.
[24] Кэндзабуро Оэ (р. 1935) – классик послевоенной японской литературы, лауреат Нобелевской премии (1994). Много переводился на русский язык.
[25] Рюноскэ Акутагава (1892–1927) – выдающийся японский прозаик. Оказал огромное влияние на развитие литературного модернизма в Японии; остается одним из самых известных писателей своей страны на Западе.
[26] Ли У Хван (р. 1936) – японский художник корейского происхождения, поздний модернист, минималист, противник европейского влияния на дальневосточное искусство.
[27] Внук Чингисхана Хубилай, ставший после завоевания Поднебесной китайским императором. Дважды (1274, 1281) пытался высадить армию в Японии, но оба раза его флот был рассеян тайфунами – хотя определенную роль в неудаче этих экспедиций сыграло и сопротивление японских сил.
[28] Museu d’Art Contemporani de Barcelona – музей современного искусства в Барселоне.
[29] Роман Мишеля Уэльбека (2010), удостоен Гонкуровской премии. Русский перевод Марии Зониной вышел в 2012-м: Уэльбек М. Карта и территория. М.: Астрель; CORPUS, 2011.
[30] Политический фильм Жана-Люка Годара (1967).
[31] Филипп Соллерс (р. 1936) – французский писатель-авангардист, сооснователь экспериментального журнала «Тель-Кель», изучал китайский, использовал каллиграфию в своих книгах, посещал КНР, включал в свои романы китайских персонажей и сюжеты.
[32] «Империя знаков» (1970).