Опубликовано в журнале Неприкосновенный запас, номер 4, 2003
Олег Валерьевич Хархордин (р. 1964) — преподаватель факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Лариса Ивановна Иванова-Веэн — директор Музея Московского архитектурного института.
Олег Хархордин, Лариса Иванова-Веэн
НОВГОРОД КАК RESPUBLIKA: МОСТ К ВЕЛИЧИЮ
Все знают, что Новгород средних веков был республикой. Правда, после известных работ Валентина Янина общепринятой истиной стало признание узкоолигархического характера новгородского правления[1]. Немногие оппоненты в течение последних 50 лет пытались настаивать на том, что Новгород все же был демократической республикой. Эту усталую дискуссию, однако, пора забрать у историков и поместить в более широкий контекст. Во-первых, критика Новгорода за отсутствие там демократии удивила бы тех, кто знаком с постоянной олигархической тенденцией даже таких классических средневековых республик как Флоренция[2], или с устройством не менее интересных городов-республик Далмации, где «народом», по определению, часто считались только члены патрицианских семей[3]. В патрицианской Рагузе, нынешнем Дубровнике, например, тоже существовало свое «вече» (славянские термины совпадают), но это, возможно, не делало его ни более «демократическим», ни более «олигархическим», чем Новгород.
Во-вторых, дебаты последних лет не затрагивали более фундаментального вопроса: в чем заключается специфика Новгорода как республики? Этот вопрос тем более правомерен, если вспомнить, что обсуждение феномена res publica в современных учебниках сводится к сопоставлению различных форм правления. Но даже в самом выражении res publica есть не только вторая часть, которая обыкновенно привлекала внимание историков — публичная жизнь города, — но и его, так сказать, вещественная жизнь, схваченная в первом слове этого термина.
Так, например, Цицерон пишет в De re publica: «В самом деле, где же было "достояние" афинян (Atheniensum res) тогда, когда […] этим городом совершенно беззаконно правили тридцать мужей? Разве древняя слава городской общины, или прекрасный внешний вид города, или театр, гимнасии, портики, или прославленные Пропилеи, или крепость, или изумительные творения Фидия, или величественный Пирей делали Афины государством (rem publicam efficiebat)»?[4] Обычная интерпретация оригинала гласит, что Цицерон хотел подчеркнуть: главное в res publica (а не в «государстве», как заставляет нас считать подстановка этого исторически значительно более позднего и уже русского термина) — это не наличие «общих вещей» или «дел», как буквально следовало бы переводить этот термин, а еще и наличие справедливых законов[5].
Однако то, что Цицерону надо это доказывать, показывает, насколько многие тогда могли считать, что уже только одно наличие «общих вещей» делало Афины республикой, причем многие из этих вещей, res, были ощутимо материальны — как портики, гимнасии и крепость. Знаменитое цицероновское определение res publica как res populi поэтому трудно передать на русском или английском — современные переводчики предлагают «достояние народа» или property of the people, иногда — concern of the people. Вещественно-имущественная коннотация дает возможность Цицерону сказать о Сиракузах слова, звучащие странно в русском переводе: «Этот знаменитый город […], его крепость, достойная изумления, гавани, воды, которые омывают самое сердце города и его плотины, его широкие улицы, портики, храмы, стены — все это, в правление Дионисия, никак не заслуживало того, чтобы называться государством (ut esset illa res publica); ведь народу не принадлежало ничего, а сам народ принадлежал одному человеку (nihil enim populi et unius erat populi ipse)». То есть все эти прекрасные городские вещи не составляли вместе res publica, так как не «принадлежали» народу. И немного ниже, уже о восстании в Риме в третий год правления децемвиров, которое попыталось вернуть res publica исходному владельцу, Цицерон скажет: «"Достояния народа" не было; более того, народ попытался вернуть себе свое "достояние" (populi nulla res erat, immo vero id populus egit, ut rem suam recuperat)»[6]. Поневоле начинаешь интересоваться вещественными коннотациями термина respublica.
Термин res в латинском языке имеет сложную историю. Самое раннее словоупотребление — в Законах Двенадцати таблиц — показывает, что основным его значением было «дело» в смысле судебного разбирательства, причем как в смысле самого процесса, так и в смысле предмета, по поводу которого возник раздор. Только гораздо позднее, в III веке до нашей эры, res стало часто означать вещи, по поводу которых идет дело в суде, и материальное имущество в частности[7]. Любопытно, что термин «вещь», встречающийся в новгородских источниках, иногда имеет схожие коннотации — «раздор», «дело, разбирательство». Так, например, в Новгородской второй летописи сообщается, что столкновения сторон города закончились, когда епископ «разсудил вещи сия начало»[8], а в Ефремовской кормчей 14-е правило Сардикского собора требует, чтобы изгнанный священник шел с апелляцией по своему делу к митрополиту, «да испытание вещи будет», что переводит греческое extasistoupragmatosgenitai, в веронской версии латинского перевода — examenreiprocedat[9]. Конечно, чисто имущественные коннотации нечасты и у древнерусского слова «вещь»[10], а в непереводных источниках прежде всего бросается в глаза странное значение этого слова — «грех, греховный поступок»[11]. Исследование словоупотребления термина «вещь» в Новгороде еще ждет своего автора. Заметим лишь, что для грамотных новгородцев были доступны строки из Ефремовской кормчей: «В них же благочестивый царь людские правит вещи», что переводило греческое tademosiapragmata и латинское rempublicamgubernat[12]. Рязанская кормчая, гораздо более распространенная, чем Ефремовская, тоже утверждала, что царям «от бога мирских вещей строение поручено»[13]. То есть новгородцы имели доступ к дискурсу, употреблявшему славянские аналоги термина respublica, даже если не имели самого термина «республика».
Не будем задаваться вопросом, что думали новгородцы, когда говорили о вещах людских, мирских или градских. Вместо этого рассмотрим роль вещей в их республиканской жизни. Вещей в самом приземленном смысле, но вещей, общих для города, тех, которые делали город городом, а жизнь его, как в строках Цицерона, достойной названия respublica. Материал огромен. Мы могли бы остановиться на роли Святой Софии, так как «там, где София, там и Новгород». Мы могли бы проанализировать роль вечевых площадей или вечевых колоколов. Мы могли бы проанализировать роль церквей отдельных концов или улиц Новгорода в жизни кончанских и уличанских общин. Однако мы остановим свой выбор на Великом мосту через реку Волхов.
Во-первых, среди обыденных с точки зрения современного восприятия вещей мосту посвящено слишком много внимания в летописях: взгляните, например, на предметный указатель в конце Новгородской первой летописи (НПЛ). Во-вторых, мост — особая вещь, что подчеркивает, например, Хайдеггер. Новое время, согласно ему, превратило почти все вещи в объекты, которые поставлены перед субъектом для разглядывания и использования. Объ-ект, в соответствии со своей латинской этимологией, переводится на русский словом-калькой «пред-мет»: то, что вброшено, выметано перед наблюдающим субъектом. Но в древности «вещь» значило совсем другое: древненемецкое и скандинавское dinc, thing означало собрание, вече по обсуждению спорного случая[14]. Действительно, до сих пор парламент Исландии называется Althingi. Res в латинском языке, пишет Хайдеггер, несет те же коннотации — дело, которое задевает нас. Соответственно, respublica означает дело, которое «заведомо касается каждого в народе», задевает всех и потому обсуждается[15]. Поэтому вещь как вещь, а не как предмет, говорит Хайдеггер, это всегда что-то собранное воедино, и, следуя платоновскому «Горгию», Ding в немецком интерпретируется им как собранная вместе и кружащаяся «четверица» — хоровод неба и земли, богов и смертных. Например, мост, хорошо «вписанный» в реку и окружающее его пространство — как мы иногда говорим, увидев почти произведение искусства или нечто величавое, — дает место кружению этой четверицы, сводит ее в одном месте[16].
Эти и подобные высказывания Хайдеггера часто принимаются за ненужную или неэффективную поэтику. Эффект непонятности и чуждости часто возникает, однако, из-за того, что в переводе мы не видим игры смыслов и корневых связок, которыми наполнены тексты Хайдеггера на немецком. Дело в том, что тропки немецкого языка, по которым ведет нас Хайдеггер, часто не указывают русскому языку нужного направления. Отсюда такие трудные и темные переводы. Поэтому они для нас не указ. Поэтому вместо того, чтобы пересказывать Хайдеггера, послушаем, куда ведет нас древнерусский сказ, когда новгородцы говорят о своем мосте. Рассказ ниже будет стараться цитировать их как можно полнее, чтобы дать современному читателю почувствовать тот мир и ту жизнь. Все цитаты, за исключением помеченных особо, — из НПЛ[17].
Самое раннее летописное упоминание моста приходится на 991 год[18], но в записях НПЛ мы впервые встречаем мост в 1133 году: «…обновиша мост черес Волхов рушивше, и церкви срубиша две древяны». После чего события, связанные с мостом или происходящие на мосту, прилежно отмечаются летописцем, наряду с действиями бога, знамениями, природными явлениями и эпидемиями, выборами посадника и приглашением князей, строительством и украшением церквей. Вот, например, весь набор записей за 1144 год: «Делаша мост весь чрес Волхово, по стороне ветхаго, нов весь. В то же лето исписаша честно притворы вся в святеи Софеи, в Новегороде, архиепискупом Нифонтом. Тогда же даша посадничьство Нежате Твердятицю. В то же лето свершиша церковь камену святеи Богородици на Торговищи, в Новегороде». Конечно, в летописях усобицы внутри Новгорода, войны между ним и другими княжествами и землями — так сказать, новости внутри- и внешнеполитической жизни — занимают большинство повествования. Поэтому возникает некоторое удивление: почему мосту уделяется так много внимания?

Дело в том, что с судьбой моста напрямую связаны действия как природных стихий, так и бога, и многие аспекты политической и религиозной жизни новгородцев. Начнем с того, что историки называют экстремальными природными явлениями. Страшный разгул стихии — регулярно повторяющаяся причина разрушения моста. Так, запись за 1338 год гласит: «Бысть вода велика в Волхове, яко же не бысть бывала николи же, […] и снесе великого моста 10 городень». Из-за стихийных бедствий мост приходится часто восстанавливать и перестраивать. По записям НПЛ, мост приходится серьезно чинить после 1144 года уже в 1188 году. В 1229 году вообще «заложиша великыи мост всь нов выше старого мосту». В 1251-м были «дождеве велице» настолько, что мост снесло, и этот эпизод удостоился отдельной миниатюры Лицевого свода Ивана Грозного (рис. 1). Следующая перестройка моста — в 1305 году: судя по всему, после большого пожара 1299 года, когда вместе с многими зданиями и «мост Великыи огнь заял». В 1336-м «свершиша мост нов» после того, как в 1335 году «внесе лед и снег в Вълхъво, и вышибе 15 городень великаго мосту». После наводнения 1338 года опять приходится строить все заново: «того же лета делаша мост нов, что было вышибло». Напасти шли одна за одной: в 1340 году приходится восстанавливать мост, так как «великыи мост сгоре всь по воду». В XV веке особенно заметны два ремонта после крупных наводнений, когда «бысть вода велика […] и снесе Великыи мост» (1421) и «выломи ледом ноць мержею у великого мосту 7 городень» (1436).
Этот интерес к постоянным покушениям стихий на мост и к его восстановлению, конечно же, может быть интерпретирован как следствие важной роли моста в экономической и политической жизни Новгорода. Во-первых, для того чтобы общегородское вече могло собраться, часть населения города должна была перейти через мост. Во-вторых, после того как решение веча принималось, оно часто и исполнялось незамедлительно: осужденных сбрасывали с моста в Волхов. Сразу же через год после первого упоминания моста в 1133 году он — арена политической борьбы: «Почаша молвите о сужальстеи [суздальской. — О.Х., Л.И.-В.] воине новгородци, и убиша муж свои, и вергоша с мосту в суботу пянтикостьную». Еще через два года — в 1136 году, который многими традиционно рассматривается как год республиканской революции в Новгороде, — «убиша Юрга Жирославица и с мосту вергоша». Это «вергоша», так близкое современному русскому выражению «свергнуть с престола», возможно, подчеркивает специфику Новгорода: там свергают не только со «стола», но и с «моста». Любопытно, что начало республиканской жизни, зафиксированное в летописи, — изгнание князя Всеволода — и начало казней на мосту почти совпадают.
Упоминаний о свержении осужденных с моста в Волхов — множество: например, соратника бежавшего князя скидывают в реку в 1141 году, других изменников — «переветников» — в 1316 и 1398 годах, преступников — двух «коромольников», грабивших Торг, — в 1291-м, а подозреваемых виновников городского пожара — в 1442 году. В 1418-м бунтующие «людие», «сведше с веца, сринуша и с мосту» боярина Данила Ивановича. В наиболее интересном случае (1209) «хотяху с мосту свереци» даже останки ненавистного бежавшего посадника, привезенные обратно из Владимира и захороненные в местном монастыре, да архиепископ запретил. Если сброшенные выплывают, как Якун в 1141 году, то их милостиво не казнят больше, а «взяша у него 1000 гривен […] и заточиша […] в Чюдь […], оковавше руце к шии». Спасать свергнутых в реку было опасно — «народ, взъярившись на того рыбника» — подобравшего в челн тонувшего боярина в 1418 году, — «дом его разграбиша».
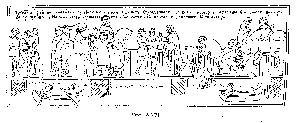
Осталось немало и изображений свержения с моста. Самое раннее — на клейме иконы «Житие св. Варлаама Хутынского в чудесах и деяниях». (рис. 2). Там изображается сцена из жития, написанного Пахомием Логофетом в середине XV века. Варлаам едет к архиепископу и видит: «…прилучися новгородцам по градцкому обычаю осуждена человека метати в реку Волхов». «Никим не молим», Варлаам просит его у народа, и тот милует осужденного, отправляя его со святым в монастырь на труды покаянные, как того, например, требует «Измарагд». Во втором случае родственники другого осужденного молят Варлаама его спасти, но он отказывается, так как видит — это несправедливо осужденный и потому имеет своим защитником самого Христа, то есть сразу окажется в раю[19]. Как минимум две сцены свержения с моста представлены в Лицевом летописном своде Ивана Грозного. Самая знаменитая из них — казнь стригольников в 1375 году (рис. 3). Подпись гласит: «Того же лета новгородцы ввергаше в воду в Волхов стриголников еретиков, глаголюще: писано есть в евангелии, аще кто соблазнит единого от малых сих, лучши есть ему да обвесится камень жерновныи на выи его и потоплен буди в море»[20]. Вторая миниатюра (рис. 4) представляет сцены казни бояр[21].
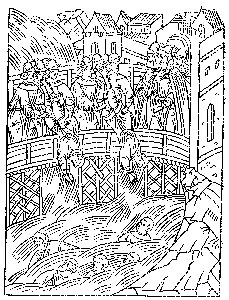
Но интерес летописца к воздействию стихий на судьбу моста связан не столько с его функциями в этом мире, а с тем, что часто с помощью стихий новгородцам является воля божья. Обычный пример: страшный пожар в 1299 году, сжегший среди прочих сооружений и мост, случился, потому что «бог казнит за грехы наша, кажа нас на покаяние». Иногда богу по нескольку раз приходилось являть свой гнев. Так, в 1230 году внутренняя усобица привела к разграблению многих дворов и закончилась тем, что «уби и Водовик посадник и вверже в Волхово». За беззакония и братоненавидение «наведе бог поганыя, и землю нашу пусту положиша», и 3000 человек умерло от голода зимой. Однако усобицы продолжались, и весной казни от бога обрушились снова: летописец грустно живописует каннибализм и трупоядение и заканчивает: «Но сиа страшная на нас казнь бысть, понеже бе грехов своих не каяхомся, и злая дела бес престани творяща, и видяще пред очима своима гнев божии: мертвици по улицам и по торгу, и по великому мосту от пес изьядаеми, якоже бо не можаху погребати их». Мост предстает перед нами здесь театром смерти: как политической, так и назидательной — от гнева божьего.

Иногда бог обрушивает стихии на мост не для казни грешников, а для спасения новгородцев. Так, в 1228 году во время мятежа против архиепископа и тысяцкого бог шлет очевидное всем знамение: «Тогда же померзьшю озеру и стоявшю 3 дни, и възодра уг ветр, и изломавши внесе все в Волхово, и възодра 9 городень великаго моста[…] Не хотяшет бо бог видети кровопролития в братьи, ни диаволу радости дати». В результате этого знамения избирают нового тысяцкого, посылают к князю и через некоторое время замиряются. В другом случае вооруженные армии уже стоят рядом с мостом, готовые к братоубийственной резне, как провидение господне разрушает мост и заставляет враждующих искать перемирие: когда осенью 1335 года льдом вышибло 15 городень моста, то на это была особая божья воля. «Не дал бог кровопролитиа промежи братьею: наважением диавольскым сташа си сторона и она сторона, доспевше в оружьи противу себе оба пол (берега. — О.Х., Л.И.-В.) Волхова; нь бог ублюде и снидошася в любовь». Описание того, как бог заставил лед снести мост в 1388 году, повторяет почти те же формулировки. Однако конфликт трех концов Софийской стороны с посадником настолько силен, что когда тот бежит через реку под защиту Торговой стороны, то отсутствие моста не останавливает битвы, причем достается и лодочникам: «…и начаша людии лупити, а перевозников бити от берега, а суды сечи, и тако быша без мира по 2 недели». Только после этого новгородцы вняли господнему знаку и «снидошася в любовь», когда дали посадничество другому боярину[22].

Иногда, пока господь не вмешивается, дьявол все-таки торжествует. Так, в 1218 году, когда Торговая сторона собирала силы идти на посадника Твердислава, находившегося в Софийской стороне, а Бог все не вмешивался, защищающиеся «мост переметаша» (то есть разломали, разметали). Нападающие сели в лодки «и поидоша с силою великою. О братие, сие чюдо свади оканный диавол», замечает летописец. Новгородцы «начаша битися между собой, […] и быша веця по всю неделю. Нь диавол попран бысть богом и святою Софеею, а крест господень возвеличан бысть; и снидошася братья обои вкупе одинодушьно, и крест целоваша». Мост здесь уже активный инструмент политики, а не инструмент божьей воли, но вмешательство бога все равно нужно, так как человеческое манипулирование с мостом не достигает цели. Так, в 1384 году два вече в разных концах города снова встают «обои в оружьи, аки на рать, и мост великий переметаша, нь ублюде бог и святая Софея от усобныя рати». В 1359 году глас божий слышен всем — рупором его оказывается архиепископ. Две стороны стоят в доспехах «три дни межю себе», и одна уже «и мост переметаша», пока не приезжает владыка Моисей со словами: не допустите попрания святых церквей и возвеличения дьявола, «не съступитеся бится». Можно лишь догадываться, где были сказаны эти слова: если б мост не был «переметан», то он был бы самым удобным местом для явления божьей воли в устах владыки.

Почему? Потому что мост и божья воля, выраженная устами владыки или его действиями, часто неразделимы. В 1342 году, например, мост является неизбежным посредником замирения, что неочевидно из изложения НПЛ, но явлено на миниатюре Лицевого свода Ивана Грозного. Летописец сообщает нам: «И Онцифор с Матфеем созвони веце у святеи Софеи, а Федор и Ондрешко другое созвониша на Ярославли дворе. И посла Онцифор с Матфеем владыку на веце». На миниатюре (рис. 6) видны оба веча и архиепископ, идущий через мост с Софийской на Торговую сторону. Однако конфликт не решался, Онцифор начал военные действия, и «доспеша всь город, сия сторона собе, а сия собе; и владыка Василий с наместником Борисом доконцаша мир межи ими; и възвеличан бысть крест, а диавол посрамлен бысть». В 1418 году, во время так любимого историками классовой борьбы бунта Степанки, явление самой богородицы стало последним способом остановить сражение на мосту, где уже шло «губление: овы от стрелы, овы же от оружиа, беша жи мертвии аки на рати». Владыка Семеон «облечеся в священныя ризы со своим збором, и повеле крест господень и пресвятые богородица образ взяти, иде на мост». С ним идут священники, и причетники, и христоименитое людство. «И пришед святитель ста посреде мосту, и взем животворящий крест, нача благославляти обе стране; ови, взирающе на честный крест, плакахуся». Новгородская вторая летопись открывает скептическому уму технический секрет замирения: после этого архиепископ с «нарочитыми мужи» с обеих сторон утряс кандидатуры степенного посадника (то есть главного из пяти представителей концов) и тысяцкого[23]. Однако текст НПЛ прямо говорит нам о другом, божественном секрете — об участии в замирении самой девы Марии: «И разидошася, молитвами святыя богородица и благословлением архиепископа Семеона, и бысть тишина во граде».

Икона богородицы на мосту — сюжет верхнего яруса (рис. 7) знаменитой трехрядной иконы «Битва новгородцев с суздальцами». Эта икона — редкий пример изображения исторических событий, а не библейского сюжета. Здесь изображен перенос владыкой Иоанном перед битвой в 1170 году иконы Знамения богоматери из церкви Спаса на Ильине на стену Детинца. При штурме суздальцы послали в икону тучу стрел (сюжет второго яруса), она повернулась лицом к Детинцу, и тьма застлала глаза атакующим. После чего (третий ярус) выехавшие из крепости новгородские воины под предводительством свв. Бориса и Глеба, св. Георгия и св. Александра Невского легко перебили превосходящее их войско суздальцев. Существует несколько вариантов этой иконы[24], причем наиболее поздний по времени, находящийся в Третьяковской галерее, наиболее резко отличается от наиболее раннего, хранящегося в Новгородском музее (рис. 8, 9). Ранний вариант — проновгородский: в XV веке в суздальцах легко читались москвичи, и понятно, почему в мастерских владыки Евфимия II — сторонника церковной независимости от Москвы — писали эту икону: она знаменовала час чудесной победы над московской угрозой. Икона являет четко прорисованные и узнаваемые детали архитектуры и топографии Новгорода, стены выглядят несокрушимыми, победа — основанной на мощи новгородской. Поздний вариант, написанный уже под влиянием московской школы иконописи и отражающий антиновгородскую летописную интерпретацию событий, другой. В верхнем ряду иконы исчезает мост, и вместо крестного хода по нему мы видим две сцены поклонения иконе, обеспечившей новгородцам победу. На втором ярусе Детинец уже не имеет мощной стены, как бы висит в воздухе, а на третьем среди новгородцев уже нельзя увидеть особо чтимого местного святого — Александра Невского, остаются лишь трое. Общая интерпретация сюжета — не борьба за независимость Новгорода, а «все во власти божией»[25]. Для нас, конечно, прежде всего интересно исчезновение моста с промосковской иконы: для нереспубликанского сознания он был лишь простой деталью орнамента, а не неотъемлемой частью происходящего.

Фигура архиепископа на мосту, соединяющего силы небесные и воинов земных — либо для остановки братоубийственного кровопролития, либо для снискания другой божьей помощи своему граду, — была, видимо, настолько характерна для новгородской жизни, что попала даже в народный эпос. Редко кто из комментаторов былин о Василии Буслаеве не замечает вслед за Белинским, что старче-пилигримище, который пытается остановить побоище на мосту, устроенное Буслаевым, — это владыка, символ новгородской республики. На голове у него надет колокол, то ли вечевой, то ли софийский. Буслаев, однако, не подчиняется:
И ударил своим вязиком червленым,
По Софеину большому колоколу
И убил старчища Андронища
Своего крестового батюшка[26].

Мост всех этих нарративов и образов — это не просто мост, а Великий мост, и по многим причинам. Во-первых, мосту никогда не приписываются другие качества: мы не знаем, какого он цвета, стойкий ли и надежный, даже должны догадываться, из какого материала он сделан. Конечно, так как он живет своей жизнью, то он может быть «ветх» или «нов», но это, пожалуй, и все. Возможно, отсутствие других прилагательных в описании моста — это следствие того, что мост еще не стал предметом нововременного восприятия. Он вписан в коллективную практику, он — вещь общих забот, а не объект индивидуального созерцания. Другими словами, он еще не предмет, выметанный-вброшенный передо мною и поставленный для разглядывания и отражения. Новгородский мост, как мы знаем из текстов, можно было «переметать», но еще едва ли было можно пред-метать перед своим сознанием, то есть опредметить, сделать знакомым набором индивидуальных физических характеристик.
Конечно, можно сказать, что мост был велик для своего времени и по своим физическим параметрам. Он оставался деревянным вплоть до 1824 года, и по плану 1808 года длина его составляет 170 саженей, то есть около 350 м. Среди других древнерусских мостов — в основном, наплавных, как первый мост в Москве, описанный при визите Павла Алеппского, — он выделялся как продолжительностью своего существования, так и тем, что был постоянным сооружением, функционировавшим в любое время года. Мост имел ломаную форму — с поворотом под тупым углом в середине его — наверное, из-за характеристик течения в этом месте и из-за того, что шел как бы наискосок через реку, от Детинца на Торг. Даже на планах 1775 и 1808 годов хорошо видна «острая городня», упоминающаяся еще в ранних княжеских уставах[27].
Городней или ряжем назывались мостовые опоры — срубы, собранные «в реж», то есть прореженные, уложенные с пропусками, через бревно, чтобы пропускать весенние воды. Преимущество их заключалось в том, что их можно было устанавливать на большую глубину, чем сваи, — их ставили прямо на грунт — и их не надо было забивать в неподатливую почву. Устойчивость достигалась за счет создания продольных и поперечных перерубов внутри ряжа (так что на разрезе ряж выгладит как набор клеток) и заполнения внутренних пространств ряжевого сруба камнями. Дошедшие до нас рисунки (первый — в книге о визите Адама Олеария и технические планы XVII-XIXвеков показывают, что городни моста имели пяти- или шестигранную форму (с водорезом с одной стороны или с обеих). Так, в плане 1782 года: «оные городни рубить рогатым углом, а внутри косыми простенками»[28]. Рогатые углы — это треугольная часть ледореза ряжа. А характерные пересечения косых линий на иконах и миниатюрах, изображающих городни моста, — это, по всей видимости, передача иконописцами остроугольного сруба в аксонометрии.
Мост в Новгороде велик, однако, не только физическими размерами — на фоне современных мостов-великанов он выглядел бы просто смешно. Мост этот велик в том смысле, в каком может быть велико деяние: в величии происходящего на мосту он дает новгородцам XII-XV веков увидеть их судьбу, соединяя их с другими смертными и с богом, с земными стихиями и с небесными силами. Он мостит новгородцам их дорогу к величию, он дает им доступ к нему и, как общая связующая вещь, создает арену осмысленного действия в этом мире. Летописи, жития, иконы, миниатюры являют нам этот связующий осмысленную вселенную мост. Разбейте эту увязку богов, стихий и исторической судьбы новгордцев воедино, разложите ее на части, посмотрите на мост с узкотехнической точки зрения, и перед вами предстанет жалкое подгнившее деревянное сооружение, которое может снести кусок льда из озера Ильмень. Но мост, не как пред-стающий перед нами пред-мет, а как увязка земли и неба, действий богов, стихий и новгородцев, есть «общая вещь», являющая нам то, что Макиавелли называл grandezza — величие деяний и свершений республики. Мост становится великим не в физическом, а в экзистенциальном смысле.
Современный скептик спросит: хорошо, в текстах и иконографии мост увязывает воедино изречения богов и действия стихий, народные битвы и деяния владык и посадников, но как можно говорить, что он связывает и всех смертных новгородцев? Те, кто непосредственно ходит по нему, сбрасывает с него осужденных, совершает на нем богослужения, даже лодочники и рыбники — которых все вспоминают, когда мост разрушен, — они очевидно связаны с мостом. Особая связь некоторых новгородцев с мостом — например, владык — кажется вообще неудивительной, если учесть параллели с другими странами. Так, в Риме существовали «понтифики», жрецы — «мостоделатели», как расшифровал значение этого термина для нас Варрон. Они проводили специальные обряды на мосту через Тибр, и даже Папе Римскому по наследству от них достался титул pontifex maximus. В средневековой Франции мостостроительство считалось актом благочестия, за который монахов и епископов канонизировали, как, например, это произошло со строителем знаменитого моста XII века в Авиньоне[29]. Но при чем здесь все новгородцы?

Посмотрим, как сооружалась эта «общая вещь» во времена республики. Ясно, что финансирование строительства моста после присоединения Новгорода к Москве — дело прежде всего государево, о чем нам сообщает миниатюра Лицевого свода за 1532 год (рис. 10): «Тоя же осени поставише мост великой через Волхов. А дали от него из великаго князя 200 роублев московских. А нарядчик был Филат Бобровник». В НПЛ же о финансировании мостостроения в республиканском Новгороде находим всего две записи. В 1229 году, после того как Михаил Черниговский сел на княжение, новгородцы разграбили дома сторонников предыдущего князя: «А на Ярославлих любовницех поимаша новгородци кун много, и на городищанах, дворов их не грабяше, и даша то на великыи мост». Учитывая, что в Новгороде не было признанной общественной казны — эту роль историки пытались приписать запасам Дома Св. Софии, владениям князей, посадников и тысяцких, каждый из которых собирал определенные дани и поплаты, — вечевое разграбление владений неугодного «официального лица» могло рассматриваться как справедливое возвращение народу неправедно собранных у него налогов. В данном случае примечательно то, что добычу не поделили меж собой, как это часто бывало, а отдали все на общие нужды. Видимо, мост срочно требовал ремонта.
Вторая запись — о строительстве моста в 1338 году: «…делаша мост нов […] повелением владыкы Василья; сам бо владыка пристал тому, и почал и кончал своими людьми; и много добра створи християном». Подобные записи позволили утверждать, что владения архиепископа и были казной Новгорода[30]. Янин, однако, оспаривал, что ремонт моста за счет владыки — обычное дело: по его мнению, запись сделана как раз из-за экстраординарности происходящего. Расходы были слишком огромны, и, например, при перестройке моста в 1623 году царь Михаил Федорович дал лишь треть необходимой суммы, повелев остаток «развытить и собрать с Новагорода, с посаду и уезду, с сох […], со всех земель дворянских и детей боярских, и с монастырских сох, […] чтобы никто в избылых не был, потому что дело всее земли и мостами ездят всякие люди»[31]. С точки зрения Янина, мост обычно строил тысяцкий, который координировал вклады сотских: именно поэтому уже в древнем «Уставе князя Ярослава о мостех» есть разбивка мостовой повинности между новгородскими сотнями, число которых почти что равно предполагаемому историками количеству городень (22) в мосту[32].
Разбивка строительства моста по городням не удивительна в сравнительно-исторической перспективе. Средневековый мост в Рочестере (Англия) финансировался за счет приписывания каждого мостового устоя и перекрытия к определенным приходам или крупному феодалу. Кодекс, первоначально составленный около 1120 года и хранящийся в монастырских книгах записей Кентербери и Рочестера, описывает, кто ремонтирует каждый из устоев моста, а также несущие балки и настил вокруг него. Ответственность делится между королем, архиепископом, епископом и 54 приходами. Когда какое-либо перекрытие рушилось (устои, по всей видимости, были каменными, так как остались еще с древнеримских времен, и потому им уделяется меньше внимания в кодексе), люди, «повинные» в содержании данной секции моста, должны были устроить лодочную переправу и восстановить мост за счет своих земельных доходов и доходов от переправы[33].
Поэтому «Устав о мостех», составленный, по-видимому, в XIII веке, не должен нас удивлять. Этот фактически третий юридический документ Древней Руси после «Русской Правды» и «Устава о церковных соудех» тоже представляет собой, с узкотехнической точки зрения, всего лишь разнарядку работ, сделанную прорабом. Правда, он не ограничивается только разбивкой работ по Великому мосту. В нем также установлено, какая сотня или улица строит какую часть мостовых в Новгороде. (Слово «мост» обозначало тогда любой вид настила — как уличное покрытие, так и перекрытие реки.) Великий мост, однако, строится всеми сотнями новгородскими. Интерполяция в тексте устава, перечисляющая среди участвующих в постройке Великого моста даже и географически отдаленные сотни, позволяет говорить о том, что мост объединяет вместе всех горожан — в смысле «граждан» — Великого Новгорода.
Пытавшиеся оспорить выводы Янина подвергли критике его тезисы о расположении и размере участков мощения, о строительстве Великого моста тысяцким, а не владыкой и «софьянами», но не нападали на главный тезис: Великий мост мостили всей землей[34]. Аналогично, «мосты» меньшей значимости — мостовые отдельных улиц — настилались обычно жителями самой улицы, что и являлось неметафорическим фундаментом превращения ее в особую — «уличанскую» — общину. Можно даже сказать, что до построения определенной мостовой «улица» — как специфическая новгородская община со своим топонимом — не могла и возникнуть. Археологи выяснили, что частоколы между уличными кварталами Новгорода устанавливались только параллельно с первым настилом «мостов». Историки также заметили типовое замечание Писцовых книг XVI века, которым заканчивается описание имущественных отношений каждой новгородской улицы: «мосты мостити со всех дворов, с тяглых и с нетяглых, по старине»[35]. Традиция утверждала: искони мостовая — дело всех дворов.
Таким образом, древнерусский «мост» — как мостовая улицы, так и Великий мост — это неотъемлемый фундамент создания некоторого сообщества, которое создает себя, замостив арену, где будет разворачиваться судьба этого сообщества. Еще точнее, сам русский язык подсказывает: древний мост создает то место, где возможна совместная жизнь, жизнь в-месте. Именно поэтому не надо забывать вещный компонент и в современной respublica.