Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2019
Rodgers M. Nabokov and Nietzsche: Problems and Perspectives.
N.Y.: Bloomsbury, 2018. — 190 p.
Нет предела умению отовсюду извлекать мораль, везде расставлять назидательные точки над i. Тот, кто однажды смог вырваться из силков нравственного редукционизма, легко может попасть в них снова, хотя бы post mortem. Это происходит и с Набоковым: его писательскую технику, ставящую под вопрос наши рецептивные привычки, нередко склонны интерпретировать на языке общеупотребительной морали. «Лолита» при таком подходе может быть воспринята как отповедь любителям нимфеток, а «Ада» как суровое осуждение безнравственного эстетства. Редукция набоковской писательской воли к ясным и похвальным устремлениям сближает его судьбу с судьбой не слишком им любимого Достоевского, чье творчество, как мы наблюдаем сейчас, с невероятным воодушевлением укладывается в «ящички» христианской морали, тогда как за пределами этих «ящичков», может быть, остается большая его часть. Возможна и обратная логика: объявить Набокова и его героев последовательными имморалистами и прочитывать тексты писателя как апологию всего, что выходит за пределы этических рамок, установленных другими, «всеми». Тогда Гумберт Гумберт — великий страдалец, заслуживающий едва ли не восхищения. Как и всегда бывает с крайностями, эти подходы равно упрощают сложное многообразие художественных миров Набокова. Когда об этике так много говорят, очевидно, она переживает инфляцию. Симптоматично появление в 2016 г. под редакцией Майкла Роджерса и Элизабет Суини репрезентативного сборника статей современных исследователей «Набоков и проблема морали: Эстетика, метафизика и этика художественных произведений» [1].
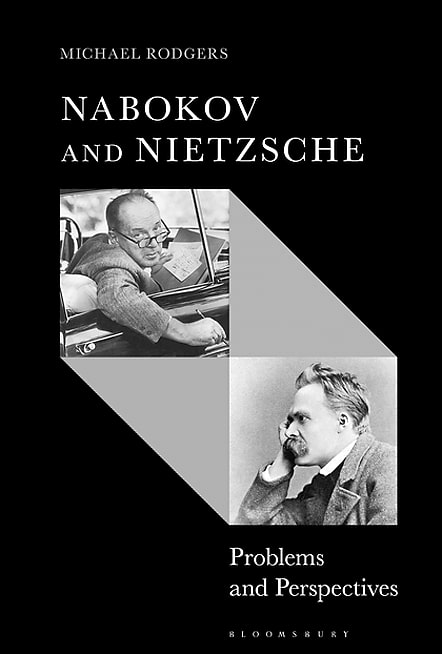
На фоне интригующего разнообразия исследовательских подходов к проблемам морали в произведениях Набокова книга Майкла Роджерса «Набоков и Ницше: Проблемы и перспективы» представляет большой интерес. Автор ее предлагает нечто большее, чем компаративистское исследование (для последнего не хватает конкретных историко-литературных фактов). Роджерс «вооружается» Ницше, чтобы рассмотреть сложные этические и поэтологические вопросы в свете читательской интерпретации. Именно реакция читателя должна быть отрефлексирована при помощи ницшеанских концептов. В книге впервые вопрос о связи набоковского творчества с философией Ницше — а этому сюжету посвящено немалое количество исследований (к примеру, работы Дж. Фостера, Б. Бойда, С. Сендеровича и др.) — рассматривается в монографическом объеме. Ницшеанские концепты ученый использует, чтобы объяснить в текстах Набокова такие феномены, как «совпадение и повторение; отношения читателя и писателя; набоковское высокомерие; привлечение множества интерпретаций и “другой мир”» (с. 4). В исследовании демонстрируется преимущество «ницшеанских» прочтений «Лолиты» и «Бледного огня» и анализируется, в какой мере можно говорить о преодолении в творчестве Набокова ницшеанства средствами самого же Ницше.
Вместе с тем сразу же следует сказать, что речь идет скорее о типологических сближениях, нежели о влиянии. Важность Ницше для Набокова обосновывается в книге апелляцией к следующим фактам: 1) Набоков — «наследник» Серебряного века и модернист, а потому для него не может не быть важен Ницше, 2) Набоков, вероятно, прочитал «Так говорил Заратустра» в юности, о чем свидетельствует фрагмент его записной книжки, 3) Набоков упомянул, правда, с ошибкой в написании, имя Ницше в карточках «The Original of Laura». Непосредственных фактов мало, вместе с тем Роджерс не смущается необходимостью «интерпретировать тишину» (название одной из главок), поскольку 1) Набоков в целом предпочитал не афишировать имена тех, кто мог на него повлиять, 2) имя Ницше ассоциировалось с нацизмом и могло сознательно умалчиваться писателем. «В этом исследовании,— пишет Роджерс, — я утверждаю, что набоковское молчание о Ницше может быть интерпретировано скорее как уважительное, чем презрительное или безразличное» (с. 15).
Книга состоит из трех частей. В первой («Ницшеанское участие») предложен анализ конкретных фрагментов в текстах Набокова, обнаруживающих непосредственную связь с ницшеанской философией. В главе «Вечное возвращение и набоковское искусство памяти» Роджерс на материале «Машеньки», «Защиты Лужина» и «Пнина» демонстрирует, как идея повторения и различия, беспокоящая героев писателя и самого автора, коррелирует с идеей о «вечном возвращении» и amor fati ницшеанского утверждения. В главе «Воля к лишению власти: Набоков и его читатели» сложная игра автора с читателем в текстах Набокова осмысляется на фоне противопоставления «морали господ» и «морали рабов», а сам автор — через волю к власти над текстом и над своим читателем. Материалом ко второй главе служат эссе Набокова «Хорошие читатели и хорошие писатели», рассказы «Набор» и «Сестры Вейн».
Во второй части («Ницшеанское прочтение») конкретные тексты Набокова анализируются в свете идей Ницше, уже вне зависимости от того, присутствуют ли в этих произведениях аллюзии на сочинения философа. В главе «Ницшеанская мораль “Лолиты”» роман Набокова предлагается интерпретировать как «упражнение в моральной дезориентации» (с. 18), которое с предельной конкретностью ставит перед читателем вопрос о природе его собственных представлений о «добре и зле». Не солидаризируясь вполне ни с одной из существующих трактовок, концентрирующих внимание на оценивании Гумберта, Роджерс утверждает: «Моральная проблема не в том, должны ли мы восхищаться Гумбертом, а в том, как примирить наше эстетическое наслаждение его письмом … с тем, что должно быть моральными и эмоциональными переживаниями от непрекращающихся страданий его жертвы» (с. 69). Задача романа — вовлечь читателя в атаку «на банальный моральный дискурс, возникающий перед лицом беспощадного зла» (с. 79). Роджерс убежден, что более важен не спор о том, жесток ли Гумберт, а то, как мы пытаемся объяснить природу этой жестокости и как реагируем на нее (с. 91). В этом и заключено переживание моральной дезориентации. Глава «“Бледный огонь”: различающая перспектива» посвящена преимуществам перспективистского взгляда на проблему внутреннего авторства в «Бледном огне». Возможность сосуществования различных интерпретаций не свидетельствует о релятивизме: перед нами не один роман, а несколько связанных произведений. Решение о том, кого мы будем считать автором (Шейда, Кинбота, Боткина, Набокова или кого-то еще), формирует смысл романа, и потому все «перспективы» оказываются важны. Подобно другим концепциям, в основании которых лежит представление о множественности интерпретаций, «перспективизм Ницше, рассматриваемый как более жестокая версия эстетики fin de siècle, также является здесь привилегированным благодаря пониманию, к которому читатели приходят, размышляя о последствиях выбранной ими теории» (с. 104). «Побуждая нас признать эти перспективы и различные присущие им ценности, Набоков заставляет нас перейти к ницшеанскому видению истины как опыта, и не просто к логическому исключению лжи, но к утверждению ценности. Таким образом, мой аргумент, — пишет Роджерс, — здесь заключается в том, что любая теория внутреннего авторства, которую мы решим в конечном итоге принять для “Бледного огня”, фактически обнаруживает, говоря словами Нормана и Уайта, “какие мы читатели”» (с. 108).
Третья часть («За пределами Ницше») посвящена анализу некоторых «расхождений» между писателем и философом. Роджерс убежден, что и здесь Набоков проявляет себя скорее как достойный продолжатель Ницше. К примеру, образ сверхчеловека, черты которого можно обнаружить в некоторых героях Набокова, таких как Герман из «Отчаянья» или Фальтер из «Ultima Thule», пародируется Набоковым, как считает Роджерс. Писатель усложнил образ сверхчеловека, «наделив его своей ранимостью» (с. 18), в известной степени восстановив в правах жалость (способности к которой лишен Фальтер). В произведениях Набокова можно наблюдать противостояние жалости «христианской» («pity for») и «эстетической» («pity that»); первая, добродетельная, отвлеченная и сентиментальная, должна претвориться во вторую, в жалость к умирающей красоте; поняв эту необходимость, мы способны стать «хорошими читателями». Эта метаморфоза «коррелирует с ницшеанской идеей оправдания жизни только как эстетического феномена … искусство является выражением как “pity that”, так и “pity for”; с помощью художественных средств автор, мотивированный жалостью, может избавить персонаж от унижения читательской жалостью. В “Лолите” наша жалость, по крайней мере частично, направлена на фигуру, которая стала причиной страданий невинной жертвы, а не на жертву. Набоков не позволяет нам жалеть так, как это обычно бывает в художественной литературе или в реальном мире. Сильная жалость Гумберта к Долорес заставляет его защищать ее от более сентиментальной и более навязчивой жалости читателя и переключает нас на решение проблематичной задачи — стоит ли, и как сильно, жалеть его самого. Это ставит читателя в трудное, даже обескураживающее положение, особенно когда мы замечаем, что Долорес жалеет Гумберта» (с. 132—133).
В главе «Набоковский “другой” мир» ученый доказывает на примере «Дара» и других произведений писателя органическое взаимодействие в творчестве Набокова материального и трансцендентного: его тексты свидетельствуют о необходимости усматривать «другой мир» в непосредственной реальности, а не «загробный» мир — за ее пределами. «Для Ницше другой мир — это мир нематериального; для Набокова идея “другого мира” является неотъемлемой частью материального. Тем не менее, делая “другие миры” продолжением этого, Набоков наделяет материальное ницшеанской ценностью» (с. 139). Между двумя режимами существования мира нет строгой демаркации, и именно это позволяет герою «Дара» сосуществовать в нескольких реальностях, ни одна из которых тем не менее не является отвлеченной от жизни. «Подобно тому, как Ницше ценит земное царство, прося нас не отвергать присущую ему ценность, Набоков придает подобную ценность материальному при помощи его перцептивной, эстетической и словесной реорганизации, что обеспечивает материальную трансцендентность. В этом отношении двойные “дары” восприятия и его словесного отображения делают видимым “другой мир” на изнаночной стороне ткани этого мира» (с. 149).
Книга Роджерса предлагает увлекательное путешествие по миру набоковских произведений. Исследование отличает редкая для сегодняшней науки о литературе, в том числе и для набоковедения, воля к смыслу. Ученый не ограничивается замысловатыми аналогиями, а ищет новый неожиданный взгляд на то, как построены сегодня наши отношения с текстом Набокова. Обоснованным в книге представляется и акцент на читательской интерпретации, которая должна культивировать «неудобства» чтения, все проблемные и двусмысленные места. «Эта книга, — подчеркивает Роджерс, — продемонстрировала некоторые приемы, с помощью которых Набоков заставляет читателя испытывать трудность из-за литературных и философских ассоциаций с часто неудобной мыслью Ницше. … Признание такого дискомфорта направлено на то, чтобы передать власть из рук Набокова в руки читателя, что позволяет нам “оспаривать”, а не просто похваливать себя за решение головоломок. Во многих отношениях Набоков предлагает нам уникальную возможность испытать тревожные, но волнующие перспективы (visions) ницшеанской философии. Принятие ницшеанской точки зрения не только порождает более плодотворное прочтение произведений Набокова, но также дает больше “счастливых и запыхавшихся” читателей, которых заставили помучиться над вопросами, откуда, зачем и как мы извлекаем ценность, и которые постоянно вознаграждаются за такое испытание» (с. 159)
Концепция Роджерса в целом убедительна, плодотворна и действительно позволяет нам увидеть множество пересечений между творчеством Набокова и философией Ницше. Писательская независимость Набокова, его презрение к «общим идеям», свобода и дерзость в овладении литературным и жизненным материалом, его страстное утверждение жизни позволяют отнести его к тому типу художников, которых возвышал Ницше.
Ницше помогает ученому подчеркнуть сложные неочевидные проблемы набоковского текста: о перспективистской концепции авторства, о ценности «обмана» в искусстве, о «материальной трансцендентности» его художественных миров и многие другие. Но неминуемо возникает вопрос: во всех ли случаях для анализа был действительно необходим Ницше? Ведь у нас нет оснований утверждать, что Набоков был хорошо знаком с ницшеанской философией. Не является ли в данном случае Ницше удобным для параллелей автором, чьи афоризмы способны «подойти» к подавляющему числу открытий художников-индивидуалистов, к числу которых относился Набоков? В этом смысле концепция Рождерса страдает теми же недостатками, которые всегда сопровождают сочинения, стремящиеся объяснить «самое сокровенное» в писателе через некого привилегированного философа. Именно поэтому последняя часть, в которой все не вполне совместимое с Ницше обозначается как преодоление Ницше средствами самого Ницше, слишком нарочито замыкает творчество Набокова в границах философского мира. Напомним, что сам Ницше в «Ecce Homo» нелестно высказывался о филологах, которые в слишком большом доверии к книгам способны мыслить, уже только переворачивая страницы. То есть дело «как будто бы» обстоит так, что Набоков переворачивал книги Ницше и поэтому создал столь необщий художественный мир. Но ведь это противоречит Ницше. Почему же мы должны отказывать Набокову в его собственном поиске и столкновении с необходимостью построить новый мир ex nihilo? Именно по этой причине книга Роджерса выигрывает всякий раз, когда он стремится прочитать текст Набокова при помощи ницшеанских концептов: это прежде всего главы о «Лолите» и «Бледном огне», и не всегда убеждает, когда он пытается возвести конкретные художественные идеи Набокова к Ницше. К примеру, интереснейшая глава о «другом мире» Набокова с тем же успехом могла обойтись без контекстуализации в философии Ницше, хотя, несомненно, такая контекстуализация настоятельно поставила вопрос о странном совмещении в текстах Набокова запредельного и посюстороннего, которое достигается не за счет «посмертного» существования, а за счет усилий художника. Остается вопросом также, почему в работе не упоминается и не комментируется книга Анатолия Ливри «Набоков-ницшеанец» (СПб., 2005), в 2010 г. вышедшая на французском языке (позже в качестве также и докторской диссертации). Вероятно, это единственная книга на сегодняшний день, появившаяся до труда Роджерса, целиком посвященная связи Набокова и Ницше. Книга Ливри подчеркнуто неакадемична и весьма полемична, тем более она, как кажется, должна была быть учтена Роджерсом, в особенности потому, что книга последнего — гораздо более серьезный труд.
Методологические вопросы, возникающие при чтении книги, ничуть не умаляют ее ценности. В исследовании Роджерса осмыслена имеющаяся литература о Набокове и Ницше и предложены новые способы прочтения набоковских произведений, в которых погоня за интерпретациями и литературными головоломками не «перекрывает» поиск художественного смысла.
[1]Nabokov and the Question of Morality: Aesthetics, Metaphysics, and the Ethics of Fiction / Eds. M. Rodgers, S.E. Sweeney. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2016.