Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2019
Woodward R., Jenkings N. Bringing War to Book: Writing and Producing the Military Memoir.
L.: Palgrave Macmillan, 2018. — X, 285 p.
War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus/ Eds. J. Fedor, M. Kangaspuro, J. Lassila, T. Zhurzhenko.
Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017. — XXVII, 506 p. — (Palgrave Macmillan Memory Studies).
Collective Memories in War/ Eds. E. Rozhdestvenskaya, V. Semenova, I. Tartakovskaya, K. Kosela.
L.; N.Y.: Routledge, 2016. — XIV, 196 p. — (Studies in European Sociology).
Память о войне и войны памяти сегодня широко обсуждаются в гуманитарных исследованиях [1]. В центре коллективной памяти в России, Европе и США находятся мировые войны, репрезентация которых парадоксальным образом накладывается на совершенно иные по своему характеру современные «гибридные» конфликты. Насколько подходят старые нарративы и рамки памяти для репрезентации «новых войн» [2] и текущих политических конфликтов? И какие практики коммеморации оказываются при этом востребованы?
Рэйчел Вудворд и Нил Дженкингс из Ньюкаслского университета в книге «Перенося войну в книги: написание и публикация военных мемуаров» рассматривают формирование памяти о современных локальных конфликтах в Великобритании на материале 250 книг, изданных в 1980—2017 гг. по мнению исследователей, в процессе подготовки к публикации этих воспоминаний персональный опыт автора, интересы издательств и литературных агентов и, главное, каноны этого жанра постоянно вступают в противоречие друг с другом. С этой точки зрения производство памяти о войне (в Великобритании, России или любой другой стране)—это сложный коллективный процесс, определяющую роль в котором играют не столько автобиография рассказчика и его фронтовой опыт, сколько «социальные рамки памяти» (М. Хальбвакс). И хотя современный мемориальный бум связан с акцентом именно на памяти отдельных людей, которая как бы противопоставляется государственной истории, пример военных воспоминаний показывает, что желание «поделиться опытом» и «рассказать правду» не столько меняет границы приватного и публичного, сколько питает энергией и поддерживает сложившуюся систему коллективных репрезентаций.
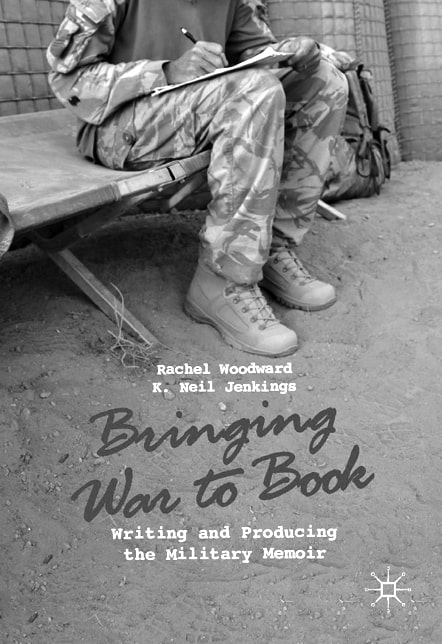
Вудворд и Дженкингс начинают с социологического анализа рынка военных воспоминаний, наиболее востребованных сюжетов и доминирующих нарративных стратегий. Спрос на книги этого жанра в Великобритании не очень велик, но достаточно устойчив: двадцать мемуарных книг, изданных с 2007 по 2011 г., были проданы тиражом 481 тыс. экземпляров и принесли прибыль в 4,3 млн. фунтов. Авторами являются почти исключительно мужчины. Сюжеты, связанные с победой британской армии (например, в Фолклендской войне), оказываются более востребованными, чем продолжающиеся или закончившиеся сложным компромиссом конфликты (например, в Северной Ирландии). Генералы чаще пишут от лица своей военной части и скорее в рамках героического нарратива. Мемуары рядовых солдат весьма амбивалентны: в центре их внимания находится микросообщество выживания (взвод), при этом героический нарратив постепенно уступает место травматическому. Подобные выводы исследователей вполне предсказуемы.
Гораздо более интересные результаты такой социологический анализ дает не на уровне сюжетов, а на уровне практик производства мемуаров. На материале интервью с авторами воспоминаний Вудворд и Дженкингс доказывают влияние армейских навыков письма — составления отчетов и аналитических записок, формирующих «армейскую грамотность» (military literacy), — на производство и чтение военной литературы и самоидентификацию ее авторов. Распространение нарратива травмы во многом оказывается эффектом новой формы терапии, предлагающей комбатантам для преодоления посттравматического стрессового расстройства писать рассказы о прошлом и систематически участвовать в соответствующих «воркшопах» (с. 77). Влияет на производство воспоминаний и самоидентификация авторов с боевым подразделением, выживание членов которого становится приоритетной задачей в ходе военных действий, равно как и повседневная поддержка— после их окончания.
Этот коллективный характер армейского опыта и письма определяет специфику воспоминаний как своеобразного вида свидетельства. Исследователи сравнивают военные мемуары с жанром testimonio, появившимся в 1960-х гг. в Латинской Америке, — политическим свидетельством об участии в борьбе с правыми диктатурами (с. 112). Такое сравнение представляется во многом провокационным, учитывая широко известное и прочно утвердившееся в мемориальных исследованиях различение терминов «экзистенциальное свидетельство» (witnessing) и «свидетельские показания» (testimony) применительно к жертвам Холокоста [3]. Поскольку Вудворд и Дженкингс пишут о военных, некоторые из которых упоминают военные преступления, наблюдателями или даже участниками которых они были в Ираке и Афганистане, уравнивать их воспоминания и другие виды свидетельств кажется проблематичным. их, действительно, объединяет искреннее желание донести до читателя «правду» и одновременно зафиксировать коллективный опыт своего сообщества выживания. Однако для свидетельств латиноамериканских борцов с диктатурой принципиально важен политический пафос. В исследованиях Холокоста ключевую роль играет этический долг памяти. Для комбатантов ни морализация, ни политическая ангажированность не имеют такого значения. Точнее, политика и мораль в их воспоминаниях отходят на второй план — оттесняются практиками, прагматическими по своему характеру, но не очень отрефлексированными авторами воспоминаний.
Одной из таких практик является подготовка мемуаров к публикации — тоже коллективный процесс, в ходе которого ветераны вынуждены общаться с представителями издательства, литературными агентами и читателями. Результатом этого взаимодействия становится паратекст — совокупность внешних средств, обрамляющих основной текст или выступающих, по выражению Ж. Женетта, его «оснасткой»: название, посвящение, обложка, предисловие, аннотация, эпиграф, оглавление [4]. Ключевой тезис исследователей касается консервативности этого паратекста, ориентированного на рынок. Дискурсивный или символический канон воспроизводится авторами не сам по себе, а в соответствии с требованиями или рекомендациями издательств, заинтересованных в высоком уровне продаж, а следовательно — в сохранении символического канона. Фамилия автора по настоянию издателя чаще всего сопровождается воинским званием, позывным или обозначением наград [5], что, по статистике, увеличивает продажи книги. В оформлении обложки используется фотография автора на фоне вооружения того рода войск, в котором он служил. То есть дополнительные символические средства направляются издательством на то, чтобы усилить (и без того важное для комбатантов) чувство принадлежности к армейскому сообществу.
В значительной степени такая стратегия способствует милитаризации — воспроизводству сложившейся политико-экономической системы, использующей насилие для решения социальных и политических проблем. Парадоксальным образом, в случае с военными воспоминаниями воспроизводство символического канона и оправдание милитаризма обеспечиваются в большей степени работающими с паратекстом редакторами, чем самими комбатантами. Законы жанра и поддержание символического канона позволяют включить голоса комбатантов в общую политическую рамку и настаивать на эффективности работы военной машины. Героический нарратив при этом сменяется трагической морализацией без ущерба для системы в целом. Более того, подобная смена доминирующего нарратива при сохранении прежних практик публикации воспоминаний позволяет системе обновляться и повышать свою жизнеспособность. Поэтому различия между милитаризмом и неолиберальной риторикой антимилитаризма представляются Вудворд и Дженкингсу поверхностными и легко преодолимыми. Их общую основу составляет прагматическая политэкономия — стремление к прибыли, определяющее не только распределение финансирования, изменение военных технологий и армейской стратегии, но и язык описания «новых войн». Последние оказываются «репрезентируемыми, технологически сложными и, в конечном итоге, почти бескровными (по крайней мере, для граждан и военных демократических стран)» (с. 243). Бинарное противопоставление гражданской и военной сфер, войны и мира позволяет замаскировать эту общую основу, воспроизводящую себя на уровне практик, включая публикацию военных мемуаров. Антимилитаризм как лобовая критика существующей системы не эффективен, поскольку работает лишь на уровне символического ряда — сюжетов и нарративов, но не затрагивает широкого спектра практик, которые позволяют системе воспроизводиться и обновляться. С этой точки зрения книга университетского профессора Вудворд и ветерана Дженкингса представляет собой не только теоретический анализ, но и поиск альтернативных способов работы с памятью о войне. Совместное исследование предполагает выстраивание более сложной дистанции по отношению к военному прошлому, включая проблематизацию сложившихся самоидентификаций, которые могут не стыковаться друг с другом, подобно тому как могут не совпадать интересы семьи и военного подразделения, армейского руководства и ветеранских сообществ.
Такое выстраивание дистанции затрагивает и более масштабные социальные связи. Неолиберализм сегодня стремительно подчиняет публичную сферу: государственные институты (включая армию) передают свои функции частным компаниям и корпорациям. И основным проводником этого контроля становятся аффективные сообщества, основанные не на политических или гражданских интересах, а на неотрефлексированных сериях самоидентификаций. Обращаясь к концепции «интимной публичности» Л. Берлант, Вудворд и Дженкингс пишут о формировании сообществ нового типа, сменяющих нацию. Для нации была принципиально важна общность территории, языка и государственных институтов, тогда как современные сообщества формируются на основе совместных эмоций и аффектов, связанных с коллективным выживанием. И «новые войны» представляют собой не только борьбу государств за нефть и другие ресурсы, лежащие за пределами их территориальных границ, но и производство этих новых сообществ из своих граждан — сообществ, менее интересующихся политическими и моральными вопросами, но воспроизводящих определенные стратегии выживания.
Безусловно, такой подход вызывает ряд вопросов. Кроме уже упоминавшегося неразличения разных типов свидетельств, остается неясно: если аффективные сообщества вытесняют нацию, почему авторы анализируют воспоминания британцев? Что отличает их от воспоминаний американских или российских комбатантов? Более широкий компаративный анализ необходим и в двух других аспектах— хронологическом и медийном. Насколько книги отличаются от автобиографических интернет-текстов, число которых стремительно растет, а военные мемуары 1980— 2000-х гг. — от воспоминаний середины или первой половины ХХ в.? Вудворд и Дженкингс упоминают работы Ю. Харари, Д. Уинтера и других историков [6], но не сравнивают изменения практик коммеморации. А такие сравнения сегодня предельно актуальны, поскольку преобладающий в memory studies анализ нарративов и коллективных рамок памяти затрагивает лишь поверхностные уровни политики памяти, а не более глубокие слои повседневного опыта и тактик субъективации.
В этом контексте показательна коллективная монография «Война и память в России, Украине и Беларуси» под редакцией Джули Федор, Маркку Кангаспуро, Юсси Лассила и Татьяны Журженко [7]. Выросшая из исследовательского проекта «Войны памяти: культурная динамика в России, Польше и Украине», организованного Александром Эткиндом, она посвящена современным трансформациям памяти о Второй мировой войне. Условно книгу можно разделить на две части, между которыми возникает явное напряжение: первые два раздела посвящены политике памяти, следующие три — локальным практикам коммеморации.
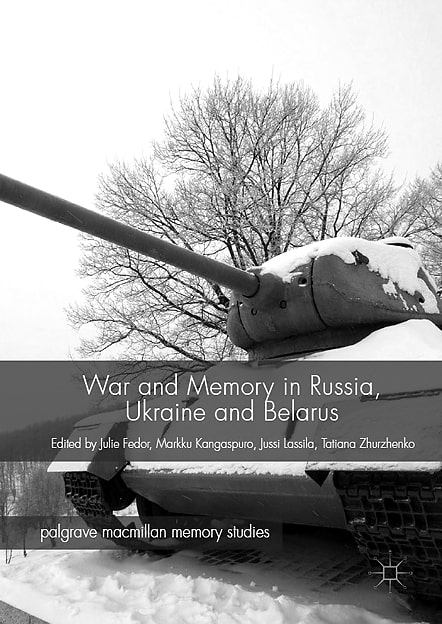
Авторы двух первых разделов опираются на конструктивистский подход, согласно которому политические рамки и государственная символическая политика напрямую определяют содержание коллективной памяти. С этой точки зрения в Западной Европе возобладали трагический нарратив и интерес к культурной памяти, тогда как в России и Восточной Европе оказалась востребована политика памяти, конструирующая национальные идентичности на основе героического нарратива. Источником легитимации подобной политики чаще всего оказывается память о Второй мировой войне. Ольга Малинова в статье «Политическое использование Великой Отечественной войны в постсоветской России: от Ельцина до Путина» рассматривает инструментализацию памяти о войне в 1990—2000-е гг. — ее прагматическое использование в текущей политической борьбе. Объектом анализа становятся речи российских президентов, поскольку «в российской политической системе принятие решений по вопросам символической политики находится в руках президента и его администрации …» (с. 48). В 1990-е гг. борьба с коммунистами на выборах заставила Ельцина и российских либералов рассматривать маршала Жукова как жертву сталинизма, уравнивать последний с нацизмом и противопоставлять современность советскому прошлому. Непопулярность либеральных реформ подтолкнула администрацию Путина в 2000-е гг. к смене риторики и использованию сформировавшегося уже в 1990-х гг. нарратива преемственности государственной власти по отношению к Российской империи (а отчасти и к советской системе), легитимировавшего укрепление исполнительной власти. Условной оппозицией такой преемственности позиционировались «потрясения», к которым якобы призывают и коммунисты, и несистемная оппозиция, и региональные сепаратисты. После начала войны на востоке Украины в 2014г. акцент на имперском прошлом сменился абсолютизацией победы в Великой Отечественной войне. В функциональном плане она оправдывала новый виток бинарного противопоставления «своих» и «чужих» (фашистов и антифашистов), идеи мобилизации и поддержки лично президента. Такая риторика была легко узнаваемой для представителей разных поколений и представлялась буквально единственным пунктом преемственности и легитимности власти.
В аналогичном конструктивистском ключе Юлия Юрчак в статье «Возвращение прошлого и противостояние с прошлым: память об ОУН-УПА и нациестроительство в Украине (1991—2016)» рассматривает использование фигур Бандеры и Сталина как персонификацию двух противостоящих другу версий героического нарратива памяти о Второй мировой войне. Эти версии задействуют разные символические ряды, но опираются на одну и ту же антагонистическую модель политики памяти, апеллируют к романтической историографии XIX в. и предполагают использование государственных институтов памяти — школы, университета и разных специализированных структур (например, Украинского института национальной памяти). Как и в России, оба этих нарратива оказались востребованы среди украинских политиков с начала 1990-х. Борьба Ющенко и Януковича и необходимость мобилизации электората в 2000-е гг. вывели это противостояние на новый уровень. Как и многие другие авторы сборника, Ю. Юрчак использует оппозицию «триумф — травма», отсылающую к книге Б. Гизена [8], и отмечает слабую востребованность проработки трудного прошлого, которая могла бы противостоять его политическому отыгрыванию.
Второй раздел («В тени Сталина») составляют три статьи, посвященные локальному уровню политики памяти — попыткам переименования Волгограда в Сталинград, «войне памятников» в Украине и буму неосталинистской литературы в России 2000-х гг. При этом выясняется, что героический и трагический нарративы (триумф и травма) постоянно переплетаются. И далеко не всегда политика памяти навязывается «сверху». Например, как показывает Сергей Плохий в статье «Когда Сталин потерял голову: Вторая мировая война и войны памяти в современной Украине», большую роль в создании и демонтаже монументов играют местные власти, предприниматели и разного рода общественные организации. Они улавливают общий политический заказ, но выполняют его по-разному. Среди них идет постоянная конкуренция, интересы разных кланов сталкиваются, и центральная власть скорее осуществляет отбор наиболее успешных игроков, смещает неэффективных или заставляет их дополнительно платить за лояльность, а не прямо навязывает «сверху» какую-либо политику памяти.
Во всех этих статьях память рассматривается как нарратив — относительно устойчивый во времени рассказ, формирующий рамки индивидуального опыта и политические позиции акторов. Неизбежные переплетения триумфа и травмы, с этой точки зрения, кажутся скорее исключением, не нарушающим общее правило. Во второй же части сборника авторы исходят из другого понимания памяти. Здесь ключевую роль играют практики коммеморации — реконструкции, фестивали и ритуалы, в ходе которых не просто интернализуется коллективная память, а происходит перформативное преобразование смыслов. Особенно интересен в этой связи третий раздел («Новые агенты и сообщества памяти»), в центре которого находится проблема моральной экономии. Статья Феликса Аккермана «Наследники великой победы: ветераны Афганистана в постсоветской Беларуси» посвящена сравнению двух известных минских мемориалов — «Острова слез» и «Линии Сталина». Оба они были построены во время правления президента А. Лукашенко, в 1996 и 2006 гг. соответственно. Однако в них используется разная символика, что делает видимыми изменения в политике памяти 1990—2000-х гг. «Остров слез» опирается на христианский нарратив и идею страдающей нации, тогда как «Линия Сталина» подчеркивает величие лидера государства и восстанавливает героический нарратив. Инициаторами создания обоих мемориалов были ветераны войны в Афганистане, объединившиеся в организацию «Память Афгана», руководители которой заняли высокие посты в администрации президента. «Их военный опыт стал важной основой доверия и солидарности внутри достаточно небольшой группы людей, близких к властному центру» (с. 215). Статус ветеранов боевых действий и символический капитал позволили им объявить себя представителями всего «поколения восьмидесятых». Последнее едва ли существует как единое целое, но конструируется по аналогии с военным поколением, которое действительно имело общий опыт. Коллективная память при этом оказывается не столько социальным конструктом, сколько «топливом» для социальных интеракций и создания новых символических форм. Кроме того, она становится основой коммодифицированных представлений о долге и культурных ценностях. Апелляция к ним используется сегодня достаточно узкой верхушкой организации, которая при поддержке Министерства обороны создала огромный комплекс, имеющий не только мемориальную, но и коммерческую, и развлекательную функции. «Линия Сталина» делает акцент на интерактивных практиках взаимодействия с прошлым: тире с оружием Второй мировой войны, соревнованиях и шоу боевых машин, исторических реконструкциях, еде в партизанской палатке, специальной водке с портретом Сталина и т.д. «Патриотическое воспитание» здесь сочетается с коммерческим элементом и лоббированием интересов инициативной группы организаторов проекта.
Проблема взаимосвязи памяти и коммодификации представлений о долге принципиально важна и для статьи Татьяны Журженко «Поколенческая память и государство всеобщего благосостояния: институционализация “детей войны” в постсоветской России». Как и организации «афганцев», это движение возникло снизу и во многом опиралось на советский нарратив памяти о Второй мировой войне. Подчеркивая, с одной стороны, героизм поколения отцов, а с другой — признавая тяжелые долгосрочные последствия войны для их собственной жизни, «дети войны» оказываются поколением «постпамяти». При этом «долг помнить» связан для них не только с прошлым, но и с критикой современной социальной несправедливости, поскольку во многом именно на поколение «детей войны» пришлись тяжелые проблемы деиндустриализации и неолиберальных реформ 1990-х гг. Признание их заслуг государством и обществом предполагает не только вербальное, но и материальное выражение — повышение пенсий и льгот. память при этом выступает синонимом компенсации — по аналогии с большими пенсиями ветеранов Великой Отечественной. И уже на следующем этапе эти справедливые требования становятся ресурсом в политическом лоббировании своих интересов коммунистической партией, не навязывающей политику памяти «сверху», но использующей идущее «снизу» недовольство.
Схожий процесс оформления сообщества памяти остарбайтеров в Украине рассматривает Гелинада Гринченко. Это сообщество возникло в конце 1980-х — начале 1990-х гг. и было связано с предельно востребованным в то время трагическим нарративом «двойного страдания» жертв диктатур Гитлера и Сталина. Но главным толчком для его самоидентификации стал внешний фактор — материальные компенсации, которые ФРГ начала выплачивать остарбайтерам с 1993 г. и уже следующим шагом стало требование признания от собственного государства, обеспечения социальной справедливости при выплате пенсий и предоставлении льгот. Все эти кейсы показывают, как легко проблемы моральной экономии и социальной солидарности коммодифицируются и редуцируются к вопросу о материальной компенсации. Причем инициатором такого использования памяти выступает не государство: различные группы интересов пытаются символически кодировать и использовать активность, которая идет «снизу», а центральная власть лишь реагирует на эти инициативы.
Четвертый раздел («Новые/старые нарративы и мифы») посвящен практикам коммемораций. в одной из наиболее актуальных для российского читателя статей сборника — «Память, родство и мобилизация мертвых: государство и “Бессмертный полк”» Джули Федор — исследуются контекст возникновения и современная инструментализация этого движения, вызывающего сегодня бурные дискуссии [9]. По мнению автора, рассматривать его в рамках оппозиции набирающей обороты после 2014 г. милитаризации «сверху» и протестного движения «снизу» не очень продуктивно. «Бессмертный полк» представляет собой перформативный ритуал, который предполагает закрепление старых и проведение новых границ — между «патриотами» и «либералами», «фашистами» и «антифашистами», согласованными и несогласованными демонстрациями, «искренними» и «показными» проявлениями гражданской активности. С этой точки зрения коллективная память и разные сообщества коммеморации представляются не фиксированными сущностями, а скорее эффектом продолжающейся пересборки приватной и публичной сфер. Фотографии погибших солдат при этом «активируют» эмоции и воображение участников ритуала, вызывают личностный отклик, аффект. Здесь важен не символический (травма трансформируется в триумф), а чувственный характер работы памяти. По мнению Дж. Федор, эта чувственность отсылает к идеям почвенников и писателей-деревенщиков, а также к важной для них фигуре «молчаливого свидетеля» и к российской «витальности». В конечном счете именно «витальность» оказывается основой победы, что ярче всего выражается в переодевании детей в военную форму и участии в параде матерей с колясками, раскрашенными в цвета хаки или преобразованными в картонные танки (с. 331).
Саймон Льюис в статье «“Партизанская республика”: колониальные мифы и войны памяти в Беларуси» рассматривает тексты Василя Быкова и белорусскую литературу 1990—2000-х гг. как средство преодоления советской мифологизации Второй мировой войны. Автор выделяет три основные стратегии «постколониального» переосмысления образа партизана: романтизирующую традиции национализма примордиалистскую ностальгию, развивающуюся в основном за пределами Беларуси академическую критику и ироническое обыгрывание образов субалтернов в работах современных художников (парадигматическим примером здесь выступает журнал «pARTisan», издаваемый А. Клиновым). Все они ставят под сомнение доминирующий сегодня в Беларуси дискурс героизации, редуцирующий даже советскую (весьма сложную и менявшуюся со временем) стратегию репрезентации Второй мировой войны, и направлены на проработку трудного прошлого вместо его аффективного отыгрывания в официальных церемониях и парадах.
Пятый раздел («Локальные кейсы») посвящен практикам коммеморации Второй мировой войны в Севастополе, Карелии и Нарве. Например, Джуди Браун рассматривает, как нарратив воинской славы в Севастополе отодвигает поражение 1942 г., проблемы коллаборантов, депортации и потери на второй план. Однако и здесь оппозиция триумфа и травмы оказывается лишь общей рамкой анализа. В центре же внимания находится перформативный характер работы памяти: «вслед за Полом Коннертоном я рассматриваю культурную память как воплощение или “перформанс”, когда образы прошлого и знание о прошлом передаются и поддерживаются посредством (более или менее ритуализованных) действий» (с. 405). Для этих действий важны как оставшаяся еще со времен СССР туристическая инфраструктура, так и многочисленные новые памятники, ежегодные реконструкции взятия Сапун-горы 7 мая (в день освобождения Севастополя), фестиваль документальных фильмов «Победили вместе», парад 9 мая и «Бессмертный полк», «Вахты памяти» и несение почетного караула у Вечного огня (в Севастополе их несколько), встречи с ветеранами в каждой школе. Граница между зрителями и участниками этих мероприятий предельно размыта: их объединяют аффекты и чувства, схожие, по мнению Дж. Браун, с опытом свидетелей: «Перформативной оказывается роль не только участника, но и публики, которая выступает свидетелем исторических событий» (с. 405). Подобные ритуалы, реконструкции и фестивали важны для многих городов, но в Севастополе, повседневная жизнь и экономическая инфраструктура которого уже долгое время связаны с российским флотом, они оказываются гораздо более востребованы.
Показательно, что в этих и других практиках коммеморации нарративы триумфа и травмы переплетаются. Александр Антощенко, Валентина Волохова и Ирина Штыкова в статье «Военные мемориалы Карелии: пространство скорби или славы?» отмечают: «Признание героизма павших может играть терапевтическую роль, позволяя их близким справиться со своей скорбью …» (с. 472). Память работает, путешествует, преодолевает или нарушает национальные границы, проблематизирует старые иерархии и формирует новые сообщества. Последние вслед за Дж. Уинтером можно назвать «сообществами воображаемого родства» (fictive kinship group) [10]. Они используют рациональное осмысление (проработку прошлого) и аффективное отыгрывание как модальности субъективации. То есть не индивид или коллектив выступают инициаторами социальных интеракций — они сами формируются в результате работы памяти. И если в Западной Европе возобладала субъективация, связанная с проработкой травмы, то в России и Восточной Европе более востребованными оказались отыгрывание и ностальгическое стремление вернуться в прошлое, ставшие топливом для новой волны неоконсерватизма. Важно отметить, что такая политика предполагает не возвращение наций XIX в., а формирование сообществ нового типа, воспроизводящих старую риторику, но имеющих иное (аффективное) основание. Либеральные попытки перейти от ностальгии и отыгрывания к публичной проработке прошлого в духе гласности конца 1980-х гг. не срабатывают, поскольку изменилось соотношение публичной и приватной сфер. Эти сферы тесно взаимосвязаны, и именно на их стыке происходит символическое кодирование аффектов.
Напряжение, возникающее между первой частью сборника и второй, имеет принципиальный характер: речь идет о перспективах исследований памяти. Сторонники мемориальной парадигмы сегодня, действительно, все чаще работают с материалом массовой культуры — с интернет-проектами, кино, музыкой, деятельностью реконструкторов. Коммодификация моральной экономии вызывает у них справедливую критику. Но такая критика не должна превращаться в самоцель. Необходим диалог с этими новыми сообществами, для которых память в ее аффективном измерении важна как часть опыта, а не как отвлеченное понятие [11]. Необходима и разработка новой концепции темпоральности, о которой составители сборника упоминают во Введении: «В ходе современного конфликта между Россией и Украиной мы становимся свидетелями возникновения и развития новой темпоральности, в рамках которой элементы прошлого и настоящего сливаются воедино, а линейное историческое время терпит крах» (с. 5). В этом смысле тезис о том, что сегодня Вторая мировая война переходит из коммуникативной памяти в культурную (в терминологии А. Ассман), требует уточнения или пересмотра. Он подталкивает исследователей к пассивности и «нарративному фетишизму» [12], а не к соучастию в действующих практиках коммеморации и признанию своей неизбежной политической ангажированности.
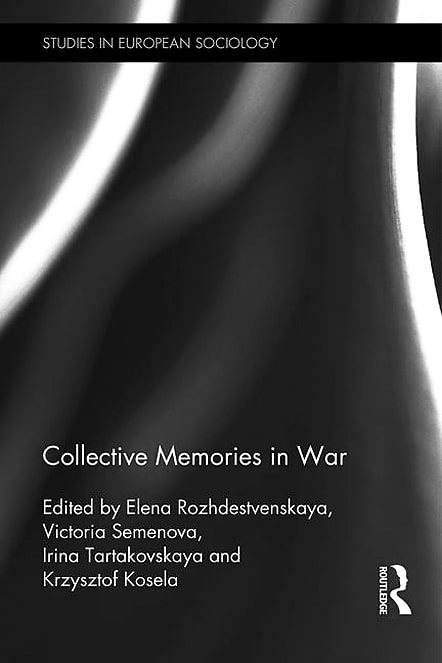
Та же проблема создает внутреннее напряжение и в сборнике «Войны коллективной памяти» под редакцией Елены Рождественской, Виктории Семеновой, Ирины Тартаковской и Кшиштофа Коселы. Книга посвящена коллективной памяти о Второй мировой войне в Восточной Европе (в основном в Польше) и российским практикам коммеморации войны в Афганистане. В первых разделах книги («Историческая политика и политика памяти в разных социокультурных контекстах» и «Культурная память в школьных учебниках») коллективная память также рассматривается в конструктивистском ключе. «Все авторы стараются ответить на один и тот же вопрос: как конструируется память в социуме и как объекты памяти переосмысляются в зависимости от изменений идеологического и политического контекста?» (с. 3). Такой вектор компаративного анализа военных воспоминаний о Второй мировой и войне в Афганистане представляется вполне продуктивным. Однако он также часто редуцирует сложные социальные отношения и культурные взаимосвязи к бинарным оппозициям — индивидуальной и коллективной памяти, героического и трагического нарративов, приватного и публичного, политики памяти «сверху» и «снизу». Например, Михал Лакцевски, Паулина Беднарз-Лакцевски и Томаш Масланка в статье «Историческая политика в Польше и в Германии» противопоставляют 1990-е гг., когда коллективная память формировалась «снизу» и интересовала все общество, 2000-м, когда государство стало управлять ею «сверху». Преемственность символической политики и многочисленные региональные различия в подобной бинарной трактовке нивелируются, а самостоятельные действия локальных акторов отодвигаются на задний план.
Во втором разделе, посвященном в основном памяти о войне в Афганистане, акцент делается на практиках коммеморации, выходящих за рамки такого рода оппозиций. Однако механизмы функционирования этих практик трактуются по- разному: авторы введения отталкиваются от соссюровского различения языка и речи (с. 6), далее Е. Рождественская отмечает перформативный характер воспоминаний (с. 139—150), а И. Тартаковская и А. Ваньке работают на стыке феноменологии фронтового опыта и гендерных исследований (с. 163—187). Безусловно, практики коммеморации носят гетерогенный характер, но как соотносятся между собой разные языки их описания или тактики работы с ними?
Елена Рождественская и Ирина Тартаковская в статье «Пространство памяти в Афганском музее» [13] рассматривают формирование экспозиций о войне в Афганистане в локальных музеях и доказывают, что исходной моделью репрезентации для них является дискурсивная рамка Великой Отечественной войны с присущим ей акцентом на героизации погибших. Показательно также, что символика и характер этих войн различаются, а практики «патриотического воспитания» в формате экскурсий и «уроков мужества» (которые теперь проводят не ветераны Второй мировой, а «афганцы») совпадают. Подобные практики важны не только для аудитории (школьников), но и для самих ветеранов: они позволяют выборочно репрезентировать их опыт, легитимировать доминирующую стратегию выживания и снять вопрос о характере и целях войны. Субъективация в ходе разговора о прошлом оказывается не исходной точкой, а результатом этих практик. Исследователи поднимают и очень важный вопрос о распространенной в рассказах «афганцев» соматизации опыта — акценте на его телесном воплощении, который позволяет сохранить и при этом «заземлить» героический нарратив, перевести его на уровень повседневности, снять противопоставление с трагической стороной войны (с. 91). Соматизация позволяет также дифференцировать аудиторию — отделить предназначенное для школьников «патриотическое воспитание» от разговора «среди своих». Одновременно она служит аргументом в воображаемой полемике с «мнемоническими другими» — выступающими в принципе против войны «либеральными демократами» и индифферентными «людьми с улицы». Неосознанная прагматика такой стратегии репрезентации памяти о войне смыкается с идеологическим дискурсом патриотизма, который не навязывается извне, а легитимирует сформировавшийся баланс памяти и забвения.
Виктория Семенова в статье «Раненая память и коллективная идентичность» [14] рассматривает дискурсивную нормализацию памяти и проявления травмы в рассказах комбатантов. По ее мнению, трагический нарратив минимально востребован в рассказах ветеранов не по политическим причинам, а из-за важной для любых воспоминаний функции нормализации: их целью оказывается не просто рассказ о прошлом, а подключение к коллективной идентичности: «Коллективная память становится организованной “нормативной” структурой, вписанной в общую матрицу коллективной идентичности, и подтверждает эту идентичность при помощи аргументов прошлого» (с. 128). Однако полуформализованное интервью и рассказ на интернет-сайте ориентируются на разные нормативности — на «исповедь» и на хронику событий соответственно [15]. Эта жанровая специфика памяти важна для доказательства тезиса В. Семеновой, что травма присутствует в рассказах комбатантов, но остается на заднем фоне и лишь косвенно проявляется через противопоставление «мира войны» и «мира людей». «Убивать, стрелять, терять друзей, смерть, война, боевые действия, грязное дело — этот скрытый, неназываемый центр дискурса памяти бывших афганцев и составляет то сокровенное в памяти, что редко проговаривается в законченных эпизодах, но является травмой и противостоит миру тех, кто там не был» (с. 133). Сеттинг (формат интервью), действительно, сильно влияет на содержание воспоминаний [16]. Разговор со школьниками или под запись на диктофон исключает сложные моменты: рассказ об употреблении наркотиков, пытках и жестокостях войны, случаях мародерства или отношениях с женщинами. Но эта проблема не решается автоматически при использовании дискурса исследований травмы. Более того, терминология травмы может неоправданно навязывать сложным социальным феноменам психоаналитическую схему объяснения [17].
То же можно сказать и о гендерных исследованиях, которые находятся в центре внимания в пятом разделе («Память и гендер»). Ирина Тартаковская в статье «Конструируя маскулинность из духа войны» [18] рассматривает представления ветеранов Афганистана о мужестве как профессиональную нормативность, определяющую автобиографический нарратив кадровых офицеров и (уже во вторую очередь) воспроизводимую в рассказах рядовых. С другой стороны, основой такой нормативности становятся коллективное выживание и повседневная прагматическая солидарность. «Ощущение этой солидарности, товарищества и фронтового братства представляет собой один из ключевых компонентов воспоминаний афганцев. Такая солидарность и сегодня представляется важным психологическим ресурсом практически для всех без исключения ветеранов» (с. 170). Идея повседневной солидарности важна и в статье «Тело, память и эмоции мужчин-комбатантов» Александрины Ваньке, работающей на стыке исследований памяти, социологии эмоций и феноменологии телесного опыта. По мнению автора, эта солидарность является символическим результатом работы эмоциональных практик, неотрефлексированных габитусов, боли и телесной памяти: «Тело служит поверхностью для доисторических, исторических и биографических инскрипций. Память функционирует через боль, насилие и страдание» (с. 179). Однако этот сильный теоретический тезис, к сожалению, оказывается оторван от материалов интервью и, в конечно счете, вновь редуцируется к оппозиции жизни и смерти в рассказах ветеранов: «…оппозиция “смерть vs. жизнь” становится рамкой для телесной памяти; она служит структурирующим элементом нарратива» (с. 183). В результате попытка автора разработать семиотику военных запахов, звуков, боли и телесных ощущений завершается лишь обозначением общего направления подобного рода исследований. А телесный фронтовой опыт и боль оказываются витгенштейновским «жуком в коробке» — внутренним опытом, о котором мы можем говорить лишь условно и все репрезентации которого социально конструируются.
Итак, что же объединяет три столь разные по сюжетам и подходам книги? Один из возможных вариантов ответа — напряжение между старыми рамками памяти и практиками коммеморации современных вооруженных и политических конфликтов. Как показывают все авторы, противопоставление героического и трагического нарратива, войны и мира, милитаризма и его неолиберальной критики, политики памяти «сверху» и «снизу», рефлексивной проработки прошлого и его аффективного отыгрывания в этом контексте не очень продуктивно. Функционирование практик коммеморации выходит за рамки указанных оппозиций. Как исследователю работать с ними? Тактические решения здесь неизбежно будут отличаться. Общей же стратегией должен быть поиск пересечения интересов в сфере социологии эмоций, феноменологии опыта, исследований аффекта и теории перформатива. От модной прежде междисцилинарности такую стратегию отличает акцент не на конструктивистском анализе, а на вовлеченной работе исследователя, для которого проблемы свидетельства и моральной экономии, формирования сообществ памяти и социальной солидарности не являются лишь абстрактными понятиями, а составляют неотъемлемую часть выстраивания дистанции по отношению к современным конфликтам.
[1] См., например: Mnemosyne and Mars: Artistic and Cultural Representations of Twentieth-century Europe at War / Eds. M. Braganca, D. Jeannerod, P. Tame. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013; Günther L.-S. War Experience and Trauma in American Literature: A Study of American Military Memoirs of Operation Iraqi Freedom. Frankfurt: Peter Lang, 2016; Kleinreesink E. On Military Memoirs: A Quantitative Comparison of International Afghanistan War Autobiographies, 2001—2010. Leiden: Brill, 2017; War Memories: Commemoration, Recollections, and Writings on War / Eds. by S. Bélanger, R. Dickason. L.; Chicago: McGill-Queen’s University Press, 2017; West B.War Memory and Commemoration. L.; N.Y.: Routledge, 2017; Kozák K., Tóth G., Bauer P., Wanger A. Memory in Transatlantic Relations: From the Cold War to the Global War on Terror. N.Y.: Routledge, 2019.
[2] См.: Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / Пер. с англ. А. Апполонова, Д. Дондуковского под ред. А. Смирнова, В. Софронова. М.: Изд-во института Гайдара, 2015.
[3] См.: Felman S., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. N.Y.: Routledge, 1992.
[4] См.: Genette G. Introduction to the Paratext // New Literary History. 1991. Vol. 22. № 2. P. 261—272; Idem. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: University of Cambridge Press, 1997. Вудворд и Дженкингс уточняют: «Для Жерара Женетта паратекст — это зона не только перехода, но и сделок: привилегированное место прагматики и стратегии влияния на публику <…>» (с. 95).
[5] Например, «Джонсон Бехарри, КВ», где последняя аббревиатура означает, что автор награжден Крестом Виктории — высшей военной наградой Великобритании (с. 228—229).
[6] См.: Harari Y.N. The Ultimate Experience: Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture, 1450—2000. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008; Winter J. Remembering War: The Great War between Memory and History in the Twentieth Century. New Haven: Yale University Press, 2006.
[7] Русский перевод Введения см. в: Федор Д., Льюис С., Журженко Т. Война и память в России, Украине и Беларуси / Пер. с англ. А. Захарова // Неприкосновенный запас. 2018. № 3 (119). с. 114—141.
[8]Giesen B. Triumph and Trauma. N.Y.; L.: Routledge, 2015.
[9] См. об этом, например: Архипова А.С., Доронин Д.Ю., Кирзюк А.А., Радченко Д.А., Соколова А.Д., Титков А.С., Югай Е.Ф. Война как праздник, праздник как война: перформативная коммеморация Дня победы // антропологический форум. 2017. №33. с. 84—122; Габович М. Памятник и праздник: этнография Дня победы // Неприкосновенный запас. 2015. № 3. с. 93—111.
[10] См.: Winter J. Forms of Kinship and Remembrance in the Aftermath of the Great War // War and Remembrance in the Twentieth Century / Ed. J. Winter. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press, 1999. P. 40—60.
[11] Удачные примеры такого диалога — мастерские «Театра.doc», лаборатории «Прожито» и новейшие музейные проекты, которым посвящена кн.: Политика аффекта: музей как пространство публичной истории / Под ред. А. Завадского, В. Склез, К. Сувериной. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
[12] Подробнее см.: Сантнер Э. История по ту сторону принципа наслаждения: размышления о репрезентации травмы // Травма: Пункты / Под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009. с. 392.
[13] Эта статья была опубликована ранее на русском языке: Рождественская Е.Ю., Тартаковская И.Н. Пространство памяти в Афганском музее: попытки договориться с прошлым // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2011. № 6. с. 103—117.
[14] Ранний вариант этой статьи см. в: Семенова В.В. Травмированная память как ресурс формирования коллективной идентичности: случай бывших афганцев // Власть времени: социальные границы памяти. М.: Вариант, 2011. с. 63—87.
[15] Е. Рождественская в статье «Ветераны Афганистана: резонанс памяти» также сравнивает интервью и некрологи в книгах памяти. Последние придают смысл жертвенности и легитимируют потери, превращая всю биографию погибшего в подготовку к военной службе и «исполнению интернационального долга».
[16] Подробнее см.: Нитхаммер Л. Вопросы к немецкой памяти: статьи по устной истории / Пер. с нем. К. Левинсона, Е. Щербаковой. М.: Новое издательство, 2012.
[17] См. об этом: Николаи Ф.В., Кобылин И.И. Американские trauma studies и проблемы их транзитивности в России // Логос. 2017. № 5. с. 115—136.
[18] Русскую версию этой статьи см. в: Тартаковская И.Н. Советская гегемонная маскулинность и опыт участия в Афганской войне // Пути России: новые языки социального описания. М.: НЛО, 2014. с. 338—361.