Опубликовано в журнале НЛО, номер 1, 2019
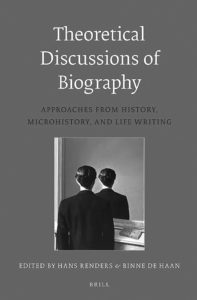

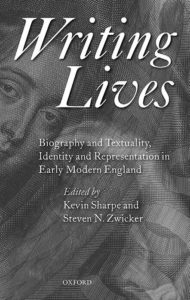
Writing Lives: Biography and Textuality, Identity and Representation in Early Modern England / Eds. K. Sharpe, S.N. Zwicker.
Oxford: Oxford University Press, 2008. — 369 p.
Heinrich T. Leben lesen: Zur Theorie der Biographie um 1800.
Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016. — 199 S. — (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts. Bd. 18).
Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing / Eds. H. Renders, B. de Haan.
Leiden; Boston: Brill, 2014. — ХХ, 273 p. — (Egodocuments and History Studies).
Первая из рассматриваемых здесь книг посвящена тому, как могла представляться жизнь человека до появления биографических рамок ее репрезентации и какие биографические стереотипы мешают нам увидеть жизнь людей раннего Нового времени иначе, чем мы привыкли ее видеть. Во второй исследуется (на немецком материале) изобретение биографии в XVIII в. — ее теоретические основания, связь с режимами знания той эпохи — и продумываются возможности деконструкции биографического опыта, который в современной культуре постоянно навязывается человеку через определенные требования рассказывания о себе. Наконец, в третьей книге собраны статьи, имеющие целью оправдать биографию если не как элемент массовой культуры, то хотя бы как современный исследовательский инструмент.
Кевин Шарп и Стивен Цвикер, составители сборника «Описание жизней: биография и текстуальность, идентичность и репрезентации в Англии раннего Нового времени», указывают, что «биографическая модель как стабильная форма и практика возникла в XVIII в. и представляет собой искажающие очки, если смотреть с ее помощью на жизни людей раннего Нового времени» (c. VI). Вместо того чтобы подчиняться «целостному и поступательно развивающемуся нарративу» (там же), жизнь человека могла представляться во множестве различных жанровых форм. Только когда мы поймем, как воображались и рассказывались жизни в раннее Новое время, мы сможем начать писать историю той эпохи, не подчиняя ее императивам и телеологии Просвещения. По мнению Шарпа и Цвикера, «сложившиеся в XVIII в. формы биографии представляются нам настолько естественными, что мы не задаемся вопросом о том, как они возникли и как менялись на протяжении веков в связи с экономическими, социальными и интеллектуальными трансформациями» (с. 1). Вместо того чтобы рассматривать биографию как нечто всеобщее, необходимо связать ее со специфическими культурными и национальными особенностями мемориализации и прославления человеческих жизней. Примечательно также, что с конца XVII в. преобладали не отдельные биографии, а сборники жизнеописаний людей какой-то одной страны. В дальнейшем связь биографий с национальным контекстом сохранялась, что отличало их от универсалистских средневековых житий святых. Так, в эпоху Возрождения жизнь интеллектуалов обычно представлялась в широком контексте европейской республики ученых, при этом античная литература служила источником общих для всех примеров стоической сдержанности, гражданского мужества, ответственности за общее дело. Однако уже Реформация способствовала переосмыслению жизни в новых конфессиональных, локальных и национальных понятиях, особенно характерно это было для Англии. Национальное становится определяющим фактором в осмыслении жизни к концу XVII в. (когда в английском языке и появляется слово «биография»). Как отмечают Шарп и Цвикер, национализм стремился к упрощенному представлению сложного переплетения жизней, ограничивая их национальными рамками. Так же и концепция биографической репрезентации человека содержит в себе представление о целостной, органично и поступательно развивающейся жизни, что ведет к анахроничному переписыванию более ранних историй о людях.
При этом если биографы XVIII—XX вв. считали необходимыми критическую работу с источниками и строгое отделение истинного от ложного, то люди более раннего времени, напротив, часто сознательно вписывали себя в свой литературный, вымышленный мир, как это делал, например, Эдмунд Спенсер. Ему посвящена статья Эндрю Хэдфилда, который, споря со слишком критично использующими источники биографами поэта XIX — первой половины ХХ в., утверждает, что наши жизнеописания людей раннего Нового времени вполне могут быть спекулятивными (как у К. Дункан-Джонс, С. Гринблатта или П. Акройда), и обусловлено это не столько нехваткой источников, которые позволили бы говорить о человеке более определенно, сколько тем, что жизнь в XVI—XVII вв. изначально выстраивалась как во многом фикциональная, и пример Спенсера это хорошо показывает. Поэт «вписывал» себя в свои произведения, осмыслял через них свою жизнь, воображал, какой она могла бы быть.
Томас Корнс в статье о ранних жизнеописаниях Мильтона стремится показать, что, в отличие от биографов XIX—XX вв., делавших акцент на высоких идеалах поэта, его духовности, вовлеченности в идеологическую борьбу и великих литературных достижениях, авторов рубежа XVII—XVIII вв. интересовали прежде всего слухи о гомоэротических похождениях поэта в студенческие годы и во время путешествий на континенте. По мнению Корнса, настойчивость, с которой биографы обращались к этой теме, заставляет отказаться от пренебрежительного отношения к слухам и признать за ними место в биографии. Роль слухов и сплетен в эпоху Реставрации исследуется также в статье Харальда Лава.Сплетни не только часто служили материалом для жизнеописаний, но и определяли репутацию человека, его поведение и, в конечном счете, личную идентичность. Включая в себя оценку поведения человека и, таким образом, воспроизводя социальные нормы, сплетня соотносит конкретную жизнь с положительными или отрицательными образцами, как это было и в античных или средневековых текстах. В использующих сплетни жизнеописаниях порой трудно разглядеть индивидуальность, но все же они обыгрывают особенности именно этого конкретного человека. Оставаясь фрагментарными отображениями жизни, сплетни не годились для претендовавших на целостность и достоверность биографий более позднего времени, их старались избегать. По мнению Лава, на рубеже ХХ—XXI вв. с концом больших нарративов возникла необходимость переоценки значения сплетен для понимания жизней людей прошлого.
Алистер Беллани в статье о саморепрезентациях герцога Бекингема подчеркивает, что нужно обращать внимание на риторику жизнеописаний, которая остается недостаточно изученной из-за желания историков скорее добраться до самих фактов. Бекингем выстраивал свою жизнь, как бы предвосхищая ее позднейшую нарративизацию, перед смертью став даже заложником саморепрезентаций: усилия по культивированию позитивного образа истолковывались его противниками как свидетельство лживости и коррумпированности. По мнению Беллани, новые биографии людей XVI—XVII вв. должны в большей степени включать в себя символические значения и политические мифологии, вроде тех, что создавались портретами Бекингема, даже если исследуется жизнь менее театрализованная, чем у него.
Не менее важно и то, что в отличие от современной биографии, являющейся отдельным жанром, жизнеописания раннего Нового времени могли помещаться в посвящениях, предисловиях, приложениях, что делало их более зависимыми от условий воспроизведения. Кроме того, биографии оказывались частью иных жанров. Так, Паулина Кьюис в статье о жизнеописаниях Марии I и Елизаветы I подчеркивает, что жизнеописания государей в ту эпоху находились на пересечении жанров — хроники, политической истории, панегирика, мартиролога, агиографии, конфессиональной полемики и др. Хотя сами издатели XVI—XVII вв. могли говорить о жизнеописаниях (lives) и даже выделять их подвиды, при обращении к самим этим текстам обнаруживаются большое многообразие форм и нестабильность границ между ними. Один и тот же текст может быть прочитан по-разному: как мартиролог, исповедь, полемический трактат. А значит, важно понимать, что давала такая жанровая неопределенность и что теряется, когда исследователи, создавая биографию, стремятся обособить ее от всего остального.
Завершается сборник статьей Майкла Маккеона «Биография, фикция и возникновение “идентичности” в XVIII в.», в которой описывается начавшийся в конце XVII в. переход от описания «образцовости» и величия того или иного деятеля к исследованию его человеческих качеств, внутреннего мира. Новая форма биографии возникала под влиянием философии эмпиризма и научной революции, становления точного, экспериментально верифицируемого знания, что задало новые критерии достоверности и для жизнеописаний. Не менее значимо и разрушение в эпоху революции и Реставрации традиционных структур власти и иерархий, в результате чего даже жизнь аристократов начинает описывается не как окруженная особым величием, а как включенная в многообразные социальные взаимодействия. Новые биографии Маккеон сравнивает с портретами аристократов, где они часто изображаются за непринужденной беседой: человек привилегированного статуса не противопоставляет себя другим, выглядит открытым и доступным. Ко времени королевы Анны даже портрет монарха становится домашним и буржуазным. Такие изображения людей в живописи и в новой биографии имели, по мнению автора, политическое значение: они выстраивали новые отношения эмоциональной привязанности между правителями и их подданными, объединенными общими человеческими качествами.
Применительно к Германии более подробно возникновение (новой) биографии в XVIII в. и история ее осмысления исследуются в книге Тобиаса Хайнриха «Прочитывать жизнь: К теории биографии ок. 1800 г.». Цель автора — описать «исторические горизонты дискурсивного производства» (c. 8) биографий, репрезентации жизни человека в биографической форме.
В 1777 г. в Митаве вышла книга Иоганна Георга Виггерса «О биографии» — первая немецкоязычная монография по этой проблематике. Ей предшествовала публикация большого количества небольших рассуждений на эту тему: сопроводительных писем, предисловий, введений и преамбул к популярным в то время биографиям (или сборникам биографий). Отправным пунктом для дискуссий стали «Письма о новейшей немецкой литературе» (1761) Томаса Аббта, содержащие критику старых панегирических биографий, написанных в традиции придворно-аристократического историописания. В духе просвещенческой антропологии Аббт выступал за такое изображение личности, в котором проявляется ее индивидуальность. Схоже рассуждал и Георг Кристоф Лихтенберг в речи «О характерах в истории» (1765), особенно когда касался вопроса о том, в какой мере внешность человека позволяет судить о его характере. О биографии писал и Иоганн Иоахим Эшенбург в «Наброске о теории и литературе в связи с изящными науками» («Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften», 1783), стремясь определить место биографии среди родственных литературных жанров. Различные концепции составления сборников биографий Хайнрих исследует на примере «Всеобщей биографии» (1767—1791) Иоганна Маттиаса Шрёка, «Некролога» (1791—1806) Фридриха Шлихтегроля, а также издававшегося группой профессоров в Галле журнала «Биограф» (1802—1810). В монографической форме следующим после Виггерса теорию биографии исследовал Даниель Йениш в «Теории жизнеописания» (1802). Хайнрих отмечает возрастающее значение герменевтики: если Виггерс в традиции ученой биографии cчитает необходимым описывать интеллектуальное развитие человека, то Йениш обращает внимание на психологические мотивы поступков, для него важно рассматривать внутренние и внешние процессы в жизни человека как динамическое единство.
Особое внимание Хайнрих уделяет сочинениям Гердера: им посвящена первая глава, где речь идет о связи биографии с практиками поминовения умерших. В 1764 г., еще будучи студентом, Гердер произносит свою первую публичную речь — на похоронах Марии Маргареты Кантер, дочери знакомого книготорговца. Эту речь Хайнрих помещает в контекст менявшегося в то время соотношения риторики и аффектов в переживании смерти. Если в эпоху барокко скорбь должна была контролироваться говорящим и была не столько отправной точкой, сколько результатом поминовения, то в XVIII в. все больше ценятся естественность и подлинность эмоционального выражения. Новая риторика должна была позволить проявиться внутренним душевным переживаниям, а не инсценировать их. Живое чувство перестает быть помехой, становится подлинным выражением индивидуальности, и потому оратору нужно быть не режиссером, а выразителем чувств публики, не создающим эмоциональное настроение, а улавливающим его и придающим ему языковую форму. Выражение скорби понимается теперь не как ритуализированное коллективное действие, а как индивидуальное, психически мотивированное состояние. Аффект утрачивает свой риторико-перформативный характер и переносится во внутренний мир человека (с. 19)[1]. Соответственно, и Гердер на похоронах говорит о слезах присутствующих, в которых проявляется их душевное потрясение; слезы оказываются непосредственным, подлинным, не выраженным в языке при помощи знаков, но все же значащим проявлением чувств людей.
Боли и горечи родных в этой речи противопоставляется счастливое воспоминание о жизни усопшей, которая благодаря ранней смерти была спасена от горестей последующего существования. Гердер стремится найти утешение в посюстороннем мире, в осознании того, что счастье заключено в воспоминании, которое сохраняется и после смерти. Таким образом, отмечает Хайнрих, здесь делается попытка соединить индивидуальное переживание и коллективный опыт, утрату присутствия и ее воображаемое преодоление. В речи о Кантер проявляются многие характерные черты позднейшей трактовки биографий у Гердера.
В 1767 г. Гердер предложил Фридриху Николаи опубликовать некролог о рано умершем Томасе Аббте, в творчестве которого он видел множество разрозненных и не доведенных до конца линий, нуждающихся в дальнейшем осмыслении. Гердер считает необходимым создать новую форму биографии, способную представить жизнь как процесс размышлений и письма, выявить индивидуальность человека через анализ его жизненных обстоятельств. Новая биография должна стать соединением истории жизни и анализа текстов. При этом, отмечает Хайнрих, популярность в XVIII в. автобиографического романа и романа в письмах как способов выражения мыслей и чувств делала фигуру автора предметом публичного интереса. Успех этих литературных жанров был связан с тем, что они как бы раскрывали авторский мир, допускали туда читателя, с которым выстраивались доверительные отношения. При этом публичный облик писателя все меньше определялся личным знакомством с ним и все больше впечатлением, которое публика получала при чтении. Как отмечает Хайнрих, Гердер намеревается перевести свой опыт чтения Аббта (с которым не был лично знаком) в создание биографического текста о нем; жизнь, таким образом, редуцируется до ее текстовой репрезентации, границы между реальным человеком и авторской фигурой стираются.
Как и в надгробной речи о Кантер, сохранение памяти об умершем выполняет здесь две различные функции: оно должно удержать самое ценное в прошлом — в философском наследии умерших — и одновременно позволить будущим поколениям придать новую жизнь оборвавшимся исследованиям. Хотя каждого человека следует рассматривать в связи с его временем, необходимо все же извлечь его из прошлого, не видеть его жизнь завершенной, продолжить начатое им. Хайнрих отмечает, что гердеровская биография оказывается авторитарной моделью, в которой индивидуальная жизнь «надписывается» биографией (с. 42). Связывая воедино разрозненные нити творчества умершего писателя и указывая на возможные их продолжения, она дает читателю то, что он, как правило, не способен обрести своими силами, и это наделяет ее непререкаемым авторитетом в истолковании умерших (с. 43).
Гердер полагает, что благородная символическая эпоха пришла к завершению: если раньше мертвых чествовали посредством статуй, обелисков, праздничных ритуалов, то теперь пришло время продуктивной работы с наследием умершего, смерть должна стать моментом нового начала. Наряду с хронологической Гердер вводит и географическую дифференциацию способов сохранения памяти об умерших. Типично французским жанром является похвальное слово, главная цель которого — прославление умершего. Оно, однако, слишком связано с нарочитой репрезентативностью барочной литературы, реальные обстоятельства жизни подчиняются нормативным упорядочивающим принципам, утрачивается уникальность реальной жизни человека. От французской модели отличается британская, в которой сохранение памяти обретает форму архива, а биография — собрания знаний. Для британцев характерно издание роскошных посмертных собраний сочинений, которые маркируют в литературном поле завершение процесса письма, сопутствующая же им биография обозначает окончание земной жизни, придавая ей тот же завершенный и окончательный вид, что и у текстов в собраниях сочинений. Так, Н. Роу, издавший в 1709 г. первое критическое собрание сочинений Шекспира, пишет и его биографию. В дальнейшем А. Поуп и С. Джонсон, также издававшие Шекспира, продолжили биографические разыскания о нем. История жизни становится обрамлением произведений и подготавливает их чтение и интерпретацию. В таких биографиях, описывающих жизнь во всех ее мелких деталях, Гердеру, однако, не хватает внутреннего духовного развития человека. В отличие от британцев с их хроникальными биографиями итальянцы предпочитают элегический жанр, который, подобно музыке, создает настроение скорби, делает возможным ее переживание многими людьми, однако некогда благородное античное поминовение сегодня выглядит просто плаксивым, оно не может выполнять прежнюю функцию во времена газет и журналов. Современный памятник, по Гердеру, следует возводить из бумаги, и создателями его должны быть немцы, которым старые формы увековечивания культурно чужды. Посредством остранения Гердер создает свободное пространство, куда помещает свою модель биографии, обыгрывая при этом характерное для XVII—XVIII вв. представление о культурной отсталости немцев, благодаря которой, однако, они особенно близки к природе и естественной чистоте нравов.
Соединяя ориентированные на реформы общественные силы Германии, формируя своего читателя, биографии умерших приобретают и политико-утопическое измерение — как воззвание к политически освобождающемуся гражданскому обществу. Биография должна создать в мире текстов сообщество, которое еще невозможно в реальной политике, — новую немецкую идентичность в противопоставлении идентичностям других народов. Особенно в сборниках биографий делаются заметными социальная динамика и культурные связи, становится возможным понять не только то, чем сегодня является нация, но и то, чем она может стать.
Гердер нередко пишет об образе, изображении (Bild) умершего человека, и во второй главе Хайнрих, подобно Маккеону, обращается к взаимовлиянию и конкуренции биографий и живописных портретных изображений. Хайнрих соглашается с Гермионой Ли, писавшей, что портрет был доминирующей метафорой в осмыслении биографий в XVIII в.[2] Методы изобразительных искусств служили как для проведения аналогий, так и для выстраивания противопоставлений: нарисованный портрет служит биографии образцом, но в силу ограниченности своих возможностей высказывания он должен быть дополнен и преодолен. Обсуждение биографий в конце XVIII в. примыкает, таким образом, к спорам того времени о соотношении изображения и письма.
Центральное место в этих дискуссиях занимали «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, в которых человеческая жизнь редуцируется к ряду сопоставимых между собой примеров поведения, на основании которых можно судить о желательных или нежелательных поступках. Плутарх был особенно важен для просвещенческого историописания, стремившегося быть практически ориентированным. Биографии надлежало стать инструментом осознания человеком своей субъектности. Так, Аббт в «Письмах о новейшей немецкой литературе» критиковал К.Ф. Паули, написавшего биографии генералов Фридриха II, за бесконечное перечисление наград и титулов. По мнению Аббта, Паули не удается, в отличие от Плутарха, представить характерные личные качества этих людей, их значимость проявляется лишь во внешнем признании заслуг, а рассказываемые Паули анекдоты подобны добавляемым к портрету украшениям. Аббт же считал, что само отображение физического облика человека должно создавать впечатление о его личности.
Шрёк, полемизируя с Аббтом, осуждал пренебрежение деталями и называл портреты в духе Аббта миниатюрами, которые приятны и многим полезны, но уступают портретам в полный рост. Показать следует не только характер человека, но и историю его жизни со всеми предпосылками и мотивами. Если Аббт касается только выразительной стороны искусства, то Шрёк обращает внимание и на многообразие способов изображения. Как и в портретном искусстве, в написании биографий могут быть разные пути, и лишь практическое назначение биографии показывает, какой из них выбрать.
Шлихтегроль в «Некрологе» использовал метафору человеческого взгляда, чтобы описать различия между биографией и всеобщей историей. Наш взгляд слишком слаб, чтобы охватить разом все многообразие явлений истории, но его ограниченности соответствует ограниченный духовный горизонт человека прошлого, который, таким образом, оказывается сообразным масштабом для восприятия знания о прошлом и выстраивания в соответствии с ним собственной жизни. Виггерс вводит понятие галереи, где картины хотя и представлены отдельно друг от друга, но, показанные вместе, позволяют выстраивать более широкие взаимосвязи. Понятием галереи воспользуются затем и издатели журнала «Биограф», для которых она оказывается основой упорядочивания знания, соотнесенного с субъективным опытом. Работа биографа подобна занятиям собирателя произведений искусства; при этом, так же как в галерее могут быть представлены работы различных мастеров и жанров, биография не должна представлять собой единый и «законченный» жанр — скорее ее следует трактовать как спектр возможностей. В галерее есть место и небольшому портрету, и монументальному полотну.
Лихтенберг в речи «О характерах в истории» задавался вопросом, способна ли биография создавать столь же непосредственное впечатление о человеке, что и портрет. По его мнению, биограф должен соединять в себе историка и психолога, но при этом стремиться не столько к выявлению общих черт, как это было в жизнеописаниях Плутарха (но также и в физиогномике Лафатера, которую Лихтенберг критиковал), сколько к изучению патогномики — того, как события и опыт оставляют специфические отпечатки на лице человека. Развивая идеи Лихтенберга, Йениш писал, что в жизни человека есть определяющие моменты, которые оставляют отпечаток на его индивидуальности. При этом для Йениша, в отличие от Лафатера, характер человека распознается не столько в последовательном анализе строения его костей, сколько в мимолетном интуитивном восприятии, спонтанном суждении при виде лица.
Физиогномика, таким образом, оказывается важным дискурсивным фоном, на котором происходит становление биографии. При этом телесное присутствие человека подменяется письмом, которое помещает индивида в тесный корсет репрезентаций, делающих его прочитываемым. Здесь Хайнрих обращает внимание еще и на меняющееся соотношение между письмом и живописью в XVIII в. Если в XVI—XVII вв. живопись ориентировалась на правила литературной поэтики, стремилась к повествовательности, создавала иконологически кодированные образы, для прочтения которых нужно было владеть специальными знаниями, то в XVIII в. живопись уже в большей степени ориентируется на непосредственность восприятия, и теперь литература пытается ей подражать. При этом основные вопросы, которыми занималась философия эпохи Просвещения, касались природы человека, его характера, души, разума, которые трудно представить в качестве физически воспринимаемых образов. В этой ситуации, отмечает Хайнрих, литературная поэтика задействует подражательный характер живописи и пластики не со стороны авторского выражения, а со стороны читательской рецепции. Литература не должна сама уподобляться природному объекту, будет достаточно, если она сможет оказывать подобное чувственное воздействие на реципиента. Биография стремится к непосредственности, к созданию эффекта живого присутствия, но вместо него создается то, что Х. Уайт называл «фикцией фактического»: человек все больше начинает идентифицировать себя с этой биографической формой, воспринимая ее как подлинное и естественное. Выстраивая связь между визуальной культурой XVIII в. и возникновением новой биографии, Хайнрих напоминает о феноменологической критике посткартезианских режимов видения у М. Мерло-Понти[3] и указывает на необходимость подвергнуть аналогичной критике и кажущийся естественным сегодня биографический опыт.
Третья глава книги посвящена биографии как образцовому примеру. В конце XVII — первой половине XVIII в. жизнеописания в Германии испытывали сильное влияние пиетизма, который обращал человека к его внутреннему миру, к исследованию мотивов своих действий. Со временем религиозный скептицизм поставил под вопрос представления о постоянстве человеческой природы, а следовательно, и образцовый характер биографий. Индивидуальная идентичность все больше формируется как светская телеологическая модель развития, успешного и максимально полного раскрытия заложенных в человеке способностей, итогом которого должен стать автономный, зрелый и сознательный индивид. Соответственно, биография занимала важное место в просвещенческой дидактике. Так, Йениш писал, что искусство биографа заключается в способности найти подходящий материал для большей наглядности этических максим. Знание не должно оставаться абстрактным, его нужно интегрировать прямо в наш жизненный мир. Благодаря биографиям публика может воспринимать сложное знание, но при этом возрастает роль развлекательного аспекта. Нарративная конкретика обращается к «низшим» познавательным способностям, но в ее основе должны лежать абстрактно-логические заключения. В подобных рассуждениях Йениша и ряда других авторов Хайнрих видит подспудный «менеджмент чувств», характерно просвещенческое стремление сделать человека манипулируемым, хорошо управляемым, о чем в свое время писали Хоркхаймер и Адорно. Хайнрих обращается также к размышлениям Лумана о том, как разыгрывание ролевых моделей в развлекательной культуре позволяет формировать идентичность человека, отмечая, что описанный Луманом феномен является относительно недавним и прямо связан со становлением новой, биографической модели рассказывания о жизни.
Четвертая глава посвящена сборникам биографий и их значению для формирования сначала корпоративного, а затем общегражданского и национального самосознания. Как отмечает Хайнрих, еще в эпоху Возрождения биографии обычно объединялись в сборники. Постепенно они дифференцируются — посвящаются не знаменитым людям вообще, а художникам, как у Вазари, или ученым, как у Мельхиора Адама, ректора гимназии в Гейдельберге, опубликовавшего между 1615 и 1620 гг. двенадцатитомное собрание более чем пятисот биографий немецких и голландских ученых. Коллективные биографии были свидетельством возрастающего самосознания и самоутверждения соответствующих профессиональных групп, конституировали ученых как общеевропейскую аристократию духа, противопоставленную существующим формам территориальной власти. Отличительной чертой биографических сборников XVII — первой половины XVIII в. была тенденция к систематизации и классификации. Биографии ученых дифференцируются, подразделяясь на множество сословно-профессиональных категорий, а наряду с биографиями поэтов и художников появляются отдельные сборники биографий богословов, юристов, врачей и естествоиспытателей[4]. Такая фрагментация, по мнению Хайнриха, свидетельствовала о потребности в выработке более специфических наборов жизненных правил, чем в общих сборниках биографий ученых. Особый случай представляли собой собрания женских биографий, начало которым положил еще Боккаччо. В XVI—XVII вв. появляется много сборников биографий женщин-ученых, в которых, однако, не столько создается идеальный тип жизненного пути, сколько показывается, что женщины-ученые проявили себя в самых разных областях знания.
После религиозных и социальных конфликтов XVII в. стремление к фрагментации постепенно сменяется тенденцией ко все более интегративному составлению сборников. Примером здесь могут быть сочинения Шрёка, который в 1764 г. публикует «Изображения и жизнеописания знаменитых ученых», следующие еще старым образцам, а несколько лет спустя берется за составление «Всеобщей биографии», во введении к которой заявляет о желании уйти от принятых классификаций. По мнению Хайнриха, здесь имел значение общий контекст эпохи: в политическом дискурсе XVIII в. одним из центральных стал мотив патриотизма, представления общества как сообщества, в котором различные группы и индивиды объединяются ради общей цели. При этом создаются и новые механизмы исключения, призванные внутренне гомогенизировать национальное сообщество, отделить его от других коллективных объединений.
На смену стремлению к гомогенности постепенно приходит принцип многообразия, что создает место для индивидуальности, для «просчитанной гетерогенности как организующего критерия коллективной биографии» (с. 119). Важными оказываются особые личные достижения — простая принадлежность к ученому или иному сословию уже не гарантирует включения в биографический сборник. Формируя образ внесословного единства во множестве, биографии служат формированию немецкой идентичности, и около 1800 г. в них уже прямо ставится задача показать специфику национального на примере жизни отдельных людей, как это делается, например, в «Некрологе немцев» (1802) Шлихтегроля. Крайне редкими становятся жизнеописания женщин: по мере обретения биографией национального характера роль публичных фигур отводится в основном мужчинам.
В пятой главе Хайнрих исследует, как повлияла на становление новой биографии возрастающая роль письма как средства коммуникации. Вслед за А. Кошорке[5] он отмечает уменьшение в XVIII в. (по сравнению с эпохой барокко) значения телесности в общении между людьми. Письмо и чтение становятся культурно более важными, чем живые беседы. Парадоксальным образом, большей дистанцированности в общении соответствует возросшее стремление к интимности, доверительной близости, что и предлагают новые биографии с их герменевтикой душевной жизни. При этом условием такой герменевтики является как раз исключение живого присутствия, его подмена письмом. Вслед за Х.У. Гумбрехтом[6] Хайнрих обращает внимание на проблематичные стороны последующего доминирования герменевтики в немецкой культуре.
Таким образом, возникшая в конце XVIII в. модель биографии рассматривается Хайнрихом как часть того культурного наследия, которое в ХХ в. критиковалось с разных сторон М. Хоркхаймером и Т. Адорно, М. Мерло-Понти, М. Фуко, Б. Андерсоном и другими исследователями. Биография оказывается причастна к линейно-прогрессивному, ориентированному на успех выстраиванию жизни человека, к ее встраиванию в националистические идеологии, к логоцентрическому подавлению телесного и женского и т.д. Все это делает важной ее критическую деконструкцию.
Между тем, биография не только сохраняла на протяжении ХХ в. свое значение в массовой культуре; начиная с 1970-х гг. она стала вновь востребована и в академической историографии, стремившейся уйти от ставших проблематичными структуралистских методов изучения прошлого[7]. Вышедший в 2014 г. сборник статей «Теоретические дискуссии о биографии» включает в себя как уже классические[8], так и новые работы, в которых отстаивается необходимость сохранения и культивирования жанра биографии, который в ХХ в. критиковался и как профессиональный исследовательский инструмент (малополезный или даже вредный с точки зрения структуралистских направлений в историографии), и как продукт массовой культуры, ставящий увлекательность выше достоверности, упрощающий прошлое, потакающий культу знаменитостей. Ханс Рендерс и Бинне де Хаан — составители сборника и авторы половины вошедших в него статей — сетуют на сохраняющуюся дискриминацию биографии в академической среде: о ней если и говорят, то, как правило, только чтобы унизить. Почти отсутствует профессиональная подготовка историков к написанию биографий (лишь в немногих университетах есть кафедры или научные центры биографической истории). Причины негативного отношения к биографии авторы-составители находят еще в XIX в., когда происходило размежевание профессиональной историографии и литературы. Репутация научной биографии до сих пор страдает от того, что она ассоциируется с процветающим жанром беллетристического жизнеописания (life writing). Рендерс и Хаан настаивают, однако, что биография относится к историографии и является разновидностью строгого критического историописания; тем самым они возражают представителям «новой биографической истории» 1980—1990-х гг., возникшей во многом как следствие реабилитации нарративности в историографии.
Рендерс, однако, отмечает и то, что не всякая написанная журналистами биография непременно является литературной и малодостоверной, напротив, есть много примеров качественно проведенного исследования. Джеймс Уолтер в своей статье напоминает, что расхожая критика биографий, сводящая их к литературным образцам XIX в., упускает из виду последующую историю этого жанра, в частности переосмысление (авто)биографии в авангардной литературе, к которой далеко не всегда неприменимы упреки в выстраивании линейных и однозначных нарративов, ориентации на успех, доминировании рационального и т.п. Также увлечение многих биографов теорией психоанализа хотя и приводило зачастую к анахроничным трактовкам прошлого, но одновременно способствовало пересмотру самой концепции биографического, отказу от культа суверенного индивида, от преувеличения авторской автономии, от восхваления того, что после Фуко стало рассматриваться как репрессивная (навязываемая с целью дисциплинирования) субъективность. Еще более значительные изменения претерпевает жанр в конце ХХ в., когда в феминистских и постколониальных биографиях стал делаться акцент на фрагментированности опыта, его полифоничности и атемпоральности. В целом, отмечает Уолтер, постмодернистская критика существенно повлияла на отношение к языку, телу, внутреннему/внешнему в человеке как в многочисленных (авто)биографиях, так и в исторических исследованиях[9].
Значительная часть сборника посвящена месту биографии в микроистории. В частности, подвергается критике выдвинутая некогда Э. Гренди концепция «исключительного нормального»: необычные случаи, в том числе нестандартные истории людей, способствуют лучшему пониманию того, что есть нормальное. В свое время вопрос о статусе микроисторических исследований привел к длительным дискуссиям о соотношении микро- и макроподходов, комбинировании масштабов исследования, так называемой перекрестной истории и т.п. С одной стороны, некоторые авторы стремились сблизить микроисторию с постмодернистским отказом от больших нарративов, а с другой, многие классики микроистории не спешили отказываться от вписывания своих исследовательских объектов в широкие структурные контексты, как, например, К. Гинзбург, находивший истоки представлений итальянских крестьян XVI в. в индоевропейской мифологии. Хотя в книге перепечатана одна из статей Гинзбурга, Рендерс и Хаан категорически против того, чтобы отдельные личные истории использовались для больших историй. По их мнению, микроистория как способ создания показательных (exemplar) историй — тупиковый путь. Отдельная жизнь способствует расширению наших знаний о прошлом, лишь когда она не показательна, не вписывается в общий контекст, не служит поддержкой выстраиваемых исследователем структурных моделей общества.
Таким образом, сборник «Теоретические дискуссии о биографии» отличается двойственностью: с одной стороны, в нем (особенно в статье Уолтера) с гордостью отмечается влияние на биографию в ХХ в. авангардной и постмодернистской культуры; с другой стороны, Рендерс и де Хаан как составители и основные авторы настаивают на более жестком дисциплинарном отграничении научной историографии от популярных форм знания, что звучит консервативно, как и стремление доказать ценность микроистории через «фактографический фетишизм» самоценных уникальных биографий.
Как показывают рассмотренные книги, биография остается весьма спорной формой историописания, располагающейся в пограничной области признаваемого и не признаваемого профессиональным академическим сообществом, даже несмотря на успехи «новой биографической истории» в 1980—1990-е гг. В то же время критика биографии — проблематизация сложившихся с XVIII в. форм биографической репрезентации жизни — позволяет поставить вопрос не только о том, как более адекватно понимать жизнь человека добиографической эпохи, но и о том, каковы необходимые для этого современные исследовательские подходы. Критики биографии опираются на достаточно сильный корпус теорий, в который удается непротиворечиво интегрировать и Адорно, и Фуко, и Лумана, и Деррида, и Гумбрехта; защитники же, как и в 1990-е, расходятся во мнениях относительно совместимости постмодернистского и микроисторического вариантов критики структурализма, что делает их аргументацию менее сильной, но одновременно напоминает нам о том, что ряд вопросов, оставшихся от 1980—1990-х гг., все еще недостаточно продуманы.
[1] Ср.: Zimmermann C. von. Verinnerlichung der Trauer — Publizität des Leids. Gefühlskultur, Privatheit und Öffentlichkeit in Trauertexten des bürgerlichen Aufklärung // Gefühlskultur in der bürgerlichen Aufklärung / Hgg. A. Aurnhammer, D. Martin, R. Seidel. Berlin; N.Y., 2004. S. 47—74.
[2] См.: Lee H. Biography: A Very Short Introduction. Oxford, 2009.
[3] См.: Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С. 24—39.
[4] См.: Maurer M. Die Biographie des Bürgers. Lebensformen und Denkweisen in der formativen Phase des deutschen Bürgertums (1680—1815). Göttingen, 1996. S. 116.
[5] См.: Koschorke A. Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts. München, 1999.
[6] См.: Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: Чего не может передать значение. М., 2006.
[7] См.: Репина Л.П. Индивид, семья, общество: Проблема синтеза в истории частной жизни и в новой биографической истории // Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. С. 248—282.
[8] Три из них переведены на русский: Леви Дж. Биография и история // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 191—207; Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы: морфология и история. М., 2004. С. 287—320; Пелтонен М. О методологических корнях микроистории // Исторический журнал. 2001. № 2. С. 5—10.
[9] К сказанному Уолтером можно добавить, что в деконструктивистской теории 1980—1990-х гг. много внимания уделялось как раз тому, что может или должно мыслиться в его невозможности, например справедливость, дар, дружба, гостеприимство и — (авто)биография. См.: L’animal autobiographique: Autour de Jacques Derrida. P., 1999. См. также: Авто-био-графия: К вопросу о методе / Под ред. В.А. Подороги. М., 2001.