Пер. с англ. Татьяны Пирусской
Опубликовано в журнале НЛО, номер 4, 2018
Перевод Татьяна Пирусская
Катриона Келли (Оксфордский университет; профессор русского языка и культуры факультета языков Средневековья и Нового времени; MA, D.Phil. FBA)
Catriona Kelly (University of Oxford; professor of Russian, Faculty of Medieval and Modern Languages; MA, D.Phil. FBA)
catriona.kelly@new.ox.ac.uk
Ключевые слова: эпоха Брежнева, советский кинематограф, «Ленфильм», Госкино, алкоголь
Key words: Brezhnev era, Soviet cinema, Lenfilm, Goskino (USSR State Committee for Cinematography), alcohol
УДК/UDC: 77+791.43/.45+94+178.1
Аннотация: В статье анализируется деятельность студии «Ленфильм» в брежневскую эпоху — со второй половины 1960-х до начала 1980-х годов. Киностудия, считавшаяся проблемной в идеологическом отношении, находилась под пристальным вниманием партийных и государственных органов; вместе с тем претензии, которые к ней предъявлялись, носили не только идеологический, но и едва ли не чаще — финансовый характер, что отражалось на эффективности работы самой студии и оказывало ощутимое влияние на съемочный процесс. При этом сам процесс можно сравнить с запоем — как фигурально (погружение в работу до полной самоотдачи), так и вполне буквально. Автор сопоставляет отношение съемочных групп к алкоголю с изображением распития спиртных напитков на экране, а также с официальными партийными установками (антиалкогольная кампания). Двойственное изображение запоя в фильмах представляло собой не просто отражение жизни на киностудии и за ее пределами, но также отголосок и осмысление самого по себе напряженного, зато значимого творческого процесса.
Abstract: This article examines the history of the Lenfilm studio in the Brezhnev era (from the late 1960s to the early 1980s). After a variety of conflicts over films in production and removal from circulation of films already on release, the studio was considered ideologically suspect, but from the early 1970s, it was also subject to sanctions for financial mismanagement. At the same time, the creative process was always interpreted as a specific and distinctive form of production, not comparable with industrial manufacture in the normal sense. These contradictions were exemplified in the widespread interpretation of filmmaking as a kind of intoxication, whether metaphorically or in the most literal sense (cf. the evidence of alcohol use in the studio and especially on location). Alongside an exploration of film production and its links with consumption, the article examines the representational significance of alcohol in the cinema, particularly in the period after the passing of the 16 May 1972 statute on the fight with alcohol abuse. The article concludes that the anti-alcohol campaign also acted as a paradoxical incentive to the representation of drunkenness on screen, and more broadly, licensed the representation of social anomie in the cinema, which could be seen not as subversive, but as an enactment of government campaigns. It also looks at the counter-cultural importance of alcohol abuse and the ways in this facilitated a convergence of the preoccupations of so-called “official” and “unofficial” art.
«Нам очень хотелось, чтобы в нашей комедии не было сцен, связанных с пьянкой», — заявил Лев Варустин, главный редактор киностудии «Ленфильм», после закрытого просмотра фильма Виктора Трегубовича «Уходя — уходи» (ЛФ[1], 1978). «Мы знаем, что есть запрет Госкомитета, — показывать, как пьют, на экране нельзя, — ответил Трегубович. — Но праздник есть праздник, застолье есть застолье, и искать на экране выпивку в то время, как люди в праздник веселятся, и выбрасывать это из картины — это выплескивать вместе с водой ребенка»[2].
Поводом к этому диалогу послужило постановление Совета министров СССР от 16 мая 1972 года «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Этим постановлением была открыта всесоюзная кампания, в рамках которой были повышены цены на спиртное, сокращено время, когда можно купить алкоголь, и приняты меры по принудительному лечению для алкоголиков. Все области советской культуры должны были участвовать в пропаганде и агитации, призванной убедить граждан, что выпивать плохо. В плане реальной борьбы с пьянством закон потерпел сокрушительное поражение: потребление алкоголя в СССР продолжало неуклонно расти по меньшей мере до начала более решительной антиалкогольной кампании 1985—1987 годов[3]. Не намного более действенным постановление от 16 мая 1972 года оказалось и в кино: Трегубовичу удалось отстоять эпизоды с выпивкой в «Уходя — уходи». На самом деле, как мы далее увидим на примере этого фильма и двух других картин этого периода — «Беды» (ЛФ, 1977) Динары Асановой и «Отпуска в сентябре» (ЛФ, 1979) Виталия Мельникова, — антиалкогольная кампания иногда делала эпизоды распития алкоголя на экране более заметными, поскольку пьяные дебоши теперь можно обосновать как вклад в борьбу с «зеленым змием»[4].
В постановлении 1972 года подчеркивалась дисфункциональность потребления алкоголя в Советском Союзе, но причина такой приверженности этому времяпрепровождению заключалась в его высокой эффективности и социальной конструктивности как обезболивающего и стимулятора воображения[5]. Сам процесс кинопроизводства, как я собираюсь показать, можно сравнить с «запоем»: это был период «вневременья», культурной свободы, но одновременно — погружения и концентрации (ср. выражение «читать запоем»). Как я полагаю, здесь имела значение не только роль алкоголя на студии, но также — что более существенно — то, как процессы кинопроизводства интерпретировались профессионалами. Киностудии являлись промышленными предприятиями, подчинявшимися общим для всех правилам трудовой дисциплины, но обладали способностью идеологического и не в последнюю очередь эстетического воздействия, что в глазах партии, властей и специалистов отличало их от, например, текстильных фабрик. Противоречия и конфликт между этими различными функциями обострились в 1970-е годы из-за правительственной кампании, которая была направлена на повышение эффективности и оказалась столь же значима для производственного процесса, как и идеологический контроль. Режиссерам приходилось сокращать время работы над картиной и урезать расходы, из-за чего росло напряжение и укреплялась идея, что кинопромышленность — за пределами привычного временного и социального контроля.
Ярче всего этот процесс иллюстрирует история «Ленфильма» в рассматриваемый период. На «Ленфильме», второй по величине киностудии страны того времени, в год снималось вдвое меньше кинокартин, чем на «Мосфильме» (около пятнадцати полнометражных фильмов против тридцати, плюс короткометражки и телефильмы), но больше, чем на любой другой советской киностудии (в два раза больше, чем на крупнейших студиях советских республик — таких, как студия им. Довженко в Киеве или «Грузия-фильм»)[6]. После 1970 года приходилось работать еще напряженнее из-за требования выпустить 50 телефильмов в период с 1971-го по 1975 год — оно было введено, чтобы обеспечить государственную службу вещания широким ассортиментом материала, в особенности цветных картин[7]. Однако за ростом нормы выработки и числа сотрудников не последовало соизмеримых вложений в производственный инструментарий. Даже в 1982 году киностудия располагала лишь тремя камерами «Аррифлекс», соответствующими новейшим международным профессиональным стандартам, тогда как на «Мосфильме» их было девятнадцать[8]. Расположенные в неудобных помещениях технические отделы, где не хватало средств и людей, напоминали скорее декорации в духе научной фантастики начала ХХ века, нежели нечто сопоставимое с тем, чем в те годы были оснащены Голливуд, Европа и некоторые другие киностудии СССР[9]. И если режиссеры «Мосфильма» с начала 1970-х годов, как правило, имели возможность пользоваться заграничным «Кодаком», их ленфильмовским коллегам обычно приходилось довольствоваться советскими кинопленками, такими, как «Свема» и «Шосткинская», которые, как известно, были ненадежны и затягивали процесс съемки, когда выяснялось, что очередная партия материалов оказывалась бракованной[10].
Привычный ретроспективный взгляд на брежневскую эпоху, ностальгический или критический, как на период покоя, если не полной остановки, «развитого» социализма, «стабильности кадров» и, если использовать известную фразу Горбачева, как на «период застоя»[11] не вполне адекватно отражает нервную, а иногда и истеричную рабочую обстановку на «Ленфильме» в конце 1970-х, напряженность съемочного процесса, в который был вовлечен весь коллектив студии. Наблюдая этот процесс, мы видим нечто близкое к «хроническому кризису», о котором говорили опрошенные социологом Ольгой Шевченко информанты-москвичи, характеризуя не только 1990-е годы, но и свою жизнь задолго до начала перестройки [Shevchenko 2009]. Как я собираюсь продемонстрировать, кинематограф отображал черты советского общества, не предусмотренные политическими указаниями того времени об общественной значимости; он также отражал мировоззрение и чаяния самих режиссеров и не в последнюю очередь — обстоятельства зарождения кинокартин.
* * *
До сегодняшнего дня кинопроизводство в брежневскую эпоху обсуждалось в основном с точки зрения идеологического и институционального контроля кинотекстов, а также отличительных черт выпускаемых фильмов, особенно известных режиссеров[12]. «Истории студии» как таковой уделялось мало внимания; на самом деле единственная «кинофабрика» конца эпохи социализма, которой посвящена собственная аналитическая литература, — это «ДЕФА», государственная студия ГДР (см., например: [Blunk, Jungnickel 1990; Allan, Sandford 1999]), возможно, потому, что с художественной точки зрения эта кинематографическая традиция ценится относительно невысоко. Часто в фильмографиях даже не указываются названия киностудий, выпустивших тот или иной фильм, а подробный анализ того, что советские кинокритики эпохи Хрущева или Брежнева называли собственным «почерком» студии, встречается настолько редко, что его, можно сказать, не существует[13]. Разумеется, некоторая стандартизация имела место: представители власти при каждом удобном случае не уставали повторять, что картины должны выражать «идеологически-художественное» ви´дение[14]. Начиная с 1965 года практически любая кинолента о современной действительности, снятая на «Ленфильме», если она не преподносилась как комедия, на том или ином этапе сталкивалась с проблемами в процессе так называемой «фильтрации», или «редактирования»[15]. Так обстояло дело по всей стране[16]. Однако вследствие неоднозначной репутации «Ленфильма» как студии, больше других известной склонностью поощрять молодых режиссеров и поэтому идущей на значительный риск, государство и партия особенно пристально наблюдали за этой киностудией.
Процесс фильтрации подразумевал по меньшей мере двенадцать самостоятельных этапов (и намного больше, если картина была признана сомнительной)[17]. Заявки тщательно переделывались, прежде чем заказывался сценарий; так называемый «литературный сценарий» проходил по крайней мере две редакции в самой киностудии и еще две-три — в Сценарно-редакционной коллегии Госкино, до того как студия получала разрешение указать картину в своем «тематическом плане» на текущий год. После того как режиссеру поручали и разрешали сделать режиссерскую разработку, или сценарий для съемки, этот последний также тщательно прорабатывался, пока наконец фильм не появлялся в «производственном плане» на год и (после трехмесячного «подготовительного периода», т.е. стадии подготовки к производству) не начинались уже собственно съемки. Иногда материал проверялся не только в самой киностудии, но и в Госкино; готовый фильм всегда проходил подробное внутреннее рецензирование в рамках художественных советов киностудии, а затем уже в Госкино, и обычно каждый из этих этапов сопровождался внесением правок. Партийный комитет студии также мог запросить обсуждение завершенной картины и — если какой-то режиссер вызывал особое беспокойство, как это было с фильмом Киры Муратовой «Познавая белый свет» (ЛФ, 1978), — просмотр материала[18].
Кроме того, внешние партийные органы, от районного (райкома) и городского (горкома) до областного комитета партии (обкома), тоже внимательно следили за работой киностудии. Редакторы и руководители студии постоянно взаимодействовали с секретарями отделов культуры и пропаганды как горкома, так и обкома, и целый ряд секретарей обоих комитетов должны были просмотреть готовую картину, прежде чем она поступала в распоряжение Госкино[19]. Как заявил в ноябре 1964 года оператор комбинированных съемок Михаил Шамкович, чувство асимметрии власти было неодолимо и делало процесс еще более напряженным:
Нам сказали, что просмотр будет в 6 часов, но, однако, т. Лавриков занят и может картину посмотреть в 4 часа, так как он будет принимать какую-то делегацию. Мы все приехали в 4 часа, ждали 10 минут, 15 минут, 30 минут, час, никто не вышел и ничего не сказал. Я думаю, что т. Лавриков этого и не знал, потому что можно было, ведь нас пригласили, выйти, извиниться и сказать, что просмотр задерживается или его не будет, а то две съемочные группы сидят и ждут, пока будет просмотр, который начался в 6 часов.
Я беру на себя смелость сказать и вот что. Я был всего два раза в обкоме и чувствовал себя очень неприятно, и вот почему. Почему-то члены обкома сидят за барьером, из-за которого торчат только одни головы, и вы чувствуете буквально, что как будто сидят подсудимые. Передайте это вашим коллегам, товарищ Лавриков, ликвидируйте вы этот барьер (аплодисменты)[20].
Барьер, как физический, так и метафорический, сохранялся и позже, о чем красноречиво свидетельствуют воспоминания режиссеров и других сотрудников «Ленфильма» (например, бывшего директора ЛФ в начале 1980-х годов [Аксенов 2015: 74]). Процедуру решающего просмотра в самом Госкино едва ли можно назвать более обнадеживающей: предполагалось, что режиссеры должны присутствовать при обсуждении картины, а если потребуется, то и материала, а затем, если редакторы из Сценарно-редакционной коллегии оставались не удовлетворены, тут же согласиться на ряд урезаний и добавлений[21].
Отличительной чертой кинематографа по сравнению с другими исполнительскими искусствами был как раз этот усиленный контроль со стороны партии и правительственных органов. Чиновники из Смольного не вызывали артистов Кировского театра, чтобы обсуждать с ними прелести хореографии или тратить драгоценное время членов комитета в беседе о струнных квартетах[22]. Но они постоянно дышали в спину местным режиссерам, оправдывая свое беспокойство идеологической значимостью искусства кино. Неудивительно, что, когда в 1972 году у «Ленфильма» появилось собственное телеобъединение, опытные режиссеры все чаще стали переходить на съемки фильмов для телевидения, которые требовали прохождения менее чем половины указанных этапов (утверждение заявки, сценария, сценария для съемок и готового фильма в самой студии и в объединении «Экран», ответственном за государственное телевизионное производство) и были за пределами компетенции местных партийных органов, поскольку с технической точки зрения «Ленфильм» действовал лишь как исполнитель полученных от «Экрана» заказов. К тому же телевизионные фильмы гораздо лучше оплачивались, и на их съемки уходило меньше времени. Виталий Мельников, талантливый и уважаемый режиссер, первый художественный руководитель телевизионного объединения «Ленфильма», быстро избавился от опасений, будто фильмы для телевидения — второсортные: его «Старший сын» (ЛФ, 1975) пользовался не только огромной популярностью, но и значительным успехом у критики и в профессиональной среде. Эта картина показала, чего можно достичь благодаря новой коммуникативной форме. Как сетовал в 1979 году Иосиф Хейфиц, была «совершенно катастрофическая утечка мозгов <…>. Это огромная масса людей, квалифицированных мастеров, которые ушли, и из-за этого приходится работать на случайных дебютах». Мельников, чьи привязанности как главы подразделения телефильмов и одновременно признанного кинорежиссера были разделены, извиняющимся тоном ответил на это, что понимает проблему, — но что он может сделать? «Я бы начал работу в любом объединении, но у меня нет сценария, два сценария закрывает Госкино, что остается делать? Думать, чтобы продолжать работу на телевидении»[23].
Однако все фильмы брежневской эпохи, предназначались ли они для большого или для малого экрана, снимались одинаково, в промышленных масштабах. Как отметил в 1973 году Григорий Козинцев, «в генах кино — противоречие часто неразрешимо-трагическое: искусство и техника. Хуже — искусство и промышленность. Родился кентавр» [Козинцев 1984: 528]. Конечно, этот «кентавр» появился несколькими десятилетиями раньше, в 1920-е годы, когда была создана советская «кинофабрика». Но специфика брежневской эпохи усугубила «трагизм» ситуации. По мере сокращения аудитории большого экрана государственные ведомства стали все сильнее давить на студии, как и в других отраслях советской промышленности, чтобы те уменьшили производственные затраты. Одними из первых признаков изменившейся обстановки стали заседание Художественного совета Госкино 4—5 марта 1970 года, на котором председатель Госкино А.В. Романов подчеркнул важность недавнего распоряжения об экономической политике в промышленности (письмо ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резервов производства и усилении режима экономии в народном хозяйстве»), а также подведение итогов государственного бюджета СССР в 1970 году, где киноиндустрия выделялась как не в меру расточительная в использовании ресурсов, делался акцент на необходимости экономить и подвергались критике отдельные картины, превысившие бюджет[24]. 12 августа 1970 года Совет министров издал постановление о финансовом регулировании, предполагавшее более строгий контроль расходования бюджета. Одним из примеров неумеренных трат был назван фильм-опера «Ленфильма» «Князь Игорь»[25]. Когда место председателя Госкино занял Филипп Ермаш, давление возросло еще больше, а в 1975 году Ермаш приехал на «Ленфильм» со специальным визитом, чтобы разъяснить предъявляемые новым порядком требования. Начало его обращения звучало лестно:
Я бы даже сказал, что у нас в стране нет другой студии, которая бы так активно взялась на протяжении последних трех лет за разработку современной проблематики, так целеустремленно, как это делается у вас. <…> Вы своей продукцией, своими фильмами представляете культуру, образ мыслей, жизни Ленинграда. Это очень ответственно, это очень серьезно[26].
Однако остальная часть его речи состояла в основном из критики. Руководство «Ленфильма» не смогло держать под контролем своих молодых талантливых режиссеров. Например, в то время шли съемки фильма Алексея Германа «Двадцать дней без войны»:
Для меня совершенно ясно, что картина идет по руслу неудачи. И это знаю не только я. Это знают на студии давно. И вместо того, чтобы этого молодого человека остановить, поправить, заставить сделать так, как следует делать, мы все-таки идем в это плавание, а куда плывем? А это 600 тысяч рублей, а уже перерасход по этой картине 120 тысяч рублей.
О фильме Динары Асановой «Не болит голова у дятла» (ЛФ, 1974) было сказано: «Способная художница Асанова, но надо было держать ее в рамках, чтобы она делала то, что нужно». Ермаш отметил, что Иосиф Хейфиц, художественный руководитель Первого творческого объединения, красноречиво высказался о творческой стороне работы с молодыми людьми: «Но как бы он действовал, если бы он был продюсером, а не художественным руководителем объединения. У него имелась бы такая сумма денег, которую имеет объединение, но я даю полную гарантию, что он был бы другим»[27].
Словом, «продюсер» Ермаш давал понять, что говорит не о ком-то из работников студии. Наоборот, он говорил о себе — подчеркивая свое намерение внедрить в советский кинематограф новые, финансово здравые принципы. Художественные достижения, «современная проблематика» и идеологическая значимость были, конечно, нужны. Но не менее (а может быть, и более) важно было привлечь в кинематограф зрителей. Поэтому режиссеры все чаще были заняты заботами об аудиторных подсчетах, экспортных продажах и других показателях экономической эффективности. Сведения оказались неутешительными для «Ленфильма».
В 1976 году Лев Варустин предоставил данные, согласно которым «Ленфильм», вторая по величине студия в государстве после «Мосфильма», занимала лишь четвертое место среди киностудий страны по числу зрителей, причем со значительным отставанием: после «Мосфильма» с 17,7 млн шла Рижская киностудия с 17,5 млн, затем — Киностудия им. Довженко в Киеве (15,5 млн) и только после нее — «Ленфильм» с достаточно скромным показателем 12,7 млн[28]. На самом деле эта статистика была недостоверной: исключительный коммерческий успех какой-то картины в определенный год мог протолкнуть студию на необычайно высокую позицию в рейтинге, — но показателен сам по себе факт, что на статистику ссылались все чаще[29]. В 1977 году В.П. Осташевская, бывший руководитель отдела информации киностудии, отметила в своем исследовании некоторые особенно успешные картины «Ленфильма»: «Свадьба в Малиновке» Андрея Тутышкина (ЛФ, 1967), музыкальная комедия, действие которой происходит на Украине во время Гражданской войны, — ее посмотрело более 74 млн зрителей, — а также «Мертвый сезон» Саввы Кулиша (ЛФ, 1968) с почти 69 млн зрителей. Проблема заключалась в том, что наиболее успешные картины остались в прошлом: в середине — конце 1970-х лишь «Блокада» Михаила Ершова (ЛФ, 1974—1977 — 50 млн) и «Всадник без головы» (ЛФ, 1972 — 72 млн) преодолели порог в 50 млн зрителей. Аудитория таких сложных картин, которыми восхищались сами ленфильмовцы, как «В огне брода нет» (ЛФ, 1968) Глеба Панфилова, «Дневник директора школы» (ЛФ, 1975) Бориса Фрумина или «День приема по личным вопросам» (ЛФ, 1975) Соломона Шустера, была гораздо меньше (чуть больше 7 млн у первого фильма и около 10 млн у двух других)[30].
Поэтому что касается удовлетворения ожиданий Госкино, причин для беспокойства на «Ленфильме» было более чем достаточно. Тем не менее киностудия упрямо придерживалась определения «качества», которое ассоциировалось с производством фильмов, не предназначенных для массовой аудитории. Владимир Мотыль, один из наиболее успешных по зрительским показателям ленфильмовских режиссеров, считался на студии «чужим»[31]. На киностудии почти никогда не использовался термин «социалистический реализм»[32], а такие словосочетания, как «отражение действительности», понимались в смысле, радикально отличающемся от того, как они употреблялись в заявлениях правительства и партии. Так, в 1978 году художница Белла Маневич отметила: «А что касается условного и реального, то вот недавно мы смотрели вещь “Ребенок Роз-Мари” (sic!). Абсолютно условное построение и предельно реальный мир. Эти сапоги, они и условны, они и реальны»[33]. Как показывают эти слова, режиссеры с «Ленфильма» часто смотрели западные картины (причем самые разные, вплоть до «Казановы» Феллини) в процессе подготовки к съемкам. Западные фильмы демонстрировались и в Доме кино в центре города[34]. Картины Трюффо, Бергмана или Годара расширяли понятие «реализма», все чаще подразумевавшее то, что маститый режиссер Хейфиц с долей иронии назвал «социалистическим неореализмом»[35].
Как следствие, фильмы, снятые на киностудии «Ленфильм», оказались примечательным образом разнородными, при этом обладая некоей ускользающей общностью. Иногда сами режиссеры использовали выражение «Ленинградская школа»; альтернативным названием могло бы стать «ленинградская “новая волна”» — и действительно, такой подход к кино в некоторых отношениях больше сближался с чехословацким или югославским кинематографом, чем с популярными у массовой аудитории мосфильмовскими картинами, например «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) или «Служебный роман» Эльдара Рязанова (1977), которые задним числом стали ассоциироваться с «фильмами брежневской эпохи»[36]. Разумеется, содержательно сложные фильмы снимали и на других киностудиях, в том числе на «Мосфильме», но студии, для которых они становились «фирменным стилем» (еще один пример — «Грузия-фильм»), переживали все более тяжелые времена, когда «лучший фильм» стал обозначать также и «наиболее популярный»[37].
После того как Госкино запустило кампанию по повышению эффективности, случаи, когда съемки приостанавливались, когда фильмы не выходили или изымались из проката после выпуска (т.е. были, если использовать профессиональный жаргон, «положены на полку»), влекли за собой не только политическое порицание, но и финансовые санкции: студия должна была сама выплатить полную стоимость съемок, что сразу же вызывало нехватку средств и усугубляло позор. Когда новаторский военный фильм Алексея Германа «Операция “С Новым годом!”» (ЛФ, 1971) превысил бюджет на 100 тысяч рублей, прежде чем Госкино на 15 лет положило его «на полку», это обернулось немедленным финансовым кризисом: «Ленфильму» пришлось брать в долг более полумиллиона рублей, чтобы выполнить годовой план[38]. Это происшествие, в свою очередь, послужило поводом к снятию с должности тогдашнего директора Ильи Киселева, на место которого был назначен опытный партийный аппаратчик Виктор Блинов[39]. В 1978 году похожий скандал с изъятыми из проката картинами привел к смещению Блинова[40], а в 1981 году был уволен и его преемник, Василий Провоторов. Обычно эпоха Брежнева ассоциируется с «кадровой стабильностью», но едва ли так можно назвать смену четырех директоров за десять лет. И на протяжении 1970-х годов на «Ленфильме» боролись скорее не с застоем, а с вызывавшим все большее напряжение простоем — задержками производства.
Если что-то шло не так, партийные деятели обвиняли работников кино. Как отметил в 1971 году заместитель председателя Госкино Борис Павленок, режиссеры продолжали жаловаться на качество пленки. Но с задержками обстояло не лучше и у тех, кто снимал на «Кодак». Основные проблемы носили административный характер: «Ни для кого не секрет, что среди режиссеров немало импровизаторов, которые начинают обдумывать и готовить кадр не загодя, а явившись на съемочную площадку»[41].
Павленок был по-своему прав: соблазн импровизировать на съемочной площадке имел место, потому что только так режиссер мог ослабить жесткую идеологическую структуру одобренного режиссерского сценария и получить небольшую свободу действий. Но импровизация была не просто политически обусловленной тактикой. Такая стратегия была необходима для выживания. Каждую секунду что-то могло пойти не так, начиная с того, что на занимаемое студией помещение мог претендовать кто-то еще, и кончая неявкой кого-нибудь из необходимых для съемок участников актерского состава. Установка на коммерческую успешность фильма заставляла приглашать популярных актеров — в рекламных афишах и на страницах газет о них всегда говорилось намного больше, чем о режиссерах, и они были намного более узнаваемыми. Но на таких актеров был большой спрос, и часто ждать их приходилось по нескольку дней. Поэтому нужно было планировать время, подстраиваясь под них, а иногда и дважды снимать одни и те же эпизоды и затем склеивать их на завершающем этапе, чтобы на экране актеры «разговаривали» с людьми, с которыми они никогда не находились в одной комнате[42].
Особые трудности вызывали съемки вне студии, редко проходившие гладко. Термин, обозначавший съемки на местности, — «экспедиции» — предполагал поездки в Сибирь или на полярные пустоши. Он точно отражал спрос на директоров фильмов и на других администраторов в сельских местностях с плохо развитой инфраструктурой, изобилующих главным образом нехваткой всего. В больших городах были свои проблемы — в первую очередь конкуренция за недостающие гостиничные номера. Чтобы обеспечить сносное жилье и элементарный транспорт не только для техники и сотрудников, но и для различных нужд снабжения, приходилось постоянно с кем-то «договариваться», и предложение подарков и услуг превратилось в повседневную рутину. Когда после финансовой ревизии, устроенной в рамках реорганизации киностудии в 1961—1962 годах, опытному директору фильма на «Ленфильме» предъявили обвинение во взяточничестве, он пришел в недоумение. В отличие от других производственных организаций такого же масштаба и престижа, за «Ленфильмом» не было закреплено гостиницы или хотя бы общежития: приезжающие актеры должны были останавливаться в обычных гостиницах, где всегда почти все номера были забронированы. «Чтобы получить номер в гостинице, надо заводить связи с администраторами — иногда снимать в картине администратора или его дочку». Даже вошедшая в практику выплата взносов «влиятельным товарищам», утверждавшим труппы для батальных сцен, «выглядит как скрытая взятка». Во многом то же самое относилось и к транспорту[43]. Границы между допустимым и недопустимым поведением и в самом деле были неопределимы. Дела не шли лучше со временем — скорее, наоборот, хуже, поскольку местные партийные власти чаще запрещали съемки на подведомственной им территории, особенно если им казалось, что речь идет о «проблемном фильме»[44]. Часто требовались какие-то «связи», и по-прежнему обычным делом было нанимать консультантов, чтобы «откупиться» от претензий какой-либо важной организации.
Однако проблемы администраторов не заканчивались с прибытием съемочной группы на место. Часто приходилось нанимать дополнительных работников (электриков, грузчиков) по местным расценкам, а затем выяснялось, что эта сумма не соответствует представлениям контролирующих органов о разумной стоимости таких услуг — вне зависимости от условий местного рынка. Приходилось тут же искать участников массовки и вознаграждать их за работу. Надо было оберегать оборудование, костюмы и реквизит от кражи и избегать несчастных случаев[45]. На фоне всего этого бледнели обычные трудности, сопряженные со съемкой на натуре: слишком плохая погода (или слишком хорошая) и пререкания между членами съемочной группы. Лишь немногие из западных фильмов (к известным исключениям можно отнести «Фицкарральдо» Вернера Херцога и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту) снимались в условиях, которые ленинградские режиссеры считали нормальными. Кроме того, советских администраторов отличала убежденность, что решением всех проблем было дополнительное идеологическое воспитание. Когда что-то не ладилось, традиционным выходом из положения для них было обратиться в партийную организацию, которая, в свою очередь, оценивая успешность «экспедиций», исходила не столько из эстетических критериев, сколько из того, часто ли прикомандированный к группе партийный работник проводил собрания и побуждал ли он других участвовать в них[46].
Но съемочный процесс продолжал упорно сопротивляться рациональному контролю. Конторские служащие и грузчики могли работать установленные часы, но для остальных рабочий день не завершался, пока не была выполнена текущая работа. У многих сотрудников киностудии, например режиссеров, операторов, звукооператоров и старших монтажеров, в контракте был прописан ненормированный рабочий день, поэтому даже официально им не гарантировали 40-часовую рабочую неделю. Если истекали сроки, если Госкино, местные партийные органы или еще кто-то требовали внесения правок, случалось работать и по 20 часов без перерыва (монтажер Леда Семенова вспоминала, как, когда она работала с Алексеем Германом, он отвозил ее до дома после полуночи и снова заезжал за ней уже при первых проблесках рассвета[47]). Даже те, у кого формально был фиксированный график, например гримеры, не настаивали на этом, когда их просили задержаться после официального окончания рабочего дня. А что касается работников профсоюза, номинально ответственных за благосостояние сотрудников, то они закрывали глаза на такие случаи — каждый понимал, что сроки есть сроки[48].
Без запоя в смысле самозабвенного погружения в работу выжить при таком графике было бы невозможно. Но у съемочного процесса были и черты запоя как опьянения с характерным для него приподнятым настроением и беспечностью в отношении правил и времени. Хотя режиссеры были государственными служащими, в период съемок они вели ночную жизнь ленинградской богемы. Для находящихся за рамками официальной культуры поэтов «экспедиции» (например, геологические исследования отдаленных сибирских районов) давали возможность социальной и сексуальной свободы; так воспринимали их и творческие работники студии. Ленинградские режиссеры, операторы, художники, будучи государственными служащими с полноценным окладом, часто стремились к изображению действительности в том же ключе, что и «подпольные» писатели и художники. В 1968 году Илья Киселев жаловался:
Мы умудряемся выбрать хворых, ущербных людей, мы умудряемся в красивейшем городе Ленинграде, с его архитектурой, прямыми проспектами находить помойные ямы, кронштейны, которые 50 лет не ремонтировались, и разного рода сараюшки. Спрашиваешь у режиссера — что, это вызывается художественной необходимостью, правдой жизни?! <…> А в результате на многих наших картинах лежит печать мрака, печать обреченности, печать безнадежности, и зритель отвечает на это довольно активно[49].
Некоторые режиссеры стали самостоятельными фигурами в этом альтернативном мире — так, Динара Асанова изображена на выразительном фотопортрете Славы Михайлова, лишенном какого бы то ни было рекламного лоска. Ощущалась та же nostalgie de la boue, тоска по упадку, распространявшаяся на социальных маргиналов, которые шмыгали в темных дворах и рядом со свалками. Городские кадры представляли собой полную противоположность красочным открыткам для туристов. Кинооператор Дмитрий Долинин, снимая первые кадры фильма Мельникова «Мама вышла замуж» (ЛФ, 1969), начал с вида на Фонтанку сверху, но затем перевел камеру на телевизионные антенны и на женщин в нижнем белье, работающих на стройплощадке. Эти эпизоды в Госкино сочли по-настоящему скандальными — как и безыскусный, местами жаргонный язык сценария Юрия Клепикова[50]. «Киноандеграунда» как такового не существовало — «альтернативное» кино появилось лишь в середине 1980-х. Однако в ленинградском неореализме ощущалось веяние запретного[51].
Некоторые трудности съемочного процесса на «Ленфильме», да и в целом на советских киностудиях были типичны для советской промышленности в широком смысле слова, с ее медлительными интервалами простоя, за которыми часто следовала бурная спешка («штурм») в конце отчетных периодов. Но режиссерская деятельность отличалась тем, что ее «творческий» характер мог служить оправданием меняющегося темпа работы. Руководство «Ленфильма» неоднократно выговаривало режиссерам и участникам съемочных групп за то, что оно называло «неритмичностью» производственного процесса[52]. Но съемочный процесс, как постоянно настаивали режиссеры, по определению, шел в ритме стаккато, и темп производства здесь нельзя было сопоставлять ни с выплавкой чугуна, ни с сооружением турбины или ледокола: «Слушая выступление Николая Максимовича Елисеева (замдиректора ЛФ. — К.К.), мне показалось, что я пошел на какое-то собрание гвоздильной фабрики, где есть план, есть гвозди, которых нужно делать в смену миллион штук. Почему-то мы забываем, что мы все же делаем худо-бедно, но все же художественные картины», — сетовал режиссер Николай Мезенцев на партийном собрании творческих работников в 1981 году[53].
Значимость интенсивного ощущения жизни, осознание, что работа сама по себе может вызывать нечто вроде опьянения, в советской киноиндустрии в целом принимались как данность. В анонимной статье «В мастерской Феллини», опубликованной в 1967 году в журнале «Советский экран», творческий процесс характеризовался как балансирование между эйфорией и депрессией. После окончания съемок начинался наплыв негативных эмоций: «Я пробую все, чтобы избавиться от депрессии. Но весь мир кажется плоским, скучным и тупым. И в конце концов для меня только один выход опять стать счастливым — я должен уйти с головой в подготовку нового фильма» [Феллини 1967: 15]. Это состояние в точности соответствовало переходу от пьянства к похмелью, что едва ли требовало разъяснения для советских читателей Феллини. И что касается советских режиссеров, потребление алкоголя играло ключевую роль — не только как черта изображаемой действительности, но и как аспект творческого восприятия.
Не стоит даже говорить, что в процессе съемок пили много, и, конечно, не только когда они проходили на натуре. Снималось напряжение, вызванное проведением фильма через разные стадии проверки, отмечались достижения — при этом собиралась вся съемочная группа, к которой присоединялись оказавшиеся поблизости актеры. Кроме этого, разумеется, поводами для веселья были дни рождения, государственные праздники и другие подобные события (как и в других советских учреждениях и вообще в советской жизни).
Однако употребление спиртного в пределах киностудии, «алкогольные» всплески и перерывы в работе составляли лишь часть истории. Если говорить о съемочном процессе, отношение к алкоголю в более широком сообществе также имело первостепенное значение. Авторы книг по медицине высказывались однозначно: любое потребление алкоголя вредно. Но наряду с медикализацией «алкоголизма» возникали и совершенно иные ассоциации, с готовностью признаваемые даже врачами: «Эйфоризующее, растормаживающее действие алкоголя сделало его посредником, облегчающим общение людей. Обычай взаимоугощения вином и совместное потребление спиртного как символ взаимного доверия являются одними из древнейших» [Кондрашенко, Скугаревский 1983: 22] (см. схожий анализ, акцентирующий эмоциональные последствия пьянства: [Братусь, Сидоров 1984]).
Фазиль Искандер, принимавший участие в круглом столе с назидательным названием «Друг пороку, враг себе», который организовала газета «Труд», высказался против устрашающих предупреждений медиков, заметив, что запрет не принесет никакой пользы, — стоит только взглянуть на всех этих пьяных финнов в Ленинграде. «Не противопоставлять свободную пьянку сухому закону, а наметить дорогу от сухого закона к сухому вину, как путь из варяг в греки». Алкоголь играл существенную роль в выражении положительных эмоций, дружеских чувств и социальной солидарности:
Если мы встречаемся со старым школьным товарищем, с которым не виделись вечность, мы должны поднять стаканы с вином, как волшебные фонарики, выхватывающие наши лица из тьмы годов безжалостным и нежным светом <…>. И если мы с тобой на каком-то аэровокзале в нелетную погоду оказались за одним столом и я предложил тебе распить бутылку вина, то это было не что иное, как приглашение раскрыть друг другу свои души [Акопян 1969].
Приезжавшие с Запада в то время обычно расценивали желание напиться как попытку заглушить боль. Как вспоминал опытный журналист Хедрик Смит,
Они не знают меры. Если бутылка водки откупорена, значит, ее надо допить. Невозможно поставить ее обратно на полку — такое предложение, когда иностранцы его высказывают, вызывает смех у русских. Русские пьют, чтобы забыться, затопить скуку, согреться промозглыми зимами, и охотно цепляются за возможность бегства от действительности, которую дает выпивка [Smith 1976: 155].
Нечто подобное предполагает и Никита Алексеев в автобиографическом рассказе «Питерские хроники» — о том, как в начале 1970-х годов он учился на филфаке Ленинградского государственного университета:
В те времена мы о карьере не думали вообще. Да и какая тогда могла быть карьера — учитель русского или английского в глухой деревне, куда тебя загоняли по распределению. С другой стороны, вот эта-то беспросветность и безысходность автоматически переводила каждый случайно появлявшийся рубль в алкоголь. Скажем серьезно, что в 60—70-е годы пьянка была единственным развлечением в стране. И периоды безденежья, когда полностью пересыхали русла алкогольных рек, были, без преувеличения, самым тяжелым испытанием для народонаселения страны. Ну, а уж если оказывался в кармане червонец (две бутылки водки или пять бутылок портвейна по 0,7) — гуляй, рванина, от рубля и выше! [Алексеев 2006].
При этом слово «развлечение», отсылающее к чему-то, чем занимаются добровольно, ради удовольствия и в течение длительного времени, обладает гораздо более богатым потенциалом, чем слово «забвение». По воспоминаниям Льва Лосева, спиртное способствовало изменению сознания: «Водка была катализатором духовного раскрепощения, открывала дверцы в интересные подвалы подсознания, а заодно приучала не бояться — людей, властей» [Лосев 2000: 552]. Пародируя высказывание Горького о книгах, Лосев заявлял: «Всем хорошим во мне я обязан водке» [Лосев 2000: 552]. Такое восприятие выпивки как раскрепощения типично — именно потому, что пить не считалось «культурным» (а значит, и официально одобряемым) поведением, а также потому, что участие в этом времяпрепровождении было неблагонадежным и с других точек зрения (пьянство на работе являлось завуалированной кражей времени, пренебрежением установленным властями распорядком суточного цикла)[54]. Но, кроме того, алкоголь обладал статусом «изменяющего сознание» вещества, подобно психотропным препаратам, которые в тот период предпочитали многие представители «неофициального искусства» на Западе.
Статус выпивки как посредника в общении, ступени к раскрепощению и катализатора творчества имел глубокие корни. Как и предполагал Искандер, антиалкогольная кампания не способствовала распространению трезвости. Скорее наоборот, чем настойчивее становилась антиалкогольная риторика, тем больше усиливался соблазн. Запрет и злоупотребление шли рука об руку, иногда полные поэтической иронии. «Москва — Петушки», самая выдающаяся похвала творческой силе пьянства из созданных в этот период (а возможно, и в любой другой), была также историей распада. Этот гимн пьянству был впервые опубликован, как известно, в антиалкогольном журнале. Конечно, это говорит и о стремлении самого Ерофеева быть причастным к антиалкогольной кампании. Лосев в воспоминаниях поэтизирует выпивку, но писатели и художники той поры понимали, что это ловушка. Она питала не только творчество, но и отвращение к себе. В этом и состоял парадокс.
Иначе говоря, выпивка была формой того, что антрополог Майкл Херцфельд обозначил как «культурную интимность» — нечто одновременно постыдное и основополагающее для конструирования социального и, разумеется, национального самосознания [Herzfeld 1997]. Как следует из описания Трегубовича, пьянство сделало народ тем, чем он был[55]. Как можно было написать комедию без «алкогольных» сцен? Как могла какая-либо встреча обойтись без спиртного? На этой спорной территории, определяемой противоречивыми установками — требование пользы от развлечений, соответствие идеологии, точное отражение советской действительности, — распитие алкоголя едва ли могло изображаться адекватно. Оно могло восприниматься лишь как социальное зло. Но это не означало, что фильмы с подобными сценами не были открыты другим истолкованиям. Редакторы и чиновники из Госкино могли попытаться отследить такие лишние, нежелательные смыслы[56], — но в конечном счете невозможно было полностью исключить произвольные интерпретации.
На самом «Ленфильме» часто считалось, что алкоголь как социальная проблема причинял вред в первую очередь тем сотрудникам, которые «работали руками». Партийные комитеты нередко вызывали на дисциплинарные собрания, например, плотников, а иногда и операторов, но, изучая архивы за 28 лет, я не наткнулась ни на один случай, когда режиссера бы обвиняли в том, что он был навеселе на съемочной площадке[57]. Частично это можно объяснить тем, что никто из наиболее выдающихся в этом отношении личностей не состоял в партии (за счет чего они и избегали контроля; среди молодых режиссеров и актеров процент вступавших в партию вообще был низким[58]). Но действовал и двойной стандарт, как отметил в 1975 году один из работавших на киностудии режиссеров Ян Фрид. Да, пьяные шоферы представляли угрозу, но «разве за последние два года не было случая, когда не шофер, а режиссер, не плотник, а директор картины были пьяны?»[59]
Одной из причин этого двойного стандарта — помимо убежденности, что режиссеры более «культурны» и, значит, лучше могут держать себя в руках, — оставался, безусловно, распространенный взгляд на режиссерскую профессию как «творческую», а следовательно, допускающую свободную подпитку творческим «топливом». И в самом деле, когда в 1979 году одного из младших операторов студии на парткоме прорабатывали за пьянство, он подчеркнул, что не является лишь работником физического труда. Нет, у него были духовные стремления: «Мечтаю поступить в ВГИК»[60].
И все же в самих картинах избегали ассоциировать творчество с пьянством. Ленфильмовские режиссеры любили использовать прием «фильма в фильме», иногда изображая мир кино с мягкой иронией: вспыльчивые режиссеры, распекающие ассистентов, темпераментные актрисы, озабоченные кофьюрами и нарядами, не желающие исполнять свою роль дети-актеры[61]. Но одно дело — отпускать безобидные шутки по поводу претензий съемочной группы и актерского состава, и совсем другое — подрывать культурный авторитет советского деятеля искусства. Режиссеры и актеры могли (если смотреть на «Ленфильм» глазами общества) выглядеть высокомерными или слишком броско одетыми, но они были частью советской интеллигенции, и предполагалось, что другие должны на них равняться. Связь между личной биографией и идеальным социальным образом была абсолютной. Если актеру постоянно доставалась роль примерного семьянина, то именно таким и видела его публика. В фильме Владимира Шределя «Чужая» (1978) Георгий Жжёнов играл прямолинейного директора завода, с ледяным неодобрением отнесшегося к молодой женщине из мира кино из-за того, что та позволила соскользнуть закрывавшему ее полотенцу, показав грудь, когда он предложил ей снять мокрую кофточку, набравшую воды на сибирском озере во время гребли. В реальной жизни Жжёнов, возможно, повел бы себя иначе: в 1962 году, в свои 47 лет, он вступал уже в четвертый брак. Но в отсутствие желтой прессы, которая бы раскопала эти личные подробности, широкая публика не видела здесь неувязки[62].
Разумеется, актеры и другие деятели искусства также сохраняли легкий налет богемности: им сходило с рук поведение, в других сферах считавшееся недопустимым. Лишь немногие из всепроникающих любовных связей на «Ленфильме» привели к дисциплинарным взысканиям; «товарищеский суд» над мужем или женой, расстраивающими отношения, был бы встречен насмешками[63]. Однако выставлять напоказ перед советской публикой царившую на студии толерантность было бы равносильно социальному самоубийству: именно в силу того, что работники киностудии порой отдавались занятиям, считавшимся по нормам советской морали не очень приличными, они должны были в сфере искусства отличаться особенной безукоризненностью. В качестве иллюстрации можно привести вызвавший скандал сатирический портрет богемной интеллигенции в фильме Глеба Панфилова «Тема» («Мосфильм», 1979), вышедшем в прокат только при Горбачеве — в 1986 году. Типичный пьяница в кинематографе этого периода так или иначе относился к социальным маргиналам — это был молодой человек, желательно подающий надежды (чтобы обозначить возможность перемены), чья жизнь приняла дурной оборот, не из числа столичной интеллигенции, а откуда-нибудь из провинции, лучше — занимающийся физическим трудом, чтобы его нельзя было смешать с писателем, режиссером, с другими представителями творческих профессий или даже с кем-то из актеров. Что, конечно же, не исключало вероятности такого отождествления.
В кинематографе 1970-х пили много. Но если посмотреть внимательно, здесь присутствуют очевидные границы. Положительному герою позволительно было изрядно выпить за дружеским застольем или даже в мужской компании, если на горизонте брезжило какое-то важное жизненное событие. Герой любимого советского фильма на все времена — «Иронии судьбы, или С легким паром!» («Мосфильм», 1976) Эльдара Рязанова — напился до бесчувствия, отмечая в бане собственную помолвку. Даже когда герой падает с ног от выпитого, это не уменьшает благожелательного отношения к нему, учитывая, что случай исключительный. В фильме Сергея Микаэляна «Влюблен по собственному желанию» (ЛФ, 1983) мы видим молодых людей, которые увлекались чтением руководств на тему «как научиться владеть собой», но в конце концов нашли настоящую любовь, впервые встретившись в метро, когда Игорь (Олег Янковский) рухнул на плечо Вере (Евгения Глушенко), неверной походкой пьяного выбираясь из вагона. Дань «разгульной молодости» у обычно трезвого юноши воспринималась с умилением и как «норма», чего нельзя сказать о первоначальной чопорности героини фильма.
За этими рамками, обусловленными индивидуальным развитием организма или традицией, алкоголь превращался в угрозу. «Алкоголиком» с точки зрения советской морали считался не только (и даже не столько) тот, кто пил слишком много, а тот, кто пил неправильно. Цитируя известную фразу Дилана Томаса, это был «тот, кто тебе не нравится, а пьет столько же», что предполагало стоящее за осуждением острое отвращение к самому себе. Это также напоминает историю, рассказанную моими венскими друзьями об их родственнике из Сербии, который, вернувшись из Италии, заявил, что все итальянцы — алкоголики. «Почему?» — недоуменно спросили они. «Потому что они пьют сухое вино, как мы пьем сливовицу». Так и русские, которые ни за что бы не притронулись к «бормотухе» или «червивке», такой, как «Яблочное крепкое», гордились пристрастием к сухому вину и портвейну. Пить не было грешно — грешно было «пить плохо»: неправильный алкоголь, в неподходящее время и в течение недолжного количества времени[64].
Главный герой другого фильма Динары Асановой, «Беда», и его приятели действительно «пьют плохо» — иными словами, постоянно и без уважительной причины. В первых кадрах мы видим, как кто-то падает, затем нам показывают вытрезвитель, который здесь (как и в реальности) выполняет одновременно лечебную и карательную функцию. Процесс называния имен, после того как пьяные пойманы и доставлены на место, становится публичным позором. После этого мы видим, как Слава Кулигин, главный герой, навещает жену в больнице после родов. Та немедленно замечает, что он выпил. Как выясняется, это лишь один из эпизодов плачевного пути, начинавшегося с поздних возвращений к семейному ужину в пьяном виде и заканчивающегося, когда Славу арестовывают, после того как уставшая от его настойчивых требований буфетчица в местной пивной отказывается продавать ему алкоголь, — тогда Слава сам достает водку, вламываясь в запертый магазин. Когда его находят в бесчувственном состоянии, он получает тюремный приговор за кражу и вандализм.
Сюжет о том, как алкоголь толкает героя по наклонной плоскости, лежал уже в основе сценария к «Беде», как и рассказа «Встреча», который взял за основу сценарист Израиль Меттер (1909—1996). Трагическая история Славы, разрушающего свой брак и свою жизнь беспробудным пьянством, включает в себя бессмертные клише антиалкогольной мелодрамы[65]. Однако, как отметил Алексей Герман, эта история обладает несомненной художественной силой: «И тут надо всех поздравить, потому что, с одной стороны, тематически она отвечает на программу, указанную ЦК КПСС, о борьбе с пьянством, а с другой стороны, выполнена безукоризненно, прекрасно, в литературной форме. Все люди живые, поразительно написанные — эта атмосфера, эти скандалы и т.д.»[66]
Сам фильм оказался не менее убедительным. Асанова приняла эстафету работы над ним от Наума Бирмана, который уже начал съемки, но внезапно заболел[67]. Однако Асанова начала работу с нуля. Она наложила на центральную сюжетную линию отпечаток собственного ви´дения — существенно ослабив акцент на отношениях Кулигина с матерью и уделив больше внимания тому, как герой постепенно опускается (и как распадается его брак). Молодой кинооператор Анатолий Лапшов проделал большую работу для этого своего первого полнометражного фильма.
С одной стороны, медицинский термин «алкоголик» соответствует поведению Кулигина, поскольку в «Беде» композиционно выделены эпизоды медицинского лечения. Но, с другой стороны, проблема в том, что это лечение на самом деле не дает результата — как не дает его и тюрьма. Лишь когда Слава отказывается от денег, которые мать приносит ему в лагерь (и которые, если бы он их принял, разумеется, пошли бы на выпивку), намечается возможность выздоровления. Очевидно, выбор, как должны сделать вывод зрители, зависит от самого человека, так же как в «Преступлении и наказании». Но Асанова ничего не разъясняет.
События фильма также показаны большей частью с отстраненной точки зрения. В рассказе Меттера действие происходит в поселке к северу от Ленинграда, прототипом которого послужило Сосново, окруженное интеллигентскими дачами, но во многом остающееся сельской местностью в бытовом плане. Меттер вспоминал свою последнюю поездку туда на День Победы:
Насколько это народное бедствие на Руси. Я сейчас был в Сосново на празднике 8—9 мая, кажется, большего праздника для народа нет, это вылилось в такой праздник! А у нас, это характерно для Сосново, — это народное бедствие. Это такой ужас, когда вначале все хорошо одетые, торжественно идут, все в белых воротничках, в шляпах, поставленных на уши, а во что это превращается через два часа?! В вопли, крики жен, в бессмысленные песни — «Не нужен мне берег Турции…», потому что Сосново зовут Турцией. Заранее трагические глаза женщин, которые идут на праздник и знают, чем это кончится[68].
В «Беде» мы тоже слышим вопли, особенно в момент символического акта вандализма, когда Слава разбивает сервант, олицетворение домашнего порядка, в поисках выпивки, но, что самое примечательное, поглощение спиртного происходит на фоне на редкость неприглядных мест, пространственная маргинальность которых постоянно подчеркивается, что создает эффект депривации. Чего мы почти не слышим, так это голоса, диегетического или недиегитического повествования, в котором бы фигурировали такие эпитеты, как «трагический» или «страшный». Частое использование крупного плана оператором Лапшовым контрастирует с отсутствием жалости к главному герою. В итоге процесс просмотра вызывает крайне неуютные ощущения[69].
Учитывая острую проблематику и смелую композицию картины, неудивительно, что «Беда» прошла процесс утверждения не совсем гладко. Когда режиссерский сценарий Бирмана был вынесен на обсуждение в мае 1976 года, Алексей Герман позавидовал, что экранизацию рассказа Меттера поручили кому-то другому, но выразил беспокойство по поводу возможного однообразия: «Еще что сделал бы? Убрал всю выпивку, что кто-то поджучивает. Его поджучивает непрерывно, это делается утомительно, и это раздражает»[70]. Мысль, что поведение алкоголиков на экране выглядит неэстетично (что, по сути, лучше было бы снять фильм о пьянстве, не показывая в нем никакого пьянства), вновь и вновь звучала в процессе оценки кинокартины. А.С. Бессмертный, опытный редактор, обычно очень сочувственно относившийся к творческой свободе режиссеров, отметил во время обсуждения фильма внутренним парткомом студии в мае 1977 года: «В окончательном варианте слишком много материала, связанного с медвытрезвителем, сбором и сдачей винной посуды, пивным ларьком, так что его можно сократить».
«Много повторов (сдача бутылок, медвытрезвитель, пивной ларек)», — В.И. Потемкин, член горкома КПСС, в своем вердикте вторил замечаниям Бессмертного[71]. Кроме того, вызывало сопротивление то, что родные и знакомые Кулигина не помогли ему в борьбе с пьянством и что в фильме не уделялось внимания общественной поддержке, которую сотрудники советских учреждений предлагали своим коллегам в подобных прискорбных случаях. Партком потребовал от Асановой «снять однообразие в эпизодах выпивки, сократив количество одинаковых сцен, в том числе и кадры сдачи посуды», «прояснить отношения Кулигина и его жены, подчеркнув неосновательность мотива ревности», и «сильнее показать атмосферу здоровой жизни вокруг Кулигина»[72].
Госкино также посоветовало сократить количество эпизодов распития спиртного. В июле 1977 года директор киностудии Блинов и главный редактор отдела Фрижетта Гукасян от имени Асановой сообщили, что с учетом этих замечаний было сделано одиннадцать существенных сокращений. Так, значительно сократилась сцена, изображающая пьющих в буфете людей ближе к началу фильма; эпизод с тремя пьяницами у подъезда был полностью убран; исчезли кадры, где Слава пил жидкость для полировки мебели; вся сцена в вытрезвителе также была вырезана[73]. Продолжительность получившейся в результате картины — приблизительно на 10 минут короче стандартных 90 минут — свидетельствовала о следах этих сокращений. Но финальная версия «Беды» все равно производила гнетущее, отталкивающее и невыразимо мрачное впечатление. Последнее слово осталось за теми, кто настаивал, что деградация — неотъемлемая часть фильма, иначе он не будет выполнять своей функции[74]. Директор и сотрудники студии успешно сопротивлялись также настояниям Госкино и партийных чиновников, призывавших отчетливее показать реакцию общественности на пьянство. В конце концов получился пугающий фильм об одиночестве алкоголика со стажем — несмотря на то что пил Слава чаще в компании. Возможно, здесь отразился и опыт самой Асановой. Постоянно окруженная, по свидетельству очевидцев с «Ленфильма», сильно пьющими людьми, которые оказывали ей внимание и угощали, она умерла в 1984 году в возрасте всего лишь 42 лет.
Из трех рассматриваемых фильмов «Беда» обладала наиболее отчетливой антиалкогольной направленностью. Но в этой картине пьянство выглядело и наиболее оправданным. Жизнь в селе показана как невыносимо тоскливая — за исключением эпизода, где Слава и Зина в летний день резвятся на цветущем берегу озера. Лачуги присыпаны мелким снегом; рядом ковыляет народ с бутылками; в буфете мало что можно найти, кроме выпивки. Сознанию, что трезвость могла бы сделать жизнь лучше, противостоит отсутствие чего-либо, к чему стоит стремиться. Работа Зины на заводе, конечно, выглядит привлекательнее, чем тяжелый труд Славы в грязной яме, но здесь играет роль скорее принятое социальное (и гендерное) распределение труда, чем нравственные достоинства. Кроме красоты некоторых пейзажей — например, тихо плывущей по озеру лодки, — ничто не опровергает отчаяния. Чувство причинно-следственной обусловленности здесь сильнее, чем в «Астеническом синдроме» (Одесская киностудия, 1989), знаменитом фильме Киры Муратовой эпохи гласности: в конце концов, алкоголизм — патологическое состояние, причина и симптомы которого известны, а не «синдром». Но этот фильм внушает не больше оптимизма, чем фильм Муратовой. Общее впечатление от картины Бориса Фрумина «Ошибки юности» (ЛФ, 1978), производство которой Госкино приостановило, было куда менее деморализующим[75].
С другой стороны, фильм «Уходя — уходи», будучи социальной комедией, со всей определенностью давал понять, что не является порицанием советской действительности. Главный герой, Дмитрий Сулин, с выражением многострадальности на лице, — типичный затюканный комедийный персонаж. Его притесняют все — от начальника Семена Семеновича до собственной дочери-школьницы, которая первая идет в ванную и получает завтрак. Он делает на редкость бессмысленные попытки самоутвердиться — например, продавая на черном рынке сапоги жены по официальной советской цене[76]. В фильме не изображается алкоголизм: изображается распитие алкоголя как форма досуга. Распитие спиртного здесь всегда происходит в ситуации общего застолья; никто (в отличие от персонажей «Беды») не пьет в рабочее время. Сам Сулин — прежде всего недотепа, а потом уже пьяница: его интрижка с пышной Мариной завязывается после длительных возлияний в ресторане, но отправляется он туда по настоянию своего начальника, который и начинает ухаживать за Мариной и ее подругой. К тому же причиной любовной неудачи Сулина оказывается скорее неожиданное возвращение болтливого бывшего мужа Марины, чем бессилие от количества выпитого.
Фильм Трегубовича весело течет от одной фарсовой ситуации к другой. Во время просмотра, организованного для «большого» худсовета «Ленфильма», в зале стоял такой хохот, что иногда заглушал диалоги на экране[77]. Александр Иванов, опытный режиссер, был в восторге, «с огромным удовольствием слышал аплодисменты и видел улыбающиеся лица людей». Наконец можно было сказать, что «картина хороша, картина интересная, коммерческая, которая в состоянии конкурировать с американскими картинами и другими зарубежными, идущими в кинематографе и собирающими деньги у советского зрителя»[78].
Однако, несмотря на внешнюю привлекательность, фильм не обнадеживал. Сны Сулина (прием, который много критиковали в ходе обсуждения картины на киностудии) роднят его скорее с гоголевскими персонажами, нежели с героями советской литературы и кинематографа. Как и у Гоголя, здесь присутствует психосексуальный сдвиг. В начале фильма мы видим, как во время похоронной процессии «труп» внезапно оживает и заговаривает с наблюдателем. Сулин пробуждается от этого кошмарного видения — но лишь для того, чтобы обнаружить, что лежит в постели рядом с костлявой неврастеничной женой Алисой (Людмила Гурченко здесь внешне и психологически сближается с типом уездной леди Макбет, наравне с такими британскими актрисами-современницами, как Мэгги Смит и Элисон Стэдмен)[79]. Маринина постель оказывается не менее беспокойным местом: несчастный Сулин и правда нигде не знает отдыха. Внешне «безопасные» социальные ритуалы распития алкоголя на деле порождают бóльшую часть неприятностей в этом фильме: не только неудавшуюся измену Сулина, но и драку с Пашкой, мужем соседки, во время праздничного застолья, когда Сулин на несколько дней приезжает в родную сибирскую деревню. Возникающие из-за пьянства неприятности в деревне приносят еще больше вреда, хотя в целом она представляется предпочтительной альтернативой жизни главного героя в городе. Но в мире Сулина нет предпочтительной альтернативы. Необязательно, правда, пить на работе, зато начальник может заставить своего подчиненного участвовать с ним в ресторанной вакханалии: даже «свободное время» работника ему не принадлежит. Пьянство — не смертный приговор, но и не изобретательный выход из положения.
Уже на этапе обсуждения сценария А.С. Журавин, один из старших редакторов «Ленфильма», с беспокойством отметил: «Вокруг него и мы движемся от одного пьянства к другому, от ресторана к женщинам. <…> И от этого мне становится не смешно, а наоборот, я впадаю в тоску и уныние»[80]. Трегубович возразил: «Комедия комедией, а я не хочу в жесткие жанровые рамки влезать до конца», — и высказался в защиту этих эпизодов:
Что касается армии спасения, проходимости и непроходимости. Борьба с алкоголем зашла так далеко, что в жизни пьют все больше. Фальшивые сценарии мне надоели. К фальши уже привыкли, к двойному образу жизни каждый из нас уже присмотрелся. Ресторан я выкидывать не буду. От этого меньше пить не станут. Зритель придет подвыпивший, и у него не будет повода бежать после фильма в ресторан[81].
Когда художественный совет киностудии обсуждал картину, Трегубович даже выразил сомнение, что она вообще задумывалась как комедийная: «Сегодняшняя картина не снята как комедия, и я очень нервничал, когда в зале смеялись в ненужном месте»[82]. Тем не менее тогдашний директор студии Провоторов настоял на этом жанровом определении: «После выступления Виктора Ивановича нам нужно либо согласиться с ним, что это не комедия, либо принять такое решение, о котором условились. Я думаю, что мы останемся при своем решении»[83]. Таким образом, замысел Трегубовича воспользоваться элементами комической условности (муж-подкаблучник, сварливая жена, властный начальник — персонажи европейской комедии, существующие уже больше двух тысячелетий), а не быть ограниченным ими, был придавлен необходимостью «производить продукт» в указанном жанре. Повествование о принуждении и социальных ограничениях превратилось в безобидный фарс.
«Отпуск в сентябре» также во многом обыгрывает комедийные штампы. В начале фильма разбудивший главного героя Виктора Зилова телефонный звонок напоминает ему о последствиях забытого вчерашнего дебоша. В режиссерском сценарии Мельникова этот эпизод описывается так:
Квартира Зилова. Интерьер с перестройкой. День.
Общ с движ Ср Т-10 Камера движется, выхватывая детали царящего здесь беспорядка и запущенности: остатки еды, бутылки, окурки, небрежно раскиданная одежда. Хозяин спит, неловко раскинув руки, голова — рядом с подушкой: похоже, пришел человек, упал и уснул. Звонит телефон. Звонит долго. Смолкает и снова звонит. Зилов садится на тахте, где он спал, и бессмысленно оглядывается, облизывая запекшиеся губы. Продолжает звонить телефон. Зилов спускает ноги с тахты и с удивлением обнаруживает, что спал в носках. Встает, идет было к телефону, но тот смолкает, и Зилов, махнув рукой, бредет в другую сторону — на кухню.
Ср. Т-5 На кухне Зилов извлекает из холодильника бутылку пива и долго пьет. Потом он делает попытку заняться физзарядкой и несколько раз приседает с бутылкой в руке. Звонит телефон.
Общ Ср. Наезд пнр Общ Зилов возвращается в комнату, снимает трубку.
НУ? ВЫ БУДЕТЕ РАЗГОВАРИВАТЬ?
На другом конце провода хихикнули. Раздались короткие гудки[84].
На экране к этому добавилась вызывающая улыбку комическая сцена с Зиловым, мрачно извлекающим из холодильника свою кепку (зарядка, наоборот, исчезла). Эпизод представлял собой одновременно меткую зарисовку утра после попойки и пантомиму в духе немого кино. (Как вспоминает Мельников, просмотр фильмов с Чаплином составлял неотъемлемую часть подготовительной работы к съемкам каждого его фильма[85].) Знающие люди могли увидеть здесь дополнительный смысловой оттенок: сам Олег Даль, как известно, много пил и наверняка пережил не одно утро, похожее на утро Зилова[86].
По воспоминаниям Мельникова, антиалкогольный подтекст приписали фильму уже задним числом, чтобы оправдать портрет социального неудачника[87]. Это отражено также в переписке с Гостелерадио, где отчетливо фигурирует предложение подчеркнуть склонность Зилова к пьянству как один из факторов его поведения[88]. Был этап, когда картина носила явно назидательное название «Пока не поздно»[89]. Пьянство присутствовало и в пьесе «Утиная охота» Александра Вампилова, по которой снимался фильм. Но здесь несостоятельность Зилова скорее эмоциональная. В фильме он насмехается над письмом от отца, представляющим собой крайне невнятное послание; в пьесе же герой отмахивается от гораздо более конкретной отцовской просьбы. В тексте Вампилова совсем иной характер носят и его отношения с женой: она, по всей видимости, хочет остаться, и главная проблема — недостаток любви и умения хранить обязательства у самого Зилова. Также в пьесе воспоминания намного более реальны. В телеверсии это обычная ретроспектива, отличающаяся, правда, более тревожным освещением и ритмом, чем эпизоды, где мы видим Зилова в одиночестве. Это могло подразумевать противопоставление «пьяного» и «трезвого» ви´дения действительности. Разумеется, в «Отпуске в сентябре» мы видим, как спиртное постоянно фигурирует в жизни главного героя в разные моменты — от похода в ресторан, чтобы отметить получение новой квартиры, чего он ждал долгие годы, до водки, которую Зилов и его жена (она делает это неохотно) выпивают перед приходом гостей на новоселье, потом самого застолья на новоселье, а затем и финального дебоша, предшествующего исключительной силы похмелью Зилова в начале фильма и неудавшемуся самоубийству в конце.
Из трех фильмов у «Отпуска в сентябре», несомненно, самый неоднозначный финал. В «Беде» Слава дошел до той черты, когда не только оказался в трудовом лагере, но и, по-видимому, решил бросить пить. Герой «Уходя — уходи» также подлежит наказанию, хотя и в более мягкой форме обязательных работ. Но Зилов в конце пути, по-видимому, не изменился внутренне и остается безнаказанным. Он не застрелился, как попытался было, но сразу же после того, как мы видим в кадре его открытые глаза и неподвижное лицо, взгляд камеры переносится на заросший двор за домом, где трое его друзей — преданных, но, ясное дело, не эталонов нравственности — стоят и ждут, что будет дальше.
Эти три разные интерпретации пьянства и отчаяния трех очень разных режиссеров одновременно несли на себе отпечаток их стиля и сигнализировали о новой вехе в творчестве каждого из них. Трегубович открыл для себя меланхоличную комедию, в жанре которой позже снял еще несколько заметных картин. Насыщенные краски, умение подмечать неуместные детали (белые теннисные тапочки в гробу, странные для нелегального ларька книги, бигуди, торчащие из-под тщательно выбранного шарфа) и угловая композиция кадра создавали ви´дение, оригинальность которого отмечалась в ходе обсуждений на киностудии. Мельников, который до и после того ассоциировался главным образом с фильмами о воссоединении (в связи с этой темой можно отметить впечатляющую эмоциональную игру актеров в фильмах «Мама вышла замуж» и «Старший сын»), здесь решил отказаться от чувства примирения, но характерный для него и оператора Юрия Векслера прием изощренных крупных планов — особенно поражает состоящая из микроскопических движений сардоническая мимика Даля в роли Зилова — очень заметен. Снимая «Беду», Асанова отступила от присущей ее творчеству проблематики драматических картин о советских подростках, но сохранила элементы импровизации и оттенок документальности.
Тем не менее каждый из фильмов по-своему отражал знакомую советскому зрителю действительность. В них было несколько временных пластов, более благополучное прошлое сменялось сегодняшним упадком. Но везде на первом плане был именно упадок — как окончательная реальность. Везде пьянство составляло неотъемлемую часть жизни — более того, саму ткань этой жизни. Колебания ритма отражали колебания настроения: были всплески неуместного (однако терпимого) поведения, скука соперничала с истерикой. Но тут не было восхваления безрассудства, пробуждаемого выпивкой: то, что помогало герою выбраться из ямы, одновременно и держало его там.
В конечном счете «Беда», «Уходя — уходи» и «Отпуск в сентябре» оказались вехами конца эпохи. Провоторов, возглавлявший «Ленфильм» с 1978 года, не обладал никаким опытом в области культурного руководства, зато служил председателем Ленинградского областного совета профсоюзов[90]. Главный его вклад в жизнь «Ленфильма» заключался в том, чтобы удостоверяться, что отчеты о профсоюзной деятельности включаются в «Кадр» — многотиражку студии, скатившуюся до утомительной отчетности о событиях в стране и о фильмах, съемки которых были завершены[91]. Остались в прошлом статьи о картинах, находящихся в производстве (слишком рискованные, поскольку многие из них «клали на полку»), и дискуссии о задачах искусства. В 1982 году режиссер Валерий Гурьянов на партийном собрании киностудии отметил, что всегда глубоко восхищался «Ленфильмом» и его художественными традициями: работой Иванова, Хейфица, Козинцева, а также операторов Москвина, Черкасова, Толубеева. Ему доставляло удовольствие работать с коллегами по Второму творческому объединению, Панфиловым и Молдавским, он ценил эффективность руководства. Но в последние пять лет что-то пошло не так:
Это слово «нет» настолько модным стало в коллективе, что иногда все твои замыслы и творческие потенции разбиваются о нежелание многих и многих работать. Какая-то метастаза безделья поражает и захватывает новые участки и людей.
Что творится в кабинетах? Придешь, видишь — сидит девушка под шикарной афишей, то ли неудавшаяся звезда, и как низка культура этих людей, не то что стула тебе не предложат, когда поздороваешься, «добрый день» скажешь, она посмотрит на тебя, словно ты из тайги вышел. Часовые чаепития происходят, обсуждение футбольных проблем, появление пьяных на съемочной площадке, опоздания на работу на час-полтора-два — это считается нормой[92].
Конец 1960-х и бóльшую часть 1970-х годов «Ленфильму» удавалось избегать «застоя», который так часто отражают наиболее памятные картины этой эпохи. Но в конечном счете и он стал клониться к закату; жизнь подражала искусству. Наиболее успешные фильмы для большого экрана первой половины 1980-х годов — «Блондинка за углом» (ЛФ, 1984) Владимира Бортко и «Влюблен по собственному желанию» (ЛФ, 1983) Микаэляна — относятся к оптимистичным романтическим комедиям в духе «Служебного романа». В 1986 году вслед за Асановой скоропостижно скончался Илья Авербах. В 1978 году эмигрировал Фрумин; другой некогда амбициозный режиссер, Виктор Соколов, снял зрелищную, но почти лишенную драматического напряжения картину о строительстве подземной магистрали «Встретимся в метро» (ЛФ, 1985). Исторические драмы — в особенности пользовавшиеся огромным успехом фильмы Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе — теперь служили студии производственным запасом. «Ленинградская “новая волна”» иссякла.
Даже до 1978 года и назначения Провоторова в качестве «надежных рук» управление на студии отличалось «мелочной опекой». Режиссеры выживали благодаря упрямству и сопротивлению редакторским предложениям. Ни один из трех рассматриваемых режиссеров не считался «сложным» (в отличие, например, от Германа или Соколова). Но всех их было непросто переубедить. «Кулуарные упреки, что я решил спеть не своим голосом, полностью отвергаю», — отрезал Трегубович, отказываясь пересмотреть свою тактику в «Уходя — уходи»[93]. Несмотря на все настояния снять с роли матери Славы Елену Кузьмину, звезду раннего советского кино, которую считали слишком утонченной, чтобы она могла быть частью «русского народа», Асанова оставила актрису («Я верю ей на 100, на 200 процентов»[94]). У Мельникова, имевшего больше политического веса в качестве художественного руководителя объединения, были другие стратегии. Он избегал прямой конфронтации, но действовал непрямым путем, чтобы добиться того, чего хотел[95]. Как правило, это отлично срабатывало — но конкретно в данном случае такая тактика оказалась менее успешной. Парадоксальным образом, именно картину тактичного Мельникова положили «на полку» на восемь лет, в то время как фильм вспыльчивой, отличавшейся тяжелым характером Асановой пропустили в близкой к изначальному варианту форме, — а «Искусство кино» посвятило ему первую полосу. И это несмотря на то обстоятельство, что реакция на ее первый полнометражный фильм, «Не болит голова у дятла», была весьма неоднозначной: его высоко оценили в среде деятелей кино, но Госкино подвергло его критике как непрофессиональный. Вероятно, причиной такого очевидного попустительства была острая нехватка фильмов, непосредственно обращающихся к теме алкоголизма. Но «Беде», первой подобной картине в истории «Ленфильма», суждено было остаться и последней — по крайней мере пока в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз» (ЛФ, 1990) и Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (ЛФ, 1995) «алкогольная» проблематика не достигла высот сюрреалистического безумия.
Существует тенденция, в особенности в западных работах о российском кинематографе[96], говорить о кинематографе эпохи Брежнева как о несостоявшемся. Жозефина Уолл признает, что «закостенелость не пришла мгновенно», но приводит огромный список невыпущенных или сильно урезанных картин начиная даже с конца 1960-х [Woll 2000: 209]. Другие исследователи, в частности Рот-Эй [Roth-Ey 2011] и Фарадей [Faraday 2000], описывают режиссеров как людей не от мира сего, неспособных дать публике то, чего она, оказывается, хотела, — умело склеенных, динамичных, доступных фильмов вроде тех, которые снимали американские режиссеры. Однако представляется неоправданным проецировать задним числом совершенно иную обстановку 1990—2000-х — когда монополистическая система государственного проката сменилась нацеленной на прибыль коммерческой системой — на 1960-е, 1970-е и 1980-е годы. Существующее в США разделение между коммерческими киноконцернами-гигантами и маленькими независимыми артхаусными студиями — не единственная возможная модель живой и многообразной киноиндустрии. В странах Западной Европы финансовая поддержка государственных и общественных учреждений (таких, как телевещательные ассоциации) успешно продвигала и продвигает артхаусное кино в разных обстоятельствах — от Министерства информации Великобритании во Второй мировой войне до недавних государственных инициатив в Ирландии[97]. «Государственный кинематограф» — необязательно «второсортный»; также не является аксиомой, что правительство априори будет субсидировать наивные и неактуальные художественные фильмы. В Советском Союзе проблема с государственным финансированием была в том, что ему сопутствовало сильное политическое и экономическое вмешательство. Вероятно, целостность советского кинематографа была подорвана также нежеланием государства в 1970-е годы увеличивать финансирование, хотя требования к производству оставались в силе, и это касалось как «мелочной опеки» бюджетного контроля, так и критериев соответствия «идеологической и художественной правде».
Так или иначе, технические проблемы и ограниченность в средствах раздражали работников кино еще больше, чем вмешательство редакторов и бюрократов. Последних можно было ввести в заблуждение, с ними можно было договориться, но первые оставались неумолимыми. И все-таки ветераны «Ленфильма» вполне обоснованно указывают на то, что коммерческие продюсеры постсоветского периода вмешиваются в художественные вопросы с не меньшей готовностью, чем их предшественники, и еще более склонны ссылаться на мнение публики как критерий редакторской оценки. Кроме того, люди, снимавшие кино в брежневскую эпоху, сегодня вспоминают не только борьбу, но и маленькие победы, потому что они находили способы создавать серьезное искусство ограниченными средствами. Они называют это «через преодоление». Технику настраивали так, чтобы она работала; пленку проявляли так, чтобы добиться желаемого эффекта; в отделах, ответственных за костюмы, реквизит и освещение, проявляли чудеса изобретательности. И самоограничение — вынужденная бедность — могло стать главным художественным принципом. Ленинградские режиссеры, хотя и никогда не поддерживали «искусство несовершенства» как таковое [Rutten 2016] (это означало бы для них принести в жертву «профессиональные стандарты», соответствие которым давалось им с таким трудом), делали все возможное, чтобы создать индивидуальное искусство с помощью доступных им ресурсов. Блеклые, выцветшие краски использовались для передачи меланхоличного, тоскливого настроения; тщательно продуманные мизансцены и кадровые композиции компенсировали зернистую текстуру заднего плана. Они на свой лад работали в той же сдержанной манере, которая была присуща французскому «новому роману» и позднему модернистскому кинематографу в Европе[98].
Даже картины, снятые в рамках официальных кампаний, таких, как пропаганда трезвости в 1972 году, могли представлять собой нечто большее, чем программные отклики на нужды «социального заказа» брежневской эпохи. Каждый из этих фильмов — «Беда», «Отпуск в сентябре» и «Уходя — уходи» — внес вклад в солидную и уникальную традицию социально-критического кино, которая начала вновь обретать актуальность в 2000—2010-х годах[99]. Но у этих картин был также скрытый метакинематографический подтекст: в них отразился мир киностудии, повседневные действия, оставшиеся за рамками публичных высказываний о ведущей социальной роли деятелей искусства[100]. Двойственное изображение запоя в этих фильмах представляло собой не просто отражение жизни на киностудии и за ее пределами, но, что не менее важно, отголосок и осмысление самого по себе напряженного, зато значимого творческого процесса[101].
Пер. с англ. Татьяны Пирусской
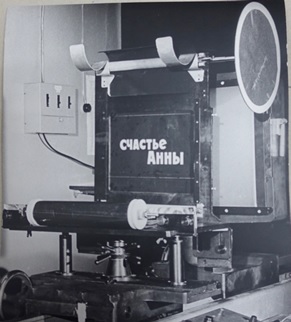
Монтажный цех киностудии «Ленфильм» (около 1969 года) (архив «Ленфильма») [102]

Рабочий момент из фильма «Беда» (режиссер Динара Асанова. «Ленфильм», 1977) (Архив «Ленфильма»)

Кадр из фильма «Беда» (режиссер Динара Асанова. «Ленфильм», 1977)

Кадр из фильма «Беда» (режиссер Динара Асанова. «Ленфильм», 1977)

Рабочий момент из фильма «Уходя — уходи» (режиссер Виктор Трегубович. «Ленфильм», 1978) (Архив «Ленфильма»)

Кадр из фильма «Уходя — уходи» (режиссер Виктор Трегубович. «Ленфильм», 1978)

Кадр из фильма «Отпуск в сентябре» (режиссер Виталий Мельников. «Ленфильм», 1979)

Кадр из фильма «Отпуск в сентябре» (режиссер Виталий Мельников. «Ленфильм», 1979)
Библиография / References
[Акопян 1969] — Акопян К. Друг пороку, враг себе // Труд. 1969. 7 декабря.
(Akopyan K. Drug poroku, vrag sebe // Trud. 1969. December 7.)
[Аксенов 2015] — Аксенов В. Как стать директором Ленфильма. СПб.: Петрополис, 2015.
(Aksenov V. Kak stat’ direktorom Lenfil’ma. Saint Petersburg, 2015.)
[Алексеев 2006] — Алексеев Н. Питерские хроники // Звезда. 2006. № 12 (magazines.russ.ru/zvezda/2006/12/al5.html (дата обращения: 26.06.2018)).
(Alekseev N. Piterskie khroniki // Zvezda. 2006. № 12 (magazines.russ.ru/zvezda/2006/12/al5.html (accessed: 26.06.2018)).)
[Аркус 2004] — Новейшая история российского кино, 1986—2000: В 7 т. / Сост. Л. Аркус. СПб.: Сеанс, 2004.
(Noveyshaya istoriya rossiyskogo kino, 1986—2000: In 7 vols. / Ed. by L. Arkus. Saint Petersburg, 2004.)
[Братусь, Сидоров 1984] — Братусь В.С., Сидоров П.И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. М.: МГУ, 1984.
(Bratus’ V.S., Sidorov P.I. Psikhologiya, klinika i profilaktika rannego alkogolizma. Moscow, 1984.)
[Булгакова 2005] — Булгакова О. Фабрика жестов. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
(Bulgakova O. Fabrika zhestov. Moscow, 2005.)
[Булгакова 2010] — Булгакова О. Советский слухоглаз. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
(Bulgakova O. Sovetskiy slukhoglaz. Moscow, 2010.)
[Власов 1979] — Власов М. Почерк студии // Искусство кино. 1979. № 2. С. 29—43.
(Vlasov M. Pocherk studii // Iskusstvo kino. 1979. № 2. P. 29—43.)
[Довлатов 1986] — Довлатов С. Чемодан. Тенафли, Нью-Джерси: Эрмитаж, 1986 (www.sergeidovlatov.com/books/chemodan.html (дата обращения: 26.06.2018)).
(Dovlatov S. Chemodan. Tenafly, N.J., 1986 (www.sergeidovlatov.com/books/chemodan.html (accessed: 26.06.2018)).)
[Долинин 1977] — Долинин Д. Дебют — удачен // Кадр. 1977. 22 декабря.
(Dolinin D. Debyut — udachen // Kadr. 1977. December 22.)
[Козинцев 1984] — Козинцев Г. Записи из рабочих тетрадей. 1940—1973 // Козинцев Г. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. М.: Искусство, 1984.
(Kozintsev G. Zapisi iz rabochikh tetradey. 1940—1973 // Kozintsev G. Sobranie sochineniy: In 5 vols. Vol. 4. Moscow, 1984.)
[Кондрашенко, Скугаревский 1983] — Кондрашенко В.Т., Скугаревский А.Ф. Алкоголизм. Минск: Беларусь, 1983.
(Kondrashenko V.T., Skugarevskiy A.F. Alkogolizm. Minsk, 1983.)
[Лосев 2000] — Лосев Л. Собранное. Екатеринбург: У-Фактория, 2000.
(Losev L. Sobrannoe. Yekaterinburg, 2000.)
[Мельников 2011] — Мельников В. Жизнь. Кино. СПб.: БХВ-Петербург, 2011.
(Mel’nikov V. Zhizn’. Kino. Saint Petersburg, 2011.)
[Микаэлян 1989] — Микаэлян С. Влюблен по собственному желанию. М.: Киноцентр, 1989.
(Mikaelyan S. Vlyublen po sobstvennomu zhelaniyu. Moscow, 1989.)
[Орлов 2011] — Орлов Д. Реплика в зал: Записки действующего лица. М.: Новая элита, 2011 (samlib.ru/o/orlow_dalx_konstantinowich/replikawzalzapiskidejstwujushegolica-1.shtml (дата обращения: 26.06.2018)).
(Orlov D. Replika v zal: Zapiski deystvuyushchego litsa. Moscow, 2011 (samlib.ru/o/orlow_dalx_konstantinowich/replikawzalzapiskidejstwuju
shegolica-1.shtml (accessed: 26.06.2018)).)
[Раззаков 2008а] — Раззаков Ф. Гибель советского кино: Интриги и споры, 1918—1972. М.: Эксмо, 2008.
(Razzakov F. Gibel’ sovetskogo kino: Intrigi i spory, 1918—1972. Moscow, 2008.)
[Раззаков 2008б] — Раззаков Ф. Гибель советского кино: Тайны закулисной войны, 1973—1991. М.: Эксмо, 2008.
(Razzakov F. Gibel’ sovetskogo kino: Tayny zakulisnoy voyny, 1973—1991. Moscow, 2008.)
[Стишова 1987] — Стишова Е. Ленинградский почерк: Субъективные заметки о «ленинградской школе» // Кино. 1987. № 3. С. 127.
(Stishova E. Leningradskiy pocherk: Sub”ektivnye zametki o «leningradskoy shkole» // Kino. 1987. № 3. P. 127.)
[Феллини 1967] — В мастерской Феллини // Советский экран. 1967. № 8. С. 14—15.
(V masterskoy Fellini // Sovetskiy ekran. 1967. № 8. P. 14—15.)
[Фомин 1992] — Полка: Документы. Свидетельства. Комментарии / Под ред. В.И. Фомина. Вып. 1. М.: Научно-исследовательский институт киноискусства, 1992.
(Polka: Dokumenty. Svidetel’stva. Kommentarii / Ed. by V.I. Fomin. Vol. 1. Moscow, 1992.)
[Фомин 1998] — Кинематограф оттепели: Документы и свидетельства / Под ред. В.И. Фомина. М.: Материк, 1998.
(Kinematograf ottepeli: Dokumenty i svidetel’stva / Ed. by V.I. Fomin. Moscow, 1998.)
[Ямпольский 2008] — Ямпольский М. Кира Муратова: Опыт киноантропологии. СПб.: Сеанс, 2008.(Iampolski M. Kira Muratova: Opyt kinoantropologii. Saint Petersburg, 2008.)
[Allan, Sandford 1999] — DEFA: East German Cinema, 1946—1992 / Ed. by S. Allan and J. Sandford. New York: Berghahn, 1999.
[Bacon, Sandle 2002] — Brezhnev Reconsidered / Ed. by E. Bacon and M.A. Sandle. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.
[Bartha 2014] — Bartha N.A. Christine Brooke-Rose: The Chameleonic Text between Self-Reflexivity and Narrative Experiment. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
[Blunk, Jungnickel 1990] — Filmland DDR: Ein Reader zu Geschichte, Funktion und Wirkung der DEFA / Hg. von H. Blunk und D. Jungnickel. Köln: Berend von Nottbeck, 1990.
[Cassiday 2002] — Cassiday J. Alcohol Is Our Enemy! Soviet Temperance Melodramas of the 1920s // Imitations of Life: Two Centuries of Melodrama in Russia / Ed. by L. McReynolds and J. Neuberger. Durham: Duke University Press, 2002. P. 152—177.
[Cavendish 2013] — Cavendish Ph. The Man with a Movie Camera: The Poetics of Visual Style in Soviet Avant-Garde Cinema of the 1920s. Oxford: Berghahn Books, 2013.
[Chapman 1998] — Chapman J. The British at War: Cinema, State and Propaganda, 1939—1945. London: I.B. Tauris, 1998.
[De Garine, De Garine 2001] — De Garine I., De Garine V. Drinking: Anthropological Approaches. New York: Berghahn Books, 2001.
[Douglas 1983] — Douglas M. Constructive Drinking: Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
[Faraday 2000] — Faraday G. Revolt of the Filmmakers: The Struggle for Artistic Autonomy and the Fall of the Soviet Film Industry. University Park, Pa.: Pennsylvania University Press, 2000.
[Godet 2010] — Godet M. Le pellicule et les ciseaux: La censure dans le cinéma soviétique du Dégel à la perestroïka. Paris: CNRS, 2010.
[Golovskoy, Rimberg 1986] — Golovskoy V.S., Rimberg J. Behind the Soviet Screen: The Motion-Picture Industry in the USSR, 1977—1982. Ann Arbor: Ardis, 1986.
[Herzfeld 1997] — Herzfeld M. Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. New York; London: Routledge, 1997.
[Kaganovsky 2013] — Kaganovsky L. Postmemory, Countermemory: Soviet Cinema of the 1960s // The Soviet Sixties / Ed. by A.E. Gorsuch and D.P. Koenker. Bloomington: Indiana University Press, 2013. P. 235—250.
[Manning 2012] — Manning P. The Semiotics of Drinking. New York: Continuum International Publishing Group, 2012.
[Murphy 2000] — Murphy R. British Cinema and the Second World War. London: Continuum, 2000.
[Pesmen 2000] — Pesmen D. Russia and Soul: An Exploration. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2000.
[Prokhorov, Prokhorova 2017] — Prokhorov A., Prokhorova E. Film and Television Genres of the Late Soviet Era. New York; London: Bloomsbury, 2017.
[Roth-Ey 2011] — Roth-Ey K. Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the Media Empire That Lost the Cold War. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2011.
[Rutten 2016] — Rutten E. Rags and Ruins: Nine Russian Creative Projects that Celebrate the “Poor” and the Imperfect // The Calvert Journal. 2016. March 8 (www.calvertjournal.com/articles/show/5502/creatives-russia-imperfection-scrap-aesthetics-mikhailov (accessed / дата обращения: 26.06.2018)).
[Sherry 2015] — Sherry S. Discourses of Regulation and Resistance: Censoring Translation in the Stalin and Khrushchev Era Soviet Union. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
[Shevchenko 2009] — Shevchenko O. Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow. Bloomington: Indiana University Press, 2009.
[Smith 1976] — Smith H. The Russians. London: Sphere Books, 1976.
[Steimatsky 2008] — Steimatsky N. Italian Locations: Reinhabiting the Past in Postwar Cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
[Wagstaff 2007] — Wagstaff Ch. Italian Neorealist Cinema: An Aesthetic Approach. Toronto: University of Toronto Press, 2007.
[White 1996] — White S. Russia Goes Dry: Alcohol, State and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
[Wilson 2005] — Drinking Cultures: Alcohol and Identity / Ed. by Th.M. Wilson. Oxford: Berg, 2005.
[Woll 2000] — Woll J. Real Images: Soviet Cinema and the Thaw. London: I.B. Tauris, 2000.
[Zvonkine 2012] — Zvonkine E. Kira Mouratova: Un cinéma de la dissonance. Lausanne: Age d’Homme, 2012.
Заниматься исследованиями для проекта, на котором основана эта статья, — «Советский “киноандеграунд”: “Ленфильм”, 1961—1985» — я получила возможность благодаря гранту Исследовательского совета по искусствам и гуманитарным наукам (AHRC, UK). Я благодарю за поддержку совет, Нью-колледж Оксфордского университета и Фонд Джона Фелла (Оксфордский университет). Также мне хотелось бы выразить благодарность многим бывшим и ныне работающим сотрудникам «Ленфильма», великодушно согласившимся потратить время и рассказать о работе на киностудии в конце советской эпохи. Особую благодарность приношу руководителю отдела информации и зарубежных связей киностудии «Ленфильм» О.В. Аграфениной и Александру Позднякову за ценную помощь с материалами архива студии. Я признательна Марине Самсоновой, которая помогла взять некоторые интервью, Ольге Смоляк, которая собирала материалы в РГАЛИ, участникам семинара Центра Джордана (Нью-Йоркский университет), в особенности Янни Коцонису, Элиоту Боренштейну, Брюсу Гранту и Энн Лаунсбери, а также участникам конференции «Период застоя? Эпоха Брежнева 35 лет спустя», состоявшейся 23—24 сентября 2016 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге.
[1] Здесь и далее ЛФ = «Ленфильм».
[2] Стенограмма Художественного совета киностудии «Ленфильм», 1 декабря 1978 года // ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 31. Д. 12. Л. 210 (Варустин), 211 (Трегубович). Поскольку в архивных фондах «Ленфильма» хранятся неисправленные машинописные тексты, в статье я, не делая дополнительных оговорок, исправляла очевидные опечатки и по умолчанию ориентировалась на рукописные правки в печатном варианте (например, в данном случае «что» исправлено на «чтобы»).
[3] См. график: trezvost-kharkov.narod.ru/biblio/drozdov/trezvost_demogr.htm (дата обращения: 26.06.2018). На самом деле снижение потребления алкоголя с 1985 года также сомнительно: цифры, скорее всего, отражают легальное приобретение алкоголя, а не его потребление в целом (которое росло за счет домашнего самогона, чье употребление оказалось достаточно масштабным, чтобы вызвать дефицит сахара). О недостатках этой кампании см.: [White 1996].
[4] В 1970 году кинорежиссер М. Ершов заметил, что председатель Госкино А.В. Романов уже выражал обеспокоенность по поводу эпизодов выпивки на экране. Ершов возразил от себя: «Но ведь пьют же люди» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 104. Л. 79).
[5] Социальной значимости распития алкоголя посвящено большое количество работ, в особенности написанных антропологами. См., например: [Douglas 1983; De Garine, De Garine 2001; Wilson 2005; Manning 2012].
[6] Наряду с «перспективными планами» студии источником информации об относительной производительности служит статистика проката: см. данные за 1970 год (РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 1. Ед. хр. 799a. Л. 319—335).
[7] Там же. Ед. хр. 716. Л. 10.
[8] ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 259. Л. 5.
[9] Указания на проблемы с оборудованием весьма часто встречаются в архивных записях. См., например, сообщения об отсутствии на месте натурных съемок операторской тележки (Там же. Д. 46. Л. 2 (1962)); о том, что камера не фокусируется (Там же. Д. 57 (1963)); о трудностях с восточногерманской аппаратурой «ДЕФА» для проявления пленки («Мы не думали, что из ГДР нам пришлют такое барахло» (Там же. Д. 58. Л. 13 (1963); ср.: Там же. Д. 70. Л. 32); о нехватке материала в отделе костюмов (Там же. Д. 75. Л. 5 (1966)). К концу 1971 года даже в Комитете по кинематографии при Министерстве культуры признавали острую необходимость технических нововведений (см.: «О техническом перевооружении киностудии “ЛФ”», 31 декабря 1971 года (ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 21. Д. 443. Л. 130—132)), но работа в этом направлении продвигалась в лучшем случае постепенно (в приведенном примере речь идет о расширении возможностей студии перезаписи). В этом существенное отличие от раннесоветского периода, когда, как отмечает Филип Кавендиш в ценной работе об истории профессии кинооператора, качественное оборудование для киносъемок было более доступным [Cavendish 2013].
[10] Даже в конце 1980-х «Ленфильм» по-прежнему не располагал возможностями проявления пленки зарубежного производства (в 1987 году руководство планировало обеспечить эти возможности в течение двух лет): ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 280. Л. 169. О трудностях с поставкой пленки можно найти огромное количество материалов начиная с середины 1960-х годов; см., например: Там же. Д. 69. Л. 136, 139 (1965); Д. 118. Л. 27 (1972); Д. 203. Л. 42 (1978) и т.д.
[11] Употребление Горбачевым этого выражения на XXVII съезде КПСС в 1986 году является, по-видимому, первым применением к советской действительности слова, традиционно использовавшегося по отношению к наследственной болезни капиталистической экономической системы. О том, насколько такое обозначение соответствовало реальности, см., например: [Bacon, Sandle 2002], а также предисловие к нашей подборке статей.
[12] Например, Кристин Рот-Эй [Roth-Ey 2011] и Джорджа Фарадея [Faraday 2000] интересует прежде всего институциональный контекст, тогда как в фокусе исследований Михаила Ямпольского [Ямпольский 2008] или Евгении Звонкиной [Zvonkine 2012] находятся конкретные кинотексты, в данном случае — с точки зрения творчества определенного режиссера (Киры Муратовой). Интересные работы Оксаны Булгаковой на тему трансформации языка кино [Bulgakova 2005; 2010] посвящены в основном периоду до середины 1960-х. О кино конца 1960-х годов как средстве выражения «травматической памяти» см.: [Kaganovsky 2013]. В исследовании вопросов жанра А. и Е. Прохоровых [Prokhorov, Prokhorova 2017] глубоко анализируется работа Госкино и киножурналов, но студийная история и технические вопросы в рамки анализа не входят. Авторитетная «Новейшая история российского кино, 1986—2000» под редакцией Любови Аркус [Аркус 2004] является на сегодняшний день наиболее полным источником сведений о кинематографе брежневской эпохи, но материал, касающийся истории предприятий, как правило, заимствуется из мемуаров или устных рассказов. У меня еще будет случай отметить здесь, что такие источники чрезвычайно полезны, однако к ним следует относиться с осторожностью в силу скрытого или даже вполне явного стремления авторов или рассказчиков представить себя независимыми личностями, чуждыми пустой идеологии и мелочным компромиссам того времени.
[13] Слово «почерк» использовалось чаще всего для характеристики индивидуального стиля режиссеров, но можно встретить его и в применении к студиям. См., например: [Власов 1979] (о рижских студиях) и статью о Киностудии им. Горького в том же выпуске журнала «Искусство кино», а также более позднюю заметку [Стишова 1987], которая, однако, имеет очень общий характер («…нонконформизм в годы, когда объективные обстоятельства склоняли к соглашательству…»).
[14] См.: [Фомин 1998]. Этот важный источник захватывает лишь первые годы брежневской эпохи, но уже здесь мы находим свидетельства ужесточающегося контроля. См., например, материал от 1967 года: [Фомин 1998: 89—94, 142—174].
[15] Я предпочла эти термины «цензуре», потому что на языке самих ленфильмовцев «цензура» означала, например, отправку съемочного сценария на проверку в Горлит (контролировавший печатную продукцию), перед тем как раздать его актерам и членам съемочной группы. Взаимодействие с Госкино обычно не рассматривалось как «цензура» (хотя, несомненно, со стороны они мало чем различались). О проницаемости границы между редактированием и цензурой в сфере литературы см. недавнюю интересную работу: [Sherry 2015]. Ср. замечания Дмитрия Молдавского, главного редактора Второго творческого объединения, что процесс редактирования призван был помогать режиссерам, но также и направлять их: «Редактор — дружеский советчик и в то же время идеолог картины <…>. Все редактора активно интересуются, что сделано на картине, что предстоит делать. Мы следим за ходом съемок, чтобы не было спрятано материала в картине» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 161. Л. 8).
[16] Об усилении цензуры при Брежневе см., например: [Фомин 1992; Woll 2000; Godet 2010].
[17] Читатели спокойно могут пропустить это подробное изложение, однако описания, которые попадались мне в большинстве источников, неопределенны или неточны в том или ином отношении, — хотя следует оговорить, что эта процедура не повторялась постоянно от фильма к фильму.
[18] Судя по изученным мной материалам за 1960—1985 годы (около 40 000 страниц), партийный комитет не регулярно проверял снимавшиеся на студии картины, а каждый год запрашивал для просмотра несколько фильмов, требовавших решения конкретных идеологических вопросов (оргвопросов), таких, как неправильное распределение средств или конфликты среди участников съемочной группы.
[19] Есть мнение, что ленинградцев партия особенно обременяла своим контролем [Golovskoy, Rimberg 1986: 18—19].
[20] ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 63. Л. 170—171.
[21] Об этом процессе см., например: РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 42. Ед. хр. 2693. Л. 44 («Не болит голова у дятла», 21 ноября 1974); Там же. Оп. 4. Ед. хр. 3866. Л. 23—24 («Вторая попытка Виктора Крохина», письмо о предлагаемых поправках за подписями И. Шешукова, В. Блинова, Л. Варустина, Д. Молдавского, без даты, но, по видимости, 22 марта 1978 года, — на л. 25—26 следует «Заключение Главной сценарно-редакционной коллегии на материал художественного фильма “Вторая попытка Виктора Крохина”» с аналогичным содержанием от 22.03.1978). Частичную публикацию письма Шешукова и др. см. в: [Фомин 1992: 157], с неправильной датой — 22 октября 1978 года — и рассуждением: «Режиссер постоянно наготове с исправлениями. Загодя, еще до того, как фильм обсудили на коллегии, автор картины предлагал список поправок, которые он собирается внести в картину». На самом деле документ начинается так: «Дирекция киностудии Ленфильма, главная редакция и II-е творческое объединение, обсудив совместно с режиссером И. Шешуковым замечания, высказанные на обсуждении картины “Вторая попытка Виктора Крохина” в Госкино СССР, предлагает план поправок, который на наш взгляд уточняет концепцию фильма» (курсив мой. — К.К.).
[22] Например, за 1971 год, судя по рассекреченным протоколам заседаний бюро обкома КПСС, Кировский театр обсуждался только в связи с проступком одного из музыкантов, нелегально привезшего из Ирана 14 золотых монет (ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 143. Д. 14. Л. 162; ср.: Д. 18; 20). На самом деле, когда речь шла о балете и даже о театре, поддерживать идеологический контроль партийным чиновникам представлялось по меньшей мере затруднительным. «Актеры — своеобразный народ, добавлю — стеснительный народ. Два-три слова иногда не могут сами сказать», — отметил В.И. Осипов, заместитель секретаря парткома в Театре музыкальной комедии. «У балерин и оперных актеров тоже есть своя специфика» (Стенограмма совещания пропагандистов и заместителей секретарей партийных организаций учреждений литературы и искусства г. Ленинграда по теме: «О перспективах совершенствования партийного образования творческой интеллигенции». 18 ноября 1971 г. (Там же. Оп. 145. Д. 12. Л. 15)).
[23] Заседание президиума Художественного совета студии, 9 января 1979 года (ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 31. Д. 312. Л. 386—387).
[24] РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 1. Ед. хр. 700a. Л. 36.
[25] Постановление СМ СССР об усилении контроля за расходованием киностудиями государственных средств на постановку кинофильмов, 12 августа 1970 г. // Там же. Ед. хр. 705. Л. 2—4.
[26] Протокол отчетно-выборного собрания, 29 октября 1975 года // ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 159. Л. 123.
[27] Там же. Л. 127. Незадолго до смерти в 2002 году в интервью для «Новейшей истории отечественного кино, 1986—2000» Ермаш снова подчеркивал неумение режиссеров распоряжаться бюджетом: «Значит, перестройка началась с того, что режиссеры решили, что они пуп земли, они могут все, они знают все, а на самом деле они ничего не знали. Они не знали даже, откуда деньги берутся, откуда эти деньги, которые им дают на фильм!» (Запись неопубликованного интервью // Архив журнала «Сеанс»). Благодарю Любовь Аркус и ее коллег из «Сеанса» за предоставление доступа к этому материалу.
[28] Партийное собрание творческих работников, 27 мая 1976 года // ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 178. Л. 67.
[29] Западные исследователи, такие, как Рот-Эй [Roth-Ey 2011] или Фарадей [Faraday 2000], склонны подчеркивать абстрактный характер бюджетов в Советском Союзе. Рот-Эй, например, говорит о финансовой непрозрачности как о «вопросе политики, а не просто некомпетентности» [Roth-Ey 2011: 48—49]. Однако отношения Госкино с киностудиями в этот период показывают, что оно проявляло большой интерес к деталям распределения средств: «непрозрачность» была избирательной.
[30] Осташевская В.П. Ленфильм и зритель // ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 191. Л. 43—79.
[31] Ср. высказывание Михаила Ершова в 1977 году: «Мы сейчас приглашаем со стороны режиссеров. Например, Мотыль, Самшиев (т.е. Болотбек Шамшиев. — К.К.) — это талантливые люди, но безответственные. Надо искать среди молодых смену режиссуры, а эти пришли и ушли» (Там же. Д. 188. Л. 187).
[32] Исключение составляла речь главы Госкино (председателя Комитета по кинематографии СМ СССР) Романова, который, посетив киностудию 10 мая 1967 года, в ходе собрания парторганизации художественно-производственных работников напомнил: «Горький когда-то говорил, что “социалистический реализм — есть отражение реальности социализма”» (Там же. Д. 84. Л. 67). Но подобная риторика была несвойственна внутренним обсуждениям.
[33] Обсуждение литературного сценария «Уходя — уходи», заседание Художественного совета Первого творческого объединения, 22 марта 1978 года // ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 36. Д. 32. Л. 281. Маневич, разумеется, имеет в виду фильм Романа Полански 1968 года. Режиссеры (и вся съемочная группа) часто смотрели значимые западные картины в качестве элемента «подготовительной работы», предпочитая европейское кино, но включая также американский артхаус (например, съемочная группа, работавшая над фильмом Фрумина «Ошибки юности», смотрела «В порту» и «Таксист»).
[34] Забавно, но группа, просившая просмотра «Казановы» Феллини, работала над картиной Хейфица «Впервые замужем» (1979), хотя формальное обоснование этого запроса трудно назвать объективно убедительным: «Учитывая жанр и особенности этого фильма, его бытовую специфику, а также определенные задачи операторского мастерства» (Там же. Д. 30. Л. 173). Однако список фильмов, просмотренных этой группой, — включая, например, такие, как «Отец-хозяин», «Джулия» и «Рокки», — свидетельствует скорее о стремлении быть в курсе новейших заметных западных фильмов, чем проникнуться материалом, на самом деле созвучным картине Хейфица. До начала 1970-х артхаусные западные фильмы часто шли в обычных кинотеатрах (например, в 1960 году во всесоюзном прокате были «Ночи Кабирии» и «400 ударов», в 1961-м — «Женщина в халате», в 1962-м — «Рокко и его братья», в 1963-м — «В Риме была ночь»). Но с начала 1970-х годов, когда аудитория кинематографа сократилась и экономия средств вышла на первый план, в широкий прокат, как правило, выходили зарубежные фильмы, рассчитанные на массового зрителя (например, фильм Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», который в 1972 году посмотрело более 70 млн советских зрителей: ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 191. Л. 62). Киноклубы, как Дом кино, стали в первую очередь местом показа картин для более узкого круга ценителей.
[35] См. обсуждение распределения ролей в фильме Мельникова «Мама вышла замуж» в 1968 году: ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 2027. Л. 27.
[36] См. статью Виктории Донован в нашей подборке.
[37] См. письмо Романова председателю Совета министров А.Н. Косыгину от 18 декабря 1970 года: «Лучшими фильмами пятилетки являются “Огненная дуга” (из цикла “Освобождение”), “Доживем до понедельника”, “У озера”, “Мертвый сезон”, “Сильные духом”, “Щит и меч”, “Страна моя”, “Товарищ Берлин”, “Чехословакия, год испытаний”, “Служу Советскому Союзу”, “Верность матери”, “Шестое июля”, “Посол Советского Союза”, “Почтовый роман”, “Твой современник”, “Журавушка”, “Обвиняются в убийстве”, “Неуловимые мстители”, “Бриллиантовая рука”, “Война и мир”, “Братья Карамазовы”, “Железный поток” и другие, собравшие наибольшее число зрителей (курсив мой. — К.К.)» (РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 1. Ед. хр. 705. Л. 226).
[38] ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 121. Л. 48.
[39] См., например, комментарий Блинова во время его первой встречи с партийным руководством 28 октября 1972 года: «Студия действительно находится сейчас в тяжелом финансово-экономическом положении. Причиной этого являются и те проколы, как принято выражаться в кинематографе, с рядом кинофильмов, которые сделаны наполовину и не оплачены и на сегодня, что вызвало определенные производственные затруднения с организацией творческого процесса и, главное, создало тяжелую перспективу нашего экономического состояния» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 122. Л. 92).
[40] О кризисе, толчком к которому летом 1978 года, когда студия вновь оказалась вынужденной просить средства на поправку своих дел (на этот раз в размере 400 тысяч рублей), послужили съемки «положенных на полку» «Ошибок юности» Бориса Фрумина и «Второй попытки Виктора Крохина» Игоря Шешукова (см.: Там же. Д. 203. Л. 148). 28 июня 1978 года Блинов получил «выговор с занесением в учетную карточку» (Л. 164), а также был уволен с занимаемой должности.
[41] РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 1. Ед. хр. 799a. Л. 35.
[42] Режиссер Сергей Микаэлян в воспоминаниях описывает такую ситуацию, говоря о своем фильме «Премия». Евгений Леонов, игравший главную роль бригадира, официально был занят в другом фильме, и его приходилось снимать украдкой — он делал вид, что «отдыхает», — а затем вставлять отснятые эпизоды в картину. Тем не менее результат на удивление убедителен.
[43] ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 43. Л. 5—6.
[44] К случаям такого рода относился очень интересный фильм Сергея Микаэляна «Вдовы» — о памяти Великой Отечественной войны. Смоленский горком КПСС здесь всячески пытался воспрепятствовать натурным съемкам, сначала вовсе запретив картину, а затем, несмотря на то что она была пропущена обкомом, запретив участникам съемочной группы останавливаться в гостиницах (им пришлось селиться за городом, в нетопленом помещении спортивного центра, и это — в февральский мороз) [Микаэлян 1989: 67—68]. Это подтверждает и производственный отчет о съемках (РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 4. Ед. хр. 3681. Л. 4).
[45] Конечно, несчастные случаи во время натурных съемок не были редкостью. См. сообщение о том, как из-за действия ветродуя погиб один из членов съемочной группы: ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 205. Л. 44 (1978); в сообщении упомянут аналогичный случай, произошедший в 1976 году.
[46] Парторгом становился просто тот член съемочной группы, который состоял в партии. Как и с любым другим аспектом партийной работы, доля подлинных энтузиастов была очень скромной, что оставалось предметом постоянных нареканий парткома.
[47] Интервью, ноябрь 2015 года.
[48] Предпринимались попытки централизованного контроля рабочего распорядка (см., например, Проект положения о рабочем времени и времени отдыха работников киносъемочных групп (1971): РГАЛИ. Ф. 2944. Оп. 1. Ед. хр. 812. Л. 53—59), но, как показывает история, букву закона часто игнорировали.
[49] ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 89. Л. 6—7.
[50] См., например, материал из сценарного дела: ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 18. Д. 2355.
[51] Даже «Поздняя встреча» (1978) Владимира Шределя, довольно заурядная картина об ученом и ветеране войны, который обретает мимолетное прибежище от несчастливого брака в коротком романе с молодой ленинградской актрисой, включает в себя некоторые эпизоды, отражающие жизнь художника на границе с неформальной культурой (своего рода элитарную тусовку).
[52] 21 мая 1965 года партийная организация киностудии отметила, что «Ленфильм» «в течение 5 месяцев этого года работал ритмично, с полной нагрузкой». Однако было оговорено, что это — «в отличие от прошлых лет» (ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 69). Подобные жалобы звучали и несколькими годами позже; см., например: Там же. Д. 100. Л. 46 (1969); Д. 122. Л. 60 (1972) и т.д.
[53] Там же. Д. 249. Л. 77.
[54] Как вспоминает Алексеев, «прийти пьяному на лекцию было совершенно недопустимо, но отсидеть одно занятие, мучась тяжелым похмельем, а потом пойти на Андреевский рынок, где тогда еще разливали пиво из дубовых бочек и продавали бутерброды с селедочной икрой за три копейки, было в порядке вещей» [Алексеев 2006]. Он отмечает, что на непьющего на филфаке смотрели как на «прокаженного».
[55] Ср. замечание антрополога Дейл Песмен, основанное на непосредственных наблюдениях в конце советского периода: «Ассоциация России с пьянством ясно слышалась в вопросе: “Чем занимаются американцы, когда сидят вот так?” Другие формы создания общности были в полном смысле слова иностранными» [Pesmen 2000: 181].
[56] Ср. уже цитировавшееся выше, в сноске 15, высказывание Дмитрия Молдавского, главного редактора Второго творческого объединения, в 1975 году: «Мы следим за ходом съемок, чтобы не было спрятано материала в картине».
[57] Даже ситуации с кинооператорами обычно становились предметом обсуждения, только если пьяное поведение усугублялось дракой (см., например, об одном таком происшествии в 1972 году: ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 111. Л. 103—104).
[58] Некоторые крупные режиссеры из более молодых поколений состояли в партии: Глеб Панфилов, Виталий Мельников, Игорь Масленников, — но все больше это становилось исключением. Сергей Микаэлян и Виктор Трегубович неоднократно уклонялись от предложений вступить в ряды партии.
[59] ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 158. Л. 161.
[60] Там же. Д. 219. Л. 41.
[61] См., например, фильм Адольфа Бергункера «Девочка, хочешь сниматься в кино?» (ЛФ, 1977) или «Голос» Ильи Авербаха (ЛФ, 1982).
[62] Об отсутствии сведений личного характера см.: [Roth-Ey 2011: 120].
[63] Даже случай, когда режиссера обвиняли в попытке изнасилования актрисы, в конечном счете не привел к дисциплинарным взысканиям, хотя просьба режиссера о принятии в партию была отклонена. См. протокол заседания парткома от 10 февраля 1965 года: ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 72. Л. 109—111.
[64] Это определялось не столько нарушением суточного распорядка (во многих западных странах тот, кто пьет за завтраком, по определению считался «алкоголиком», в то время как в СССР пить по утрам считалось абсолютно «нормальным»), сколько регулярностью потребления алкоголя (тот, кто пил ежедневно, по определению считался алкоголиком в СССР, в то время как во многих странах Запада это расценивалось как нечто абсолютно «нормальное»).
[65] Об их роли в более ранний период советской истории см.: [Cassiday 2002: 152—177].
[66] Обсуждение режиссерского сценария «Беда», 11 мая 1976 года // ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 24. Д. 1000. Л. 9.
[67] В мемуарах Даль Орлов, главный редактор Главной сценарно-редакционной коллегии Госкино во время съемок «Беды», приписывал себе авторство идеи фильма. Было получено распоряжение снять, скажем, два-три антиалкогольных фильма. Он подробно рассказывает, что «приглашал не абы кого, — бездарные согласились бы сразу, — а именно тех, от кого можно было получить не халтуру, а нечто достойного художественного качества». Среди них была и Асанова. Затем следует длинное описание того, как он пригласил к себе трех режиссеров: «Динара поначалу смотрела на меня удивленно, Толомуш (Океев. — К.К.) — с откровенным недоверием, Виктор (Туров. — К.К.) с холодным сомнением. Я обращал к ним зажигательные речи, распинался о преимуществах госзаказа, давил на совесть: проблема-то, действительно, не шуточная. Словом, соблазнял. И фильмы появились. Да какие!» Проблема в том, что письменные свидетельства отражают иной процесс, где Орлов выступает лишь как чиновник, вторивший сетованиям на то, что пьют слишком много [Орлов 2011].
[68] ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 24. Д. 1000. Л. 35.
[69] Это отметил один из самых талантливых операторов «Ленфильма» Дмитрий Долинин, хотя и, отдавая предпочтение прекрасным натурным кадрам в этой картине, критиковал выбранную стратегию за то, что она производит впечатление неубедительной имитации пьянства, изображаемого с излишней настойчивостью [Долинин 1977: 3]. Работа Лапшова также была отмечена на торжественном заседании дискуссионного клуба «Ленфильма» (см. статью «Молодой ленфильмовец» в том же номере журнала «Кадр», что и статья Долинина).
[70] ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 24. Д. 1000. Л. 10.
[71] Протокол заседания парткома первичной организации киностудии «Ленфильм», 25 мая 1977 года // ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 189. Л. 86, 89.
[72] Там же. Л. 89.
[73] ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 24. Д. 1415. Л. 21 (Письмо за подписью В.В. Блинова и Ф.Г. Гукасян от 20 июля 1977 года адресовано Далю Орлову в Главную редакционную коллегию Госкино).
[74] Например, Хейфиц, хотя и критиковал повторы отдельных сцен, констатировал: «Некоторые отмечают, что в картине много сцен пьянства. По-моему, это сделано верно; они действуют убедительнее, нежели увещевания <…>. В картине нет лжи. Фильм будет убеждать зрителя правдой» (Протокол заседания парткома // ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 189. Л. 88).
[75] О последних этапах работы над фильмом, включавших написание совершенно новых сцен, см.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 31. Д. 38. Л. 119—161. Ситуация обернулась серьезными неприятностями для Гукасян, главного редактора Первого творческого объединения, которая, как и Хейфиц, получила официальный выговор от партийной организации студии, хотя оба выговора и были отменены вскоре после их объявления.
[76] Когда картина рецензировалась Первым творческим объединением, Гукасян отметила, что Сулин — волевой человек (Там же. Оп. 36. Д. 32. Л. 273), но сам фильм явно не создавал такого впечатления.
[77] Ср. комментарий Гукасян, что следует заново продумать темп отдельных эпизодов, учитывая смех зрителей: Там же. Оп. 31. Д. 12. Л. 193.
[78] Там же. Л. 202.
[79] Как в фильме Малколма Маубрэя «Частное торжество» (1984) со Смит в главной роли или в теледраме Майкла Ли «Вечеринка Эбигейл» (1977), где главную роль сыграла Стэдмен.
[80] Обсуждение литературного сценария «Уходя — уходи», 22 марта 1978 года // ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 36. Д. 32. Л. 280.
[81] Там же. Л. 301.
[82] Обсуждение фильма «Уходя — уходи», 1 декабря 1978 года // Там же. Оп. 31. Д. 12. Л. 212.
[83] Там же. Л. 214.
[84] Утвержденный режиссерский сценарий к/к «Пока есть время» («Отпуск в сентябре»), 1978 // Там же. Д. 114. Л. 4—5.
[85] Интервью с Мельниковым, взятое нами осенью 2015 года.
[86] См. комментарий Киселева на заседании парткома студии 7 сентября 1971 года: «Внутри студии также много безобразий с пьянством, например, артист Даль, который систематически пьянствует, срывает съемки, а его продолжают принимать на съемки» (Там же. Д. 109. Л. 100).
[87] «Мне предложили “для удобства прохождения в инстанциях” объявить картину “антиалкогольной” и замаскировать ее под названием “Пока не поздно”» [Мельников 2011: 255].
[88] См. отчет редакторов «Экрана» от 10 мая 1977 года: «Нам кажется также, что мотив злоупотребления алкоголем дает возможность точнее объяснить поведение Зилова. Этот мотив следует выявить четко и ясно, что пока не сделано» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 40. Д. 12. Л. 6). С другой стороны, название «Пока не поздно» было предложено на самой киностудии (л. 3), хотя, возможно, уже после разговора с представителями «Экрана».
[89] Неясно, почему этот вариант названия отклонили, но, возможно, из-за его двусмысленности: он заставлял предположить, что можно пить вовсю, пока не истекло время, вместо того чтобы настойчиво стремиться к трезвости.
[90] См.: Решение исполкома Ленсовета и президиума Ленинградского областного совета профсоюзов от 28 августа 1972 года (docs.cntd.ru/document/8304782 (дата обращения: 26.06.2018)) за подписью В. Провоторова, указанного как председатель Облсовета профсоюзов.
[91] «Докладывал второй секретарь обкома партии Болотников. В конце он сказал:
— У нас есть образцовые газеты, например, “Знамя прогресса”. Есть посредственные, типа “Адмиралтейца”. Есть плохие, вроде “Турбостроителя”. И наконец, есть уникальная газета “Кадр”. Это нечто фантастическое по бездарности и скуке» [Довлатов 1986].
[92] ЦГАИПД СПб. Ф. 1369. Оп. 5. Д. 258. Л. 203, 204—205.
[93] Обсуждение литературного сценария «Уходя — уходи», 22 марта 1978 года. Л. 302.
[94] ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 24. Д. 998. Л. 186. Это оказалось последней ролью Кузьминой в кино — она умерла в 1978 году, спустя год после окончания съемок.
[95] Об этом подробно говорится в: [Мельников 2011]. Так, сама идея экранизации «Утиной охоты» Вампилова появилась, по словам Мельникова, из беседы, которая была у него с одним из высших представителей государственного кинематографа и закончилась их краткой совместной лодочной прогулкой к берегу чехословацкого озера.
[96] Хотя не только в них — см., например: [Раззаков 2008а; 2008б].
[97] Существует большое количество литературы по институциональной истории кинематографа в годы войны в Великобритании, например: [Chapman 1998; Murphy 2000]. Об экономике смешанного типа, в условиях которой в послевоенные годы снималось итальянское неореалистическое кино, см.: [Wagstaff 2007].
[98] Например, романистка Кристин Брук-Роуз говорила о «соблазне стесненности и трудностей, который нужен любому художнику хотя бы для того, чтобы нарушить правила» [Bartha 2014]. См. интересные размышления об итальянском неореализме, где явно «примитивные» черты рассматриваются как часть художественного замысла: [Steimatsky 2008].
[99] В особенности см. фильмы Андрея Звягинцева «Елена» («Нон-стоп продакшн», 2011), «Левиафан» («Нон-стоп продакшн», «Двадцатый век Фокс СНГ», «A Company Russia», 2014) и «Нелюбовь» («Нон-стоп-продакшн», «Фетисов иллюзион», «Why Not Productions», «Senator Film», «Les films du fleuve», 2017).
[100] Здесь есть очевидная связь с «Голосом» (ЛФ, 1982) Авербаха, явно метакинематографическим фильмом, где, однако, взаимодействие с отравляющим веществом отражено главным образом в пристрастии второго режиссера к курению.
[101] Конечно, такое можно сказать о любом творческом процессе, но, несмотря на то что советские писатели и музыканты (как и их коллеги во всем мире) тоже выпивали, да еще как, употребление алкоголя не стало «культурным фактом» этого порядка в литературных и музыкальных текстах. Интересно, что вскоре после выхода на экран фильма «Беда» композитор А.Н. Пахмутова и поэт Н.Я. Добронравов подняли шум насчет использования их песни «Надежда» в одном из эпизодов. В обращении к ВААПу они писали: «Она вложена в уста пьяниц и не только далека от авторского замысла, но и вступает в противоречие с ним. Песня в фильме звучит даже не пародийно, а издевательски» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 31. Д. 22. Л. 48). Пахмутова и Добронравов попытались запретить «Ленфильму» использование песни в фильме Асановой. Попытка не увенчалась успехом, поскольку советское законодательство об авторских правах предусматривало такое употребление, но тем не менее сама Асанова написала авторам, уверяя их, что выбор песни не свидетельствует о неуважении к ним: «Мне, как режиссеру-постановщику, хотелось создать контраст между ужасом и неприглядностью своих “антигероев” — и их мечтами, в которых они проявляют остатки осмысленной человеческой личности» (Там же. Л. 50). Случай дает понять широту зазора между разными отношениями к пьянству даже среди практикантов так называемых «официальных» искусств в СССР 1970-х годов.
[102]Архивные иллюстрации публикуются с любезного разрешения киностудии «Ленфильм».