Опубликовано в журнале НЛО, номер 6, 2010
НОВЫЕ КНИГИ
Гольдман Л. ЛУКАЧ И ХАЙДЕГГЕР / Пер. В.Ю. Быстрова. — СПб.: Владимир Даль, 2009. — 296 с. — 1000 экз.
Акцент в незаконченной работе Люсьена Гольдмана “Лукач и Хайдеггер” (1973) делается на Лукаче, поскольку именно его труд “История и классовое сознание” стал решающим для историко-культурной концепции самого Гольдмана. В этой концепции историческое развитие тотальности подвергается структурному анализу, всякий раз удерживающему во внимании функции актуальных интересов социальных актантов и повседневную жизнь социальных групп. При таком подходе каждый объект культуры встраивается в сеть многочисленных функциональных опосредований и практик (свой марксизм Гольдман противопоставлял и Хабермасу, предполагая, что критика должна вырастать из социальной реальности, а не преподносить ей некую внешнюю абстрактную норму, и Альтюссеру, чересчур пренебрегающему важностью человеческого действия в истории, и Адорно, которого укорял за элитарность и субъективизм). Задача, вставшая перед Гольдманом, была очень непроста. Различие рассматриваемых им мыслительных традиций и языков очевидно: если Лукач в “Истории и классовом сознании” (Гольдман, к сожалению, сосредоточился именно на этом — в конце 1960-х гг. наиболее актуальном — тексте Лукача, почти не упоминая “Теорию романа”, мельком обсуждая “Душу и формы” и просто не зная о “Гейдельбергской эстетике”, опубликованной лишь в 1974 г.) говорит на языке гегелевско-марксистской диалектики (приспособленном для решения актуальных политических задач), то Хайдеггер — и на языке феноменологии, и на собственном терминологическом языке. Пытаясь найти им общих врагов (позитивизм, неокантианство) и реконструировать общий интеллектуальный контекст (возникновение экзистенциализма из философии жизни и феноменологии, взгляды Зиммеля, учителя Лукача, и Ласка, его хорошего знакомого), Гольдман допускает массу упрощений и порой игнорирует логику философского становления как Лукача, так и Хайдеггера (например, описывая расцвет философии и социологии в Гейдельберге, он ни слова не говорит ни о Максе Вебере, ни о Стефане Георге, хотя хорошо известно, что именно они были в тот период духовными вождями немецких интеллектуалов и оказали воздействие на молодого Лукача, а отчасти (особенно Георге) — и на Хайдеггера).
Ключевое различие философскоисторических конструкций Лукача и Хайдеггера Гольдман видит в том, что у Хайдеггера субъект истории индивидуален, для Лукача же таковым может стать только класс. Согласно Гольдману, Хайдеггер в отличие от Лукача отказывается от прогрессизма, просто разделяя “подлинное” и “неподлинное” измерение человеческого бытия, и от демократизма, оставляя лишь за элитой право творить историю. Гольдман считает, что “тотальность” Лукача в мире Хайдеггера превращается в “бытие”, а “человек”, который говорит изнутри этой тотальности, — в Dasein. Причем хайдеггеровскую “подручность” (Zuhandenheit) Гольдман трактует как лукачевское единство теории-практики, а “наличность” (Vorhandenheit) — как пассивно-научное отношение к миру (с. 82). Однако вряд ли можно столь прямолинейно отождествлять критику субъект-объектной дихотомии у Гегеля и у Хайдеггера, ибо, даже стремясь понять Гегеля, Хайдеггер не может принять ни диалектического метода, ни гегелевской картины исторического развития, ни его понятия времени (критике которого посвящены заключительные параграфы “Бытия и времени”). К тому же немного ниже Гольдман говорит, что Лукач не принимает онтологического различия между бытием и сущим, положенного в основу хайдеггеровской философии, и во всех случаях ориентируется на то, что Хайдеггер назвал бы сущим (с. 90—91).
Конечно, у Хайдеггера в его анализе предметности и “наличности” присутствует отчужденное, овеществленное принятие объекта в его данности. Но Хайдеггер (по мнению Гольдмана — в неявной полемике с Лукачем, ибо только Лукач среди современных Хайдеггеру авторов использовал это понятие) считает, что для проникновения в суть “неовеществленного” сознания необходимо понять онтологическое происхождение вещности, понять, почему сознание так устроено, что становится овеществленным. К тому же Хайдеггер не видит альтернативы существующему порядку вещей в революционном преобразовании социальной действительности, для него любая такая действительность есть мир экзистенциального человека, das Man. Не случайно поэтому тот же Лукач в своем более позднем очерке “Экзистенциализм” сравнит “Бытие и время” с романом Л. Селина “Путешествие на край ночи” (см.: Лукач Г. Экзистенциализм // Вестник МГУ. Сер. 7 (Философия). 2005. № 5. С. 38), где изображены отчаяние и одиночество, охватившие буржуа в капиталистическом обществе (задав между прочим идеологическую планку для многих наследовавших Лукачу советских литературоведческих штудий, в частности для обсуждений Кафки, Джойса, Беккета и др.).
Мышление Хайдеггера не исторично именно в смысле равнодушия к социальному измерению истории. Если Маркс и Лукач объясняют овеществление в аспекте этого измерения, то “Хайдеггер не ищет исторического основания” овеществленного сознания (с. 85). Неудивительно, что Хайдеггер настаивает на онтологической фундированности философскоисторических спекуляций, а Лукач ставит под вопрос социально-философское основание самого этого онтологического вопрошания, не давая феноменологического описания сознания и его форм, но вскрывая их социально-историческую обусловленность, в частности находя причины разделения субъекта и объекта в буржуазном мышлении. Хайдеггер претендует на раскрытие вневременных, фундаментальных онтологических оснований, пусть и развертывающихся во временности, Лукач же настаивает на том, что статус и функции философии, революционной практики и пролетариата изменчивы, подчиняет свою философию требованиям момента — необходимости осознания пролетариатом своей исторической миссии. Гольдман считает, что это делает философию Лукача научнее, конечно, взывая не к позитивистскому критерию научности, а к некой синтетической теории истории. Но вместе с тем Гольдман понимает, что Хайдеггер обвинил бы и Маркса, и Лукача в приверженности традиционной, центрированной на понятии субъекта метафизике (к критикам метафизики причисляется и Жак Деррида, см. с. 164—166).
Разумеется, это не значит, что Хайдеггер был равнодушен к истории. В “Бытии и времени” есть раздел, где Хайдеггер пишет об историчности Dasein как о решимости в выборе перед лицом смерти, в пользу подлинного (“Eigentlich”; В.В. Бибихин переводил это слово как “собственное”) или неподлинного. Экзистенциальный смысл истории — во временности Dasein, открытого перед своей судьбой и в со-бытии со своим народом (╖ 74 “Бытия и времени”). Юсуф Ишахпур, автор весьма пространного предисловия к французскому изданию книги Гольдмана, дополняет автора, показывая, как именно Хайдеггер мыслил народ и в чем различия этого понимания с мессианскими представлениями Лукача.
Гольдман считает, что Хайдеггер дуалист, что он просто-напросто противопоставляет подлинное и неподлинное измерение Dasein и что иллюзия овеществления для него — выбор из двух вечных возможностей, заложенный в фундаментальных бытийных структурах Dasein (с. 116). Философия Хайдеггера, согласно Гольдману, мало чем отличается от идей “Тезисов о Фейербахе”, за исключением того, что Хайдеггер смещает акценты в сторону индивидуального сознания. Получается, если перевернуть эту логику, что идеал Маркса — пастушеское бытие пролетариата, блаженствующего в мире подручного. Но Хайдеггер пропагандирует квиетизм, а Лукач ратует за деятельное присвоение свободы.
Хорошая иллюстрация к различию между методами работы Лукача и Хайдеггера — различение подручности и наличности: Хайдеггер пишет, что вещь перестает быть подручной и начинает мыслиться как предмет лишь в момент сбоя, остановки, прерывания некоего континуума “человек-обустроенный-в-мире”, для Лукача же практика изначально онтична, интерсубъективна, транслируема от индивида к индивиду, она есть органическая часть деятельности коллективного субъекта. Этот коллективный субъект в “Истории и классовом сознании” может оказаться и подлинным и получить доступ к истории, если он — совсем в духе Хайдеггера — осознает свои границы и смело признает тот факт, что с упразднением капитализма он тоже исчезнет. Именно таким субъектом был для Лукача пролетариат.
Перевод книги местами плохо отредактирован. Вот несколько примеров: на с. 45 без выходных данных цитируется книга Хайдеггера с загадочным названием “Речи и заявления”; на с. 87 возникает “онтологическая позиция проблемы смысла бытия”, в которой помимо чудовищного нагромождения генитива явно кроется переводческая ошибка; неокантианский марксизм “Форландера” (с. 89) (вместо “Форлендера”) выдает незнание переводчиком немецкого и русской традиции перевода философской литературы. Увы, досталось и книге Лукача “Душа и формы”, которая в совершенно избыточной и неуместной биографической справке на с. 212— 213 названа неправильно, на с. 133 объявлена книгой очерков (а не эссе), причем первый текст книги (в русском переводе — “О сущности и форме эссе”) в переводе “представляет собой попытку выделить самую суть очерка”, не говоря уже о мелочах типа концепции жизни как “анархии светотени”, превратившейся на с. 135 в “анархию сумерек”. Странновато выглядят и фразы типа: “В Средние века утверждались теологические значения, согласно которым Бог эффективно вмешивается в реальность” (с. 185), и французский писатель “Робб-Грийе” (с. 194). Требовать от редакторов издательства правильно писать фамилию Лукача (Lukacs) никто уже и не собирается — мы понимаем, что для этого необходимы высочайшее мастерство и суперсовременные технологии. Отметим также, что автор русского послесловия (Б.В. Марков) валит в одну кучу Лукача, Зюганова, Фуко и Льва Толстого, растягивая свой текст на 80 страниц и повторяя в нем многое из того, что читателю и так уже известно.
Тем не менее появление этой книги вполне уместно. Такие сопоставления важны не только как форма трактовки содержательных проблем, в одно и то же время волновавших Лукача и Хайдеггера, но и как попытка наладить диалог между “левой” и “правой” философией, совместить, если угодно, две философские аудитории (ибо в Европе 1960-х гг. Хайдеггер и Лукач принадлежали, конечно, к разным партиям и пользовались популярностью у разных групп). Трезвое историческое исследование показывает, что нельзя безапелляционно противопоставлять не только Хайдеггера и Лукача, но и, например, К. Шмитта и В. Беньямина или Э. Юнгера и Г. Шолема (недавно в берлинском литературном журнале “Sinn und Form” (2009. Hf. 3) опубликована их переписка. Брат Шолема Вернер, погибший в концлагере, был одноклассником Юнгера). Эта уже далекая от нас эпоха была одержима не только марксизмом, но и гностицизмом; наша задача — выяснить истоки этого нездорового радикализма. Книга Гольдмана — лишь начало, один из многих возможных вариантов такого разговора. В нашей стране начинают появляться люди, которых привлекают и левая, и правая радикальная мысль. Им такого рода исследования, такая критика крайностей радикализма показаны в первую очередь.
Иван Болдырев
ЛЕСНАЯ ШКОЛА: Труды VI Международной летней школы на Карельском перешейке по русской литературе. — Поселок Поляны (Уусикиркко) Ленинградской области, 2010. — 316 с. — 500 экз.
Содержание: Люстров М. Тема героической гибели в русской и шведской литературах эпохи Северных войн; Костин А. Из истории радищевских юбилеев (газетные и архивные материалы); Долинин А. Из нового комментария к “Моцарту и Сальери”; Балакин А. “Литературный” водевиль 1830—1840-х годов: водевиль как средство журнальной и литературной полемики; Лямина Е. Чехов — читатель мемуаров (заметки к теме); Кобринский А. Авторский портрет в книге стихов русского модернизма: А.Н. Емельянов-Коханский; Лекманов О. Книга стихов Анны Ахматовой “Вечер” (1912) как “большая форма”; Емельянов В. Знал ли Александр Иванович халдейский язык? (Об источниках стихотворения А. Тинякова “Тукультипалешарра I”); Котова М. К истории отношений А. Тинякова и М. Зощенко; Жолковский А. “Гривенник серебряный в кармане”; Тименчик Р. Из Именного указателя к “Записным книжкам” Ахматовой (к вопросу о технических проблемах комментирования); Мейлах М. Филологические воспоминания; Зубков К. История одного сюжета: к проблеме литературной репутации Н.В. Успенского; Богодерова А. Сюжетная ситуация ухода в русской литературе второй половины XIX века; Александров А. Из истории создания первой биографии А.П. Чехова; Глуховская Е. К вопросу о Вечной Женственности у русских символистов (на примере поэзии Эллиса); Чабан А. Два Гумилева: критик “Аполлона” и критик “Гиперборея”; Головий О. Концепция “неореализма” в наследии Евгения Замятина; Хохель Д. Концепция А. Туфанова о подвижном звуке; Александрова Э. “Негодяи” Газданова в свете героев Достоевского; Вдовин А. К источникам четвертой главы “Дара” В. Набокова; Поселягин Н. Из истории раннего российского структурализма. В точке поворота; Велавичюте О. Стратегии вторичного дебюта Анастасии Цветаевой и их последствия; Атрощенко А. Орнаментализм в романе Саши Соколова “Между собакой и волком”; Фридли В. “Элегии на стороны света” Елены Шварц.
Вдовенко И.В. СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРНОГО ПЕРЕВОДА. — СПб.: РИИИ, 2007. — 214 с. — 300 экз.
Небольшая книжка И.В. Вдовенко обладает всеми признаками научного сочинения, начиная с постановки достаточно специальных вопросов и кончая маленьким тиражом. Обладает она и приметами последнего времени, что отражает ее заглавие, как раз не совсем типичное для научных сочинений: “Стратегии культурного перевода” (так и хочется задать вопрос: “А защита была по какой такой специальности?”). Заглавие, кстати, не совсем отвечает основной проблеме, которая в тексте сформулирована как проблема “культурного транспонирования” текста, что проясняет не совсем обычное употребление слова “культурный” применительно к переводу. И.В. Вдовенко ставит перед собой задачу понять, как происходят перенос художественного произведения из одной культуры в другую и его новое рождение в другом контексте и какую помощь способен оказать произведению переводчик в сохранении прежних коннотаций и обрастании новыми. Точнее было бы говорить о “стратегии культурных трансформаций”, поскольку на протяжении всей книги речь идет именно о трансформациях классических детских книг при переходе из одной культуры в другую.
Книгу И.В. Вдовенко сразу хочется отметить как большую научную и творческую удачу, поскольку здесь впервые в отечественной науке проблема перевода рассматривается под совершенно новым углом зрения: не только в соотнесении с подлинником и удачами или неудачами его чисто языковой передачи, но и в его связях с культурными контекстами. Разумеется, не всегда эти связи при переводе имеют решающее значение: огромное число произведений даже предпочтительнее воспринимать именно как инокультурные, ведь одна из функций перевода заключена в известной пушкинской формуле “почтовые лошади просвещения”. Литература на протяжении столетий оставалась для нас одним из “окон в Европу”, и не только в Европу, да и “загадочная славянская душа” родилась не без ее содействия.
В первых главах речь идет о двух книгах, где культурный контекст играет определяющую роль, — “Алиса в стране чудес” и “Винни-Пух”. Применительно к ним проблема того, что И.В. Вдовенко называет “транспонированием”, так или иначе решалась всеми без исключения переводчиками. Две другие детские книги — “Пиноккио” Карло Колоди, “транспонированный” А. Толстым в “Золотой ключик, или Приключения Буратино”, и “Доктор Дулиттл” Г. Лофтинга, известный нескольким поколениям наших детей как “Доктор Айболит” в прозаическом пересказе К. Чуковского, намечают другие подходы в рамках заявленной темы.
Первым объектом внимания И.В. Вдовенко стал перевод “Алисы в стране чудес” В. Набоковым, превращенной писателем в “Аню в стране чудес”, а английские стихи, соответственно, в более известные русскому читателю, прежде всего — пушкинские. История русских переводов “Алисы” вообще прослежена здесь с большой тщательностью, начиная с первого, изданного под заглавием “Соня в царстве дива” еще в 1879 г., но дело не только в этом, издание перевода Н.М. Демуровой в серии “Литературные памятники” (М., 1978) также сопровождалось ее статьей “О переводе сказок Кэрролла”. Гораздо важнее угол зрения, под которым рассматривает этот опыт И.В. Вдовенко, который прослеживает не историю переводов, а то, как каждый из переводивших решал задачу переноса книги в новый культурный контекст.
Опыт Набокова — один из ярких примеров в этом ряду, хотя к судьбе сказки Кэрролла в России он, по существу, не имеет отношения, поскольку тот культурный контекст, в который он пытался ввести свою Аню, находился за железным занавесом. Перевод Набокова так и остался фактом его биографии и добычей литературоведов, кладезем для изучения его оригинальных сочинений, поисков прототипов, ассоциаций, разного рода каламбуров. До России набоковский перевод дошел слишком поздно, когда перевод Демуровой прочно прижился здесь, подкрепленный музыкой В. Высоцкого и замечательным мультфильмом, грамзаписями и театральными спектаклями, созданными на этой основе. Успел он покорить и взрослую аудиторию, пробудив в наиболее любознательной части интерес к английскому контексту.
Совсем иначе сложилась судьба у сказки “Золотой ключик” и ее героя — деревянной куклы. Как известно, А. Толстой сначала поучаствовал в редактировании перевода “Пиноккио”, изданного в Берлине примерно тогда же, когда и набоковский перевод “Алисы”, — в начале 1920-х гг., “Золотой ключик”, несомненно, появился как следствие этой работы. И.В. Вдовенко пытается и его объявить транспонированием, поскольку по пути к русскому читателю первоначальный сюжет насыщался разного рода подтекстами — пародиями на пьесу Блока “Балаганчик” и ее постановку Мейерхольдом, о чем в свое время написал М. Петровский в известной работе “Книги нашего детства”. Но присутствие этих подтекстов осталось недоступным широкому читателю, и уж тем более — детям, а Буратино, вырванный из инокультурного контекста и сохранивший глубоко нерусские замашки, прочно вошел в русскую культуру, так что никому не приходит в голову вопрос, что это за кукольный театр, героями которого являются Пьеро и Мальвина, что за полицейские хватают Буратино и тащат к тарабарскому королю и т.п.
Самые неожиданные открытия ждут читателя при изучении опыта “транспонирования” еще одной детской книги — “Винни Пуха” А. Милна. Казалось бы, более благополучную судьбу, чем у перевода Б. Заходера, трудно представить, мультипликаторы помогли ему стать почти фольклором. Книга так слилась с изобразительным рядом, что, даже когда волны перестройки принесли нам совсем другой визуальный образ главного героя, он так и остался каким-то “братом-2 Винни Пуха”.
Но в судьбе книги Милна в России был еще один этап: извилистые тропы постмодернизма заставили повзрослевшего и начинавшего даже стареть читателя заходеровского “Винни-Пуха” вернуться к ее чтению благодаря известной книге В. Руднева “Винни Пух и философия обыденного языка”. С подачи В. Руднева пришло и новое явление — деконструкция, которая, как было сказано в его “Словаре культуры XX века”, заставляет книгу существовать “в диалоговом режиме с читателем и интерпретатором”.
В книге В. Руднева о Винни Пухе поражала способность исследователя опробовать столь разные методологии на таком невинном тексте, причем поражала она куда больше всяких возможных и даже невозможных результатов. Это могло показаться удивительным в стране, где на протяжении нескольких десятилетий господство марксистской методологии, буквально не оставившей живого места на теле литературы русской и зарубежной, продемонстрировало все возможные тупики, в которые может завести примат методологии. Но в эксперименте, который над героями Милна производил В. Руднев, присутствовал методологический плюрализм, небезынтересным представлялся и факт, что не только марксизм может завести нас в “здравого смысла тартарары”.
Читателю книги И.В. Вдовенко предстоит сделать любопытное открытие: “Начиная с 1960-х гг. в Америке и Европе появляется целый ряд книг, посвященных “Винни-Пуху” и его возможным, предполагаемым трактовкам, атакующим текст с самых разных позиций” (с. 50; в написании имени героя нами сохраняется вариативность исходных текстов, на которые делается ссылка). Далее следует длинный перечень книг—предшественниц нашего “интеллектуального бестселлера” и вырисовывается довольно привычная для нас ситуация: “Что впору Лондону, то рано для Москвы”. Пренебрежительно охарактеризован здесь и так называемый “буквальный” перевод книги А. Милна, сделанный В. Рудневым и изданный вслед “интеллектуальному бестселлеру”; правда, И.В. Вдовенко в данном случае лишь приводит отзыв В. Вебера, автора современного полного перевода книги “Винни-Пух”, назвавшего перевод В. Руднева “грубым подстрочником, иллюстрационным материалом, которым авторы подтверждают свои идеи” (с. 63). Не менее мрачно, впрочем, В. Вебер отозвался и о переводе Б. Заходера (“кастрированный: в нем отсутствуют главы, стихотворения, предисловия” (там же)), это утверждение вытекает из далеко не бесспорного мнения, что всякое сокращение и адаптация есть уже и кастрация; в каждом конкретном случае это надо еще доказать!
Спор с подобной точкой зрения гораздо удобнее вести, обратившись к следующей главе книги, посвященной взаимодействию сюжетов прозаических и стихотворных детских книжек Чуковского, где появляется персонаж по имени доктор Айболит, с книгой Г. Лофтинга “Доктор Дулиттл”.
Отметим, что И.В. Вдовенко впервые так подробно проследил историю этого героя в творчестве Чуковского в соотнесении с книгой Лофтинга. Ранее приходилось встречать только укоры в адрес Чуковского со стороны современных переводчиков книг Г. Лофтинга в том, что он будто бы незаконно что-то там присвоил, а что-то исказил, хотя ссылка “по книге Лофтинга” присутствовала во всех изданиях.
И.В. Вдовенко нашел убедительное объяснение, почему с самого начала Чуковский выступил не в роли переводчика: примерно тогда же перевод книги Лофтинга, выполненный Л.Б. Хавкиной, вышел в Москве. К его объяснениям хочется добавить лишь указание на общую ситуацию с переводами в середине 1920-х гг., о которой Чуковский писал: “Здесь дело обстоит так: переводчиков целые стада. Каждый из них отлично наладил получение иностранных книг из-за границы. У каждого есть в Берлине кузина или бывшая жена. Раздобыв книжку, переводчик бежит со всех ног к издателю: в “Мысль”, в “Ленинград”, во “Время” — и расхваливает свой товар. Если товар обещает 100% прибыли, издатели соблазняются, заказывают перевод, и переводчик смаху переводит всю книгу в 5 или 6 ночей. Нравы разбойничьи. Конкуренция бешеная. Штейн боится, что ту же книгу переводит Финкель, а Финкельштейн дрожит, как бы ту же книгу не перевел Штейнфинкель” (письмо Чуковского Р.Н. Ломоносовой от 29 августа 1925 г. цит. по: Чуковский К. Собр. соч.: В 15 т. М., 2008. Т. 14. С. 614—615).
И.В. Вдовенко скрупулезно изучил прижизненные издания и переиздания книг Чуковского, героем которых становится доктор Айболит. Спорным представляется лишь то, что он рассматривает все изменения и трансформации этого героя под углом зрения отклонения от книги Лофтинга. Между тем в архиве, дневниках и переписке Чуковского имя Лофтинга упоминается единственный раз в письме к Р.Н. Ломоносовой в 1925 г. (Там же. С. 628), в библиотеке Чуковского подлинники книг Лофтинга отсутствуют, сохранился лишь русский перевод, сделанный Е. Хавкиной (1924). То есть с теми изданиями книги Лофтинга, которые выходили в Америке после 1924 г., Чуковский, скорее всего, вообще не был знаком и правил свой пересказ, не обращаясь к оригиналу.
В этом пункте возникает ощущение, что И.В. Вдовенко не всегда учитывает некоторые общие особенности творчества Чуковского, связанные с его беспрецедентным литературным долгожительством. На его книгах выросло несколько поколений читателей, и невольно кажется, что они издавались всегда. Но это не так: книги Чуковского запрещали на долгие годы, и когда возникала возможность их издавать снова, он неизменно подвергал их правке, так как обращался к новому читателю.
Править собственные книги он любил почти маниакально, это происходило и со статьями в дореволюционный период творчества. В то время как его современники, собирая газетные статьи в сборники, зачастую их даже не перечитывали, оставляя корректорские пропуски в тексте, Чуковский свои статьи чуть ли не переписывал при каждом издании. Даже перевод Тома Сойера, многократно переиздававшийся, он пытался усовершенствовать при каждом переиздании.
Нечто подобное происходило и с детскими книгами: отрывок из затоптанной цензурой и критикой книги “Одолеем Бармалея” он сделал самостоятельным стихотворением (“Рады, рады, рады / Белые березы…” и т.п.). “Транспонирование” внутри поэтического и прозаического хозяйства было для него внутренней потребностью, точно так же и доктор Айболит, отпочковавшись от книги Лофтинга, начал вести самостоятельное существование внутри этого хозяйства.
Сказанное относится и к вопросу о прототипах звериного доктора, который сначала из Дулиттла превратился в Ойболит, чтобы затем уже под именем Айболита стать героем целого ряда детских книг Чуковского. Бесполезно уличать автора в том, что он называл прототипом Айболита доктора Шабата, а не Дулиттла, герои Чуковского всегда столь же полигенетичны, если пользоваться термином В.М. Жирмунского, как и герои Блока, как и герои многих писателей; в его детских стихах содержатся отзвуки едва ли не всех русских поэтов, которые были его излюбленным чтением на протяжении всей жизни. Но эти частные несогласия возникают везде, где для изучения избранной темы требуется опора на творчество Чуковского в его целом.
В рамках же поставленных автором задач книгу И.В. Вдовенко можно только приветствовать, попутно отметив одну странность. Во время оно едва ли не все переводчики, рассуждая о своей профессии, опирались на книгу К. Чуковского “Высокое искусство”. В течение многих лет выходили сборники “Мастерство перевода”, где проблема перевода обсуждалась с самых разных точек зрения. Что же такое случилось с существовавшей некогда теорией перевода, что ни одна из прежних работ даже не удостаивается упоминания? Видимо, строительство Вавилонской башни начинается с нулевого цикла.
Евг. Иванова
Сурат И.З. ВЧЕРАШНЕЕ СОЛНЦЕ: О ПУШКИНЕ И ПУШКИНИСТАХ. — М.: РГГУ, 2009. — 652 с. — 1000 экз.
Заглавие у этой книги — говорящее. Оно сразу же заставляет вспомнить знаменитый некролог В.Ф. Одоевского, где говорилось: “Солнце русской поэзии закатилось!” При этом автор подчеркивает: вчерашнее солнце. Сразу возникает вопрос: когда же началось и долго ли продлилось это самое вчера?
В предисловии “От автора” этот вопрос наполняется как будто вполне публицистическим содержанием: “Разговоры о закате пушкинского солнца начались еще на рубеже XIX— XX вв., и те, кто их затеял (первыми были Д. Мережковский и В. Розанов), сами и совершили беспримерный прорыв в познании Пушкина, а когда они умолкли, расцвела другая ветвь познания, расцвела наша блистательная обширная и разнообразная академическая пушкинистика — где она сегодня? Там же, где “народная тропа” и народная толпа, штурмующая книжные прилавки с новыми томами Пушкина, — в прошлом. Национальный гений теперь счастье для немногих…” и т.д. (с. 7).
Но всякая публицистика, к сожалению, оперирует приблизительными фактами — и неминуемо приходит к столь же приблизительным выводам. Во-первых, “разговоры о закате пушкинского солнца” начались значительно раньше: еще при его жизни пошли эпиграммы о том, что “Пушкин надоел” (“И стих его не звучен, / И гений охладел”). И показательные характеристики поэта Бенедиктова: “Этот почище Пушкина-то будет”. И насильственное “внедрение” Пушкина в массы: вспомните историю распространения посмертного издания его сочинений, на которое почему-то никто не хотел подписываться…
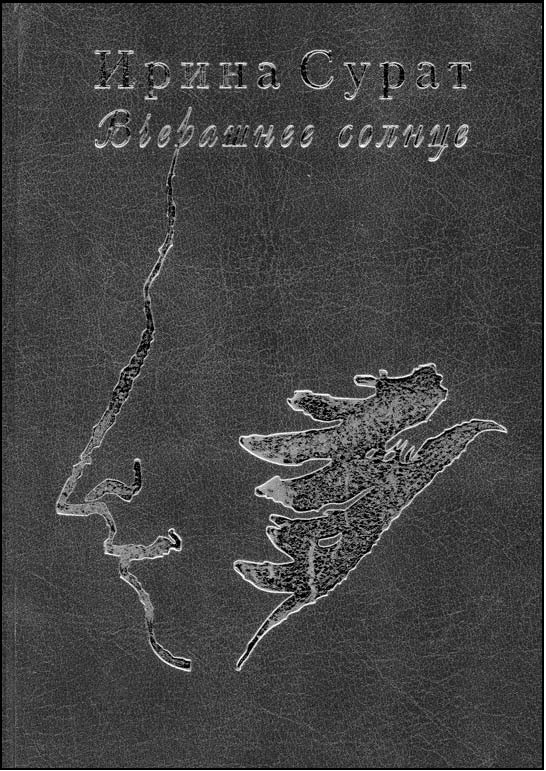
Во-вторых, само это “солнце русской поэзии” загорелось не только “благодаря” иным общественно-литературным процессам (“Повезло, повезло!” — как подметил некогда булгаковский поэт Рюхин), но и в противовес известным мнениям русской демократической интеллигенции (отраженным в статьях Д.И. Писарева) или мыслям представителей “грамотного народа” (переданным Львом Толстым). Эти сомнения относительно “пушкинского солнца” явились тоже пораньше Мережковского и Розанова.
В-третьих, наличие “народной толпы, штурмующей книжные прилавки с новыми томами Пушкина”, не является непременным показателем нравственного здоровья народа. В достопамятные 1970—1980-е гг. подобное явление было лишь “отрыжкой” повального увлечения “самой читающей нации”, желающей “образованность свою показать”. Ибо если бы купленные тогда “новые тома Пушкина” были бы не просто поставлены на полку, но прочитаны и поняты всеми, купившими их, — то многого из того, что случилось “вчера”, просто бы не случилось. Совсем другое дело, что для отдельных — совсем немногих — людей имя Пушкина в лихие времена стало тем именем, которым можно “аукаться”; и они “аукались”, и сумели выжить, и другим помереть не дали…
Тут можно приводить еще и “в-четвертых”, и “в-пятых”… но остановимся. Основное достоинство рецензируемой книги и плода двадцатилетней работы И. Сурат — в ее откровенной “научной публицистичности”. А основной недостаток — в том, что эта “научная публицистика” — все-таки приблизительна.
“В первом разделе книги, — указывает автор, — собраны работы общего характера, во втором — исследования отдельных произведений и проблем, в третий вошли некоторые статьи о пушкинистах и пушкинистике, последний раздел составили эссе из новой книги о единстве русской лирики, Пушкин в этом замысле — центральная фигура” (с. 8). Рассмотрим, однако, не принципы соединения разных статей, а сам, что называется, “творческий метод” автора, по-разному заявленный в каждом из разделов.
В первом разделе собраны известные “новомирские” статьи И. Сурат, писавшиеся в преддверии и во время известного 200-летнего юбилея Пушкина. Массовое гуманитарное сознание в России особенно зависит от “юбилеев” — “круглых дат” того или иного “вчерашнего солнца”: именно к “юбилеям” принято воздавать этому “солнцу” почести или клеймить тех, кто осмелился не до конца понять его “значимость”. И, конечно, утверждать это “солнце” как “нашего современника”… Автор — в духе того популярного журнала, где статьи печатались, — обращала внимание прежде всего на последний тезис.
Все это здорово — но былое “журнальное” рассуждение, ставши частью научной книги, вдруг обнаруживает “приблизительность”. Вот — среди вполне “правильных” суждений о пушкинской биографии и задачах по ее созданию — встречаем противопоставление двух “методик” ее создания: одна была заявлена П.И. Бартеневым, другая — П.В. Анненковым, а “в советское время” пушкиноведение-де пошло “по бартеневскому пути” (с. 15). Но через несколько страниц заявляется о порочности “целой исследовательской традиции”, которая идет уже от Бартенева и Анненкова вместе взятых (с. 15)… Как-то “сводить” подобные расхождения в публицистике не принято… Или даже доказывать. Вот “обвинение”, предъявленное к известной биографии Пушкина, созданной Ю.М. Лотманом: она-де “имела целью не исследовать жизнь Пушкина, а проиллюстрировать достижения семиотики” (с. 16). Но кажется, что эта “цель” “придумана” самой И. Сурат, — а Лотман все-таки думал прежде всего именно о Пушкине.
Только в пределах “околонаучной” публицистики можно, рассуждая о последней дуэли Пушкина, порадоваться тому, что “Бог не попустил ему убить человека” (с. 56). Или на нескольких страницах скорбеть о его “бесчувственном теле”, похороненном хоть и в соответствии с его желанием, но без “почестей” (с. 52—53). Или представить “околостихотворный” окрик митрополита Филарета по поводу гениального стихотворения “Дар напрасный, дар случайный…” как восхитивший Пушкина своей “поэтической выразительностью” (с. 73). Или назвать вполне конкретную полемику западников и славянофилов “нескончаемой тяжбой о России” (с. 101). Или противопоставить известной “уваровской” идеологической формуле “православие, самодержавие, народность” придуманную якобы “пушкинскую” формулу: “свобода, просвещение, монархия” (с. 107 — ей-богу, “уваровская” формула много точнее и исторически определеннее!).
Исследования отдельных произведений (в основном, пушкинской лирики 1830-х гг.) кажутся гораздо интереснее. Но опять-таки не свободны от ненужных публицистических парафраз и восклицаний о том, как похожи по-диктова. “Поколение Фета” это не смертные маски Пушкина и Паскаля испортило… (с. 133 — как будто это “сходство” что-то доказывает!). Или об особенном “ясновидении поэта” (с. 140 — для пущей важности эта фраза дана даже большими буквами!). Или о том, что в пушкинском бытии “Промысел явил себя в виде зайца” (с. 177). Не знаю как другие, а я уже изрядно устал от подобных словоизвержений в трудах современных пушкинистов.
И от многословия — тоже устал. И. Сурат в своей книге, например, шесть раз — то полностью, то во фрагментах — по разным поводам процитировала большое стихотворение Пушкина “Легенда” (“Жил на свете рыцарь бедный…”). И соотнесла его со множеством разных (в основном, пушкинских же) текстов — так что я уж совсем запутался в этой массе взаимоисключающих исследовательских вариаций…
При этом я вовсе не являюсь противником тех публицистических идей, которые собраны в этой книге. Напротив, помню, как меня десять лет назад восхитила публицистическая статья И. Сурат о прошедшем пушкинском юбилее: под многими ее положениями я сам был готов подписаться. Действительно, “патологическая надсадность последних пушкинских торжеств прямо свидетельствует о какой-то серьезной общественной болезни” (с. 521) — никуда не денешься.
Но десять лет прошло — а автор, без изменений перепечатывая этот давний лозунг в своей научной книге, как будто упрямо не хочет видеть, что кое-что изменилось и что “общественная болезнь” как будто уже прошла “критическую стадию”.
А некоторые прогремевшие тогда утверждения вовсе нынче кажутся несерьезными. О том, например, “что поколение, выбравшее Пелевина, ни Пушкина, ни Толстого читать никогда не будет” (с. 523). Где они сейчас, эти представители “стремительно ветшающего” (с. 541) нового поколения, как будто “заменившего” вечную ценность Пушкина? И ничего особенного, когда нынче среди всех поэтов более всего знают и чествуют каких-нибудь И. Резника или Л. Рубальскую: таковы законы массовой культуры. А от Пушкина не убудет, как не убыло и тогда, когда заявляли, что Бенедиктов “почище Пушкина-то будет”, когда студентами Фет и Ап. Григорьев “завывали” над стихами модного Бене
И разве в том дело, что двадцать лет назад филологические книги расходились стотысячными тиражами, а нынче и тысяча — большой тираж? Что это, в сущности, меняет в жизни профессионала, ставшего “маргиналом”? В рецензируемую книгу включено замечательное эссе И. Сурат о покойном А.П. Чудакове (вот уж кто никогда себя “маргиналом” не чувствовал!). И сформулирована его позиция: “Жить — это делать то, что другой за тебя не сделает” (с. 545).
Может быть, попробовать жить именно так — а не витийствовать по поводу “вчерашнего солнца”?
В.А. Кошелев
Терехина В.Н. ЭКСПРЕССИОНИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА: ГЕНЕЗИС. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ. ПОЭТИКА. — М.: ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2009. — 320 с. — 800 экз.
Исследование В.Н. Терехиной посвящено генезису русского экспрессионизма, который рассматривается как господствующий стиль в отечественной литературе начала 1920-х гг. В.Н. Терехина исходит из сложившегося в советском литературоведении противопоставления стиля и метода, деидеологизируя его и превращая в способ описания литературной эволюции. В ее книге утверждается, что Есенин, Хлебников, Маяковский, Л. Андреев, Андрей Белый, принадлежа к различным школам и течениям, тяготели к экспрессионистской образности. Основное внимание автор уделяет тем движениям в русской литературе, появление которых отмечено манифестами и декларациями (эти документы часто приводятся полностью). Поэтому в центре исследования находятся поэты, в том числе малоизвестные или почти неизвестные, которые выступали с оригинальными заявлениями, тогда как экспрессионистские черты русской прозы этого времени рассматриваются мимоходом, часто просто со ссылкой на критиков, находивших параллели между немецкой и русской экспрессионистской прозой. Так, даже Б. Пильняк и Вс. Иванов упоминаются в основном тексте всего по разу, а Е. Замятин изображается прежде всего как летописец своей эпохи, времени разрыва привычных связей между людьми.
В книге содержится немало важных наблюдений над тем, как формировалось содержание самого термина “экспрессионизм”. В.Н. Терехина указывает, что термин “импрессионизм” как средство самопознания русской литературы не прижился, что облегчило употребление новомодного термина “экспрессионизм”. Зарождение экспрессионистской эстетики в России В.Н. Терехина связывает с музыкой Скрябина и Стравинского и художественно-пропагандистской деятельностью В. Кандинского. Исследовательница указывает на то, что именно склонные к экспрессионистской эстетике русские художники и критики открыли древнерусскую икону, которую они противопоставили привычной пластичности образа. Для них условная геометрия и резко контрастная цветовая гамма иконы передают мерцающее содержание путем намеков, которые никак нельзя соотнести с привычными формами чувственной перцепции. Также рассматривается культ “Расеи” у В. Каменского, Б. Григорьева, В. Хлебникова, которая была для них воплощением непреодолимого душевного разлада, более того, внутренней дикости. Подобный разлад может быть преодолен только благодаря постоянному культурному творчеству (с. 52).
В.Н. Терехина анализирует как образец экспрессионизма прозу Л. Андреева, выводя его стиль из особенностей характерологии: если герои становятся олицетворением идей, то и само изображение предметного мира становится спиритуализованным, основанным на выразительных парадоксах воплощения идеи. В подтверждение своему предположению В.Н. Терехина рассматривает возможные преломления образов Л. Андреева в поэзии Маяковского. Совершенно иначе подходит исследовательница к творчеству Андрея Белого — она полагает, что трудно провести границу между Белым-поэтом и Белым-прозаиком, и поэтому считает главным в его творчестве не идейную переполненность, а “субъективизацию” (с. 75), которую вернее было бы назвать интериоризацией, превращением реальных образов в сны, а снов — в видения, как это и описывает исследовательница.
На протяжении большей части книги идет речь о размытости таких понятий, как “акмеизм”, “футуризм” и “имажинизм”, о том, что к каждому из этих направлений принадлежали авторы, резко различающиеся по “стилевым основам творчества” (с. 85), и что многие из них были захвачены экспрессионизмом. Экспрессионистскими В.Н. Терехина называет “фольклорный мир упырей, нежити, ведьм” в творчестве Нарбута и Хлебникова (с. 89), макабрические образы тупика сознания у М. Зенкевича, понимание искусства как набора “эстетических рефлексов” (которые заставляют экспрессионистски вести себя само тело поэта) у Д. Бурлюка. Усиленная театральность русского футуризма и стремление его решать метафизические задачи (в отличие от технизированного итальянского футуризма) также помогли усвоить экспрессионистский дух. Исследовательница отмечает, что и теоретики немецкого экспрессионизма поняли футуризм как своеобразное магическое предприятие по освобождению от старых привычек восприятия времени. Отмечает она также, что приемы абсурдного письма, созданные западным сюрреализмом и являющиеся крайним проявлением экспрессионистских сдвигов восприятия, были усвоены в России только обэриутами, и то в рамках эстетики примитива, а не эстетики нелинейного восприятия истории.
Отдельный раздел посвящен рассмотрению творчества Велимира Хлебникова как своеобразного апофеоза русского экспрессионизма. Центральным моментом его творчества В.Н. Терехина считает магию чисел, которые признаются поэтом “сущностней слова” (с. 135), и из этой особенности хлебниковского миросозерцания реконструируется его диалектика “ничто” и “сущности”, которая совпадает с видением войны и современной цивилизации у немецких экспрессионистов. Хлебников отличается от последних только взрывной образностью, происходящей от умения слиться “с природой в анонимном небытии” (с. 145).
Творчеству Маяковского посвящена целая глава, в которой его “трагедия” “Владимир Маяковский” сближается с экспрессионистской “Я-драмой” (Ich-Drama), а пафос вывесок в ранней лирике рассматривается не просто как техника временных и пространственных сдвигов, но как попытка передать то же состояние ужаса, что и у экспрессионистов, только на материале большого города. Также и лубочный элемент в творчестве Маяковского рассматривается как манифестация “сделанности” произведения, то есть радикального и вполне экспрессионистского смещения смысла формы (здесь В.Н. Терехина делает интересный ход, беря в качестве фона эссеистику В.В. Розанова с ее не менее отстраненным отношением к форме и образу автора). Кроме того, по мнению В.Н. Терехиной, “стремление соединить творческий эксперимент и политическую активность” сближало поэта “с деятельностью активистского крыла экспрессионистов” (с. 195), хотя здесь исследовательница говорит больше о реакции западных деятелей искусства на русскую революцию, чем на совпадения интуиций и целей.
Весьма важна последняя глава книги, посвященная экспрессионистским группам, — в ней в научный оборот вводятся ценные архивные документы и малоизвестные стихи и манифесты. Здесь можно найти сведения о поэтах, принявших слово “экспрессионизм” как самоназвание (Ипполит Соколов, Борис Земенков, Евгений Габрилович, Борис Лапин, Сергей Спасский и др.), и рассмотрена история краткосрочных объединений (фуисты, эмоционалисты). Весьма интересно, что в этих группах смещение образности отразилось не в видении истории, а в видении тела: пресловутый “беременный мужчина” Д. Бурлюка стал предвестием большого количества заявлений о необычайной творческой продуктивности вида искаженных тел, которая никак не связана с прежним бытовым статусом тела. В общем-то незатейливые соматические ощущения, иногда даже остатки романтических штампов, а не переживание нового тела истории, оказались единственным содержанием деятельности этих мелких групп.
Проницательнее всего оценил немецкий экспрессионизм, как оказалось, М. Кузмин. Он развил важную тему экспрессионизма — тему двойничества как компенсации происходящего исторического провала и одновременно предельного отстранения от привычных форм и сопровождающих их штампов. Впрочем, как выясняется, Кузмин оказался одинок, и в основном русский экспрессионизм реализовывался после 1923 г. в театральной практике.
К недостаткам книги можно отнести слишком частое упоминание о том, что русские авторы, склонные к экспрессионизму, сочувствовали человеку и не принимали машинную цивилизацию. Если бы эта мысль была истолкована в том же контексте, что и другие идеи книги, она была бы уместна, а так она может увести читателя по ложному пути: от системного понимания экспрессионизма к сентиментальному. В книге остались не убраны некоторые следы переработки диссертации (“разработанные в диссертации положения”, с. 17). Также можно отметить общий недостаток многих отечественных монографий — не указываются названия цитируемых стихотворений.
Александр Марков
Лейдерман Н.Л. ТЕОРИЯ ЖАНРА: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗБОРЫ. — Екатеринбург: ИФИОС “Словесник” УРО РАО; Урал. гос. пед. ун-т., 2010. — 904 с. — 500 экз.
“Теория жанра” — итоговая книга Наума Лазаревича Лейдермана, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. И, к сожалению, последняя его книга, которую он успел подержать в руках.
В аннотации книга названа “опытом построения системной теории жанра”. “Опыт” этот включает в себя: обоснование представления о функциях жанра как важнейшей категории художественного творчества, его “абсолютно необходимого, неизбежного” закона; описание теоретической модели жанра; выявление особенностей построения “образа мира” как “сокращенной Вселенной” (Наум Лазаревич любил эту щедринскую формулу) в основных жанрах эпоса, лирики и драмы; раскрытие значения жанра как одного из важнейших механизмов историко-литературного процесса.
Наряду с теорией жанра в книгу включены жанровые “разборы”, которые, по замыслу автора, должны стать ее “контрольной проверкой”. В то же время возникает и обратная связь: жанровые анализы тех или иных произведений позволяют “наглядно” уяснить суть тех или иных теоретических положений, выдвигаемых исследователем. Так, бахтинское понятие “память жанра” уточняется, наполняется конкретным смыслом в ходе анализа “Реквиема” А. Ахматовой, когда исследователь показывает, как в структуре поэмы “прорастает” память жанра народного причитания — материнского плача о погибшем сыне, шире — “распятом” в годину сталинского террора народе, наполняя ее (поэму) возвышенноскорбным и одновременно мужественным чувством. Или, анализируя повесть В. Астафьева “Пастух и пастушка”, Н.Л. Лейдерман выявляет, что происходит, когда в диалог с современным жанром вступает пастораль — излюбленный жанр сентиментализма, какой художественный эффект возникает, когда наивно-идиллический, хрупкий и нежный мир пасторали вступает в конфликт с жестоким и кровавым апокалипсическим миром войны, спастись в котором помогает только “любовь как универсальный принцип подлинно человеческого, то есть одухотворенного, бытия” (с. 162).
Идя в объяснении специфики жанров от их родового смысла, Н.Л. Лейдерман предлагает читателю целую “россыпь” жанровых анализов. Обращаясь к эпосу, исследователь выделяет его основные жанры. Рассказ — емкую жанровую форму, цель которой — “в одном-единственном миге собрать, понять и объяснить всю жизнь”. Рассматриваются “Судьба человека” М. Шолохова; рассказы В. Шукшина (герои-“чудики” которых предстают в их “мучительных и сложных исканиях смысла жизни”). Новеллистический цикл, воссоздающий мир как “мозаику” и в то же время в его противоречивом и сложном единстве (“Конармия” И. Бабеля, “трагический пафос” которой, по мнению автора книги, к сожалению, “не уловлен” и “не освоен” “ни современниками, ни потомками”, с. 233). Повесть — жанр, сосредоточенный на выявлении “самых “болевых” проблем из массы вопросов времени” (“городские повести” Ю. Трифонова с их главной темой “человек и история”). Роман с его поисками “всеобщей связи явлений” (“Города и годы” К. Федина, изображающие разлад “исторического бытия”, жертвами которого становятся “наиболее душевно чуткие, наиболее порядочные люди”, составляющие “совесть общества”; трилогия К. Симонова “Живые и мертвые” — “опыт несостоявшегося синтеза”, произведение, утверждающее “человечность… как высший критерий исторической целесообразности”, с. 297).
Обращаясь к лирике, автор книги главным предметом своего внимания делает элегию, в которой с наибольшей отчетливостью запечатлелась специфика рода как “царства субъективности” (В.Г. Белинский). Элегия, в понимании исследователя, — “старший жанр” (Ю.Н. Тынянов), или метажанр, воздействие которого испытывают все другие лирические жанры. В трактовке Н.Л. Лейдермана элегия выступает как жанр изначально глубоко драматический, осваивающий вечную коллизию всего жизненного пути личности — человек и смерть (срабатывает “память жанра”). Есть что-то интимно-личное в том, как анализирует Наум Лазаревич элегическую лирику Николая Заболоцкого, “основной вектор духовных исканий” которого он видит в “неустанном раздумье о тайне жизни и смерти”. Тот же метасюжет исследователь находит и в лирической книге (рассматриваемой как жанровое образование крупной формы) О. Мандельштама “Камень”: “…борьба со смертью ради сохранения <…> своей духовной субстанции как высшей ценности” — это “универсальная “модель” процесса духовного самоопределения человека в бесконечном и тревожном мире” (с. 421).
Проясняя “константы драматического рода”, Н.Л. Лейдерман подвергает анализу философскую драму М. Горького “На дне” и творчество Н. Коляды, в аспекте его эволюции от трагифарса к “малоформатной” драме, выявляя специфику действия в разных жанровых образованиях именно как действия драматического: “…с мукой выбора и с грузом ответственности за него, с платой судьбой, а то и всей жизнью” (с. 477).
Исследователь стремился, прежде всего, выявить общую, свойственную разным литературам (и культурам в целом) закономерность развития, обнаруживая ее в смене разных моделей мира (за ними стоят разные типы ментальности) — космографической и хаографической, — осваиваемых искусством. А значит, в процессе этого освоения разные модели получают воплощение в различных жанрах, в свою очередь входящих в жанровые системы, которые складываются в разные историко-литературные циклы. Обозревая историю европейской цивилизации, Н.Л. Лейдерман приходит к выводу, что оппозиция “Космос — Хаос” является “семантической основой циклической смены основных типов культуры”, что “борьба между Космосом и Хаосом” — “универсальная формула глубинной сущности всех конфликтов в искусстве” (с. 506). В свете этого жизнь и смерть, добро и зло, человечность и бесчеловечность, противостояние которых обнаруживает автор книги в самых различных произведениях литературы, выступают как универсальные категории, охватывающие самые сущностные противоречия бытия. А значит, сквозь житейское и повседневное в произведениях начинает просвечивать вечный, вневременной план.
В “координатную сетку Большого Времени” вмещена в книге литература XX в., которая всегда была главным объектом изучения Н.Л. Лейдермана. Литература бурного, катастрофического и богатого на художественные открытия столетия рассматривается в сложной и противоречивой динамике, в сосуществовании и смене различных направлений, потоков, течений: модернизма и авангарда, соцреализма и постреализма, исследуемого в его взаимоотношениях с постмодернизмом.
Разборы, а их в книге много (анализу подвергаются поэмы В. Маяковского и М. Цветаевой, “Русский лес” Л. Леонова, “В круге первом” А. Солженицына, “Доктор Живаго” Б. Пастернака, произведения позднего В. Катаева, “Колымские рассказы” В. Шаламова, лирика И. Бродского… — словом, классика XX в., а также произведения новейшей литературы — М. Харитонова, Л. Петрушевской, В. Маканина, поэзия Вениамина Блаженного и др.), помогают читателю представить масштаб литературного процесса недавно минувшего и начавшегося нового века, увидеть его глубинные закономерности и основные тенденции.
“Теория жанра” — это книга-диалог, увлеченный и очень заинтересованный, который Н.Л. Лейдерман ведет с учеными разных стран, прошлого и настоящего, коллегамисовременниками, учениками, которых он уважительно именует своими соавторами. Убежденный в том, что “исследования теоретического характера, в принципе, не имеют завершения” и “здесь последняя строчка — не финиш, скорее приглашение на старт”, Н.Л. Лейдерман завершает книгу “открытым финалом”, формулируя основные проблемы, “возбуждаемые” теорией жанра и требующие, по его мнению, своего разрешения.
Последняя фраза: “Они, надеюсь, станут предметом научных интересов новых исследователей” — воспринимается как научное завещание Наума Лазаревича. Как выражение его надежды на новое поколение исследователей: “И если эта книга окажется им хоть в чем-то полезна, буду считать свою работу не напрасной”.
С.И. Ермоленко
Миленко В. АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 327 с. — 4000 экз. — (ЖЗЛ. Вып. 1426).
Букчин С.В. ВЛАС ДОРОШЕВИЧ: СУДЬБА ФЕЛЬЕТОНИСТА. — М.: Аграф, 2010. — 703 с. — 2000 экз. — (Символы времени).
Конец XIX и начало ХХ в. в русской литературе — это эпоха иллюстрированного журнала и газеты. Число их постоянно росло, спрос на журналистов был высок, и в периодике работали тысячи людей. Большая часть их — безвестные литераторы, газетные поденщики и скромные труженики, и лишь очень немногие обрели широкую известность и даже славу у современников. Однако такая известность, обретаемая за счет актуальности и нередко сиюминутности, влекла за собой быстрое забвение после смерти. Если журналисты и попадали в университетские учебники, то только упоминанием или одной строкой; если и удостаивались научных работ, то статей, но никак не монографий.
Лишь в последние годы ситуация меняется. Недавно вышли две книги о “королях смеха” начала ХХ в. — Аркадии Аверченко и Власе Дорошевиче.
Их знала и читала значительная часть читательской аудитории России, популярность их была очень высока, и получали они фантастические гонорары (у Дорошевича в газете “Русское слово” он достигал 48 тысяч рублей в год — никто из русских литераторов не получал за свой труд таких денег; Аверченко зарабатывал до 10 тысяч рублей в год, тоже сумма немалая, больше, чем у университетскoго профессора).
Оба литератора были чрезвычайно тесно связаны с социально-политической и культурной ситуацией начала ХХ в. и с читателем того времени.
Оба, по сути, не нашли себя после революции и рано умерли (Дорошевич в 1922 г. в возрасте 57 лет, а Аверченко в 1925 г. в возрасте 45 лет).
До последнего времени крупнейшему русскому юмористу начала ХХ в. была посвящена только одна книга — “Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко” Д.А. Левицкого (М., 1999), обстоятельный научный труд, написанный еще в 1969 г. и тогда же защищенный в качестве докторской диссертации в Пенсильванском университете. При всех достоинствах этой работы у нее был существенный недостаток — автор не работал в советских архивах; кроме того, за 40 лет книга устарела и концептуально. Виктория Миленко (севастопольский литературовед) предприняла попытку создать новую, более подробную и более широко документированную биографию писателя. Она работала в нескольких архивах (РГАЛИ, ОР РГБ, ОР ИРЛИ, ОР ГЛМ), ознакомилась с прессой периода революции и Гражданской войны (малодоступной Левицкому), побеседовала с потомками Аверченко, учла появившиеся за истекшие годы публикации, посвященные Аверченко, и получилась живо написанная и в то же время неплохо документированная биография.
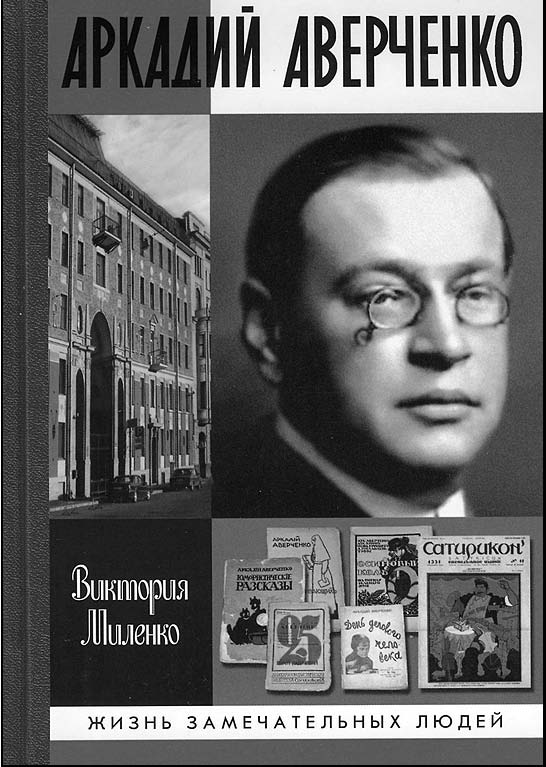
Правда, иногда автор увлекается и включает слишком обширные пассажи о своих разысканиях (в духе Ираклия Андроникова) или целиком цитирует стихотворения Саши Черного, Н. Агнивцева, В. Князева (с. 73—77) и т.п.
Отметим и некоторые неточности (их, впрочем, немного). Автор указывает, что под псевдонимом Старый журналист писал О.Л. Д’Ор (с. 81). Но О.Л. Д’Ор — это тоже псевдоним. Настоящая фамилия автора — О.Л. Оршер.
Газета “Новое время” вовсе не придерживалась “почвеннического направления” (с. 92). Она была сервильной, антисемитской, но при этом вела умеренно либеральную линию и отстаивала необходимость реформ.
На с. 93 автор называет начальника Главного управления по делам печати А.В. Бельгарда сенатором. Но это неверно, сенатором Бельгард стал только тогда, когда покинул указанный пост.
В целом биография автору удалась, если считать биографий фиксацию внешних событий жизни. Но автор почти не пытается описать динамику внутреннего мира писателя (как из не получившего никакого формального образования и проведшего детство и юность в провинции молодого человека вырабатывается писатель? Какие внутренние напряжения порождают тягу к юмористической литературе?). А ведь литературная карьера Аверченко весьма необычна для того времени. Начав работать в 16 лет, он 11 лет провел на конторской службе (сначала на руднике в Донбассе, потом в Харькове). И хотя Аверченко печатался в харьковской периодике, но уехать в Петербург и стать литератором-профессионалом — на такой шаг решался далеко не каждый. А Аверченко уже через несколько месяцев стал редактором столичного юмористического журнала, а через пару лет — популярнейшим писателем-юмористом.
Литературное же творчество — важнейшую часть жизни любого писателя — В. Миленко практически не характеризует, по сути почти закрывая возможности зафиксировать и осмыслить духовные искания Аверченко, пути обретения им оригинального видения мира и выражения его в специфической художественной форме.
Книга белорусского исследователя С. Букчина “Влас Дорошевич: Судьба фельетониста” — труд гораздо более основательный. Автор более четырех десятков лет изучает жизнь и творчество “короля фельетонистов” и еще в далеком 1975 г. выпустил пионерскую для того времени посвященную ему монографию “Судьба фельетониста”.
Нынешняя книга втрое больше по объему, да к тому же написана она без оглядки на цензуру, так что значение ее трудно переоценить.
Каждый, кому приходилось писать о журналистах, знает, насколько это трудоемкая работа: приходится просматривать массу публикаций в периодике, причем не только своего “героя”, но и его оппонентов, и его друзей-мемуаристов, и т.д. Хорошо еще, если доступен личный архив персонажа (как, например, у А.С. Суворина) — ответы на многие вопросы можно получить там. А что делать, если архив не сохранился (как это произошло с Дорошевичем, о чем автор подробно пишет в первой главе своей книги)? Приходится выуживать информацию из периодики, из мемуаров, даже из художественных произведений самого журналиста и его современников (например, А.В. Амфитеатров вывел Дорошевича в одном из своих романов).
Букчин эту работу проделывает, сопоставляя разные источники и реконструируя (пусть в ряде моментов раннего периода деятельности Дорошевича и гипотетически) жизненный путь писателя. Книга густо насыщена документальным материалом: цитаты из документов, цитаты из воспоминаний, цитаты из произведений Дорошевича.
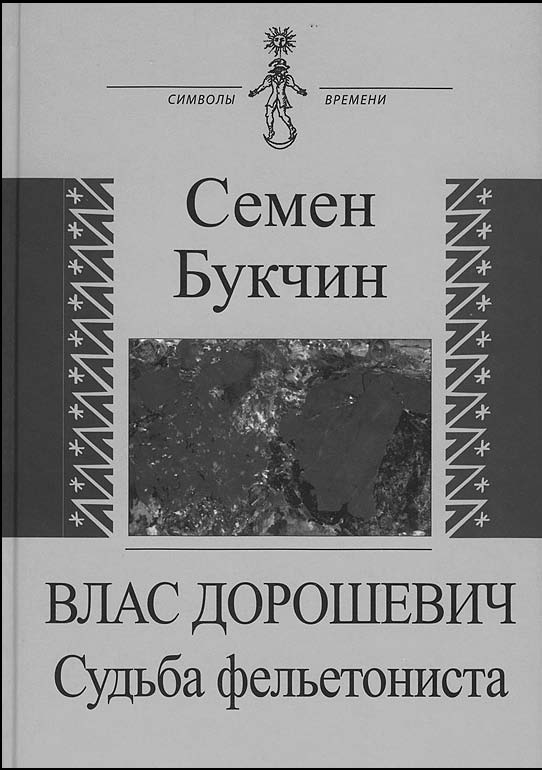
Жизнь Дорошевича складывалась непросто: мать его бросила, и он рос у чужих людей; в молодости жил впроголодь и перепробовал массу профессий, долго работал в низовой прессе. Многие журналисты из этой среды вели богемное существование, спивались, умирали от чахотки, а в лучшем случае всю жизнь занимались поденщиной, приносившей весьма скромные доходы. Вырваться и перейти в “солидную”, “настоящую” литературу и журналистику смогли немногие: Чехов, Амфитеатров, Дорошевич и еще несколько литераторов. Причем сделать это Дорошевичу было гораздо труднее, чем другим: Чехов и Амфитеатров, например, имели университетское образование, а Дорошевич и гимназию не закончил.
Букчин тщательно прослеживает, как Дорошевич от брошюр и переработок Гоголя для рыночных книгоиздателей перешел к сотрудничеству в известных иллюстрированных журналах, а потом и к амплуа известного фельетониста, за которого борются газеты, переманивая более высокими гонорарами. Любопытен анализ сделанных Дорошевичем обработок гоголевских повестей для лубочных изданий (с. 90—95).
Подробно описывает Букчин и деятельность Дорошевича в солидных газетах — “Одесском листке”, “России” и особенно в, по сути, созданном им, точнее, превращенном в лучшую русскую газету “Русском слове”, которым он руководил 15 лет. Выразительно обрисованы взаимоотношения Дорошевича с очень ценившим его издателем “Русского слова” Сытиным, с другом-соперником журналистом А.В. Амфитеатровым и с женами (от безвестной алкоголички до актрисы О.Н. Миткевич).
Несколько смущают при чтении нотки панегиризма, хотя Дорошевич был человеком сложным и не лишенным отрицательных черт, и в творчестве не был свободен (как любой много пишущий журналист) от постоянных самоповторов, заигрывания с публикой, компромиссов с властями и т.д. При чтении встретилась и одна ошибка — псевдоним Д.К. Ламанчский принадлежал не Дорошевичу, как утверждается на с. 120, а Н.М. Ежову.
Но это частности. В целом же мы получили ценный труд, в котором подробно рассмотрены различные этапы и аспекты деятельности Дорошевича.
Можно только посетовать, что до сих пор никто не проделал аналогичную работу применительно к другим известным журналистам того времени — А.В. Амфитеатрову, И.И. Ясинскому, М.О. Меньшикову, В.О. Михневичу, В.П. Мещерскому, Вас.И. Немировичу-Данченко и др.
А. Рейтблат
Harte Tim. FAST FORWARD. THE AESTHETICS AND IDEOLOGY OF SPEED IN RUSSIAN AVANT-GARDE CULTURE, 1910—1930. — The University of Wisconsin Press, 2009. — 318 p.
Мы говорим о росте скорости современной жизни. Но не увеличилась ли скорость в гораздо большей степени в конце XIX — начале XX в.? Разница в скорости между 100 км/ч самолета братьев Райт и 900 км/ч реактивного “Боинга” меньше, чем различие между прикованностью к земле и полетом. И вспомним, как пугались первые зрители двинувшегося на них изображения поезда. Скорость тогда стала использоваться и в промышленности — от конвейера до поставок мяса на быстроходных кораблях-рефрижераторах из лежащей на другом конце света Новой Зеландии. И полет в воздухе через двадцать лет оказался обычным для многих, а космос таким обычным за полвека так и не стал. Причем, если даже в динамичной промышленной Англии в свое время сомневались, может ли человек выдержать развиваемую поездом скорость в 20 километров в час, если рост скорости жизни рассматривался, например, Максом Нордау как ведущий к дегенерации, нарушению нормальных процессов восприятия и реакции, то для России начала ХХ в. скорость стала шоком. Книга Тима Харте посвящена восприятию скорости в русском авангарде.
Харте утверждает, что скорость помогла прийти к абстрактному искусству — через все более обобщенное восприятие быстро движущихся образов. Скорость перемены пейзажей в окне поезда открыла дорогу не только нефигуративной живописи, но и неповествовательной поэзии фрагментов и смысловых сдвигов, монтажному кинематографу (с. 12).
В европейской культуре скорость во главу угла ставил не только футуризм, и книга открывается хорошим обзором иностранных авангардных течений вплоть до вортицизма, работ Сони Делоне и Сандрара. Первым из русских поэтов назвал себя футуристом Игорь Северянин — очевидно, здесь речь шла об очень внимательном слежении за модой. Но в художественной практике расхождения русского и итальянского футуризма накапливались очень быстро. Отношение к скорости у русских футуристов также, в отличие от Маринетти и Боччони, было неоднозначным. Маяковский, при всем упоении техникой, отмечал и такие последствия нарастания скорости, как головокружение и дезориентация. А тяготевшие к архаическим пластам языка Хлебников и Крученых явно предпочитали более спокойные миры. В итальянском футуризме скорость объединялась с войной и риторикой насилия, русский футуризм в основном был антивоенным (с. 127).
Русские футуристы критиковали динамизм Маринетти как механический, их динамизм имел более философский (порой мистический) характер (с. 39—40). Скорость сознательно связывалась с языком и свободой (например, в “Освобождении слова” Б. Лившица). Причем динамизм следовал из освобождения слова, поэзии семантических сдвигов, алогичности. И. Зданевич говорил о типе скорости, воспринимаемом не зрением, а интуицией (с. 125). Требованию Маринетти устранить из литературы психологию противопоставлялась идея нового “я”, которое могло бы встретиться со скоростью современного мира (с. 54). Видели, еще до футуризма, и оборотную сторону скорости — еще А. Белый в 1907 г. говорил о беге к могиле (с. 42). Если рост динамизма и не вел прямо к росту насилия, то он вел к росту насилия над восприятием, с которым нелегко было справиться человеческой психике.
Харте справедливо отмечает, что порой настойчивое акцентирование скорости может вызвать противоположный эффект, замедления, когда быстро сменяющие друг друга образы вынуждают читающего медленно пытаться разобраться в этой смене (с. 28, 75). Но, с другой стороны, невозможно и вызвать ощущение динамики простым упоминанием, прямолинейным описанием скорости. Книга обращается к такому значимому, но, к сожалению, редко исследуемому в России автору, как В. Шершеневич. Фактически это иная ветвь футуризма, западно-ориентированная, в отличие от опоры Хлебникова и Крученых на славянские корни языка (с. 69). Прыжки от одного образа к другому в стихотворении Шершеневича 1913 г. аналогичны киномонтажу (с. 47). Но Шершеневич распространял идею фрагментарности далее, говоря о душе как множестве несклеенных фрагментов (с. 60), откуда исследователь мог бы провести аналогии даже с шизоанализом Делёза и Гваттари.
Отношение авангарда к скорости, видимо, противоречиво. Едва ли прямо связаны со скоростью, например, “Железобетонные поэмы” В. Каменского, где ритм текста в очень большой степени подчинен графическим рамкам фрагментов. Городская жизнь у раннего Маяковского — скорее нервное напряжение, чем скорость. И Харте отмечает, что Маяковский колеблется между скоростью и медленностью (с. 50). Возникает впечатление, что книга касается сложного комплекса проблем: динамизма, свободы, напряжения, раздробленности личности и т.д., и кажется некоторым упрощением сводить все это к скорости, хотя в начале исследований такие упрощения, видимо, неизбежны.
Одно из направлений русского авангарда, уходившего все далее от фигуративной живописи, а именно работы Ларионова и Гончаровой, базировалось на примитиве, лубке, то есть медленной архаике, а вовсе не скорости. Ларионов усматривал корни абстракции и в иконе (с. 105). Соответственно в работах Ларионова отношение к скорости далеко от восторженного, вплоть до иронической демонстрации бега на месте (с. 111). Интересна проводимая Харте аналогия супрематизма и основанной на архаике заумной поэзии, когда в обоих случаях скорость переходит в потенциальную, а не актуальную форму (с. 138). Но Малевич вообще много говорил о космическом динамизме в теории, при том что его формы на практике становились все статичнее. Может быть, скорость, оторванная от подробности предметов, застывает? Что произошло не только у Малевича, но и у Ольги Розановой, например. Абстрактное искусство в своей основе имело не только динамику, но и идею освобождения красок и форм (аналогично освобождению слова в поэзии) — к сожалению, Харте об этом не пишет.
Интересно, что в русском кинематографе (в отличие от живописи и поэзии) авангард появился только в начале 1920-х гг. В первые годы после революции даже пропагандистское кино стремились делать не слишком динамичным из опасения, что зрители иначе его не воспримут (с. 165). Видимо, книга Харте обнаруживает все же существующие внутренние перегородки в культуре, то, что преемственность между искусством для массового и для индивидуального восприятия достаточно сложна. Хотя Харте и пишет, что поэзия Маяковского — прецедент для работы Вертова с образами и ритмами (с. 194), он отмечает, что на изменения в советском кино начала 1920-х гг. более повлияли Гриффит и другие американские режиссеры, а не поэзия и живопись футуризма (с. 173). С другой стороны, Малевич сравнивал фильмы Эйзенштейна с картинами передвижников (с. 196), вряд ли в лексиконе Малевича было более сильное оскорбление. Кино стремилось к демонстрации движения в конкретных образах, а не его умопостигаемо-супрематистской репрезентации.
В ранние годы советского периода движение все более переносится от тела к механизму (например, в работах Татлина). Идея синтеза машины и человеческого тела послужила основой для конструктивизма — но и для советской производственно-идеологической эстетики. Надеялись, что городской динамизм станет пространством роста нового будущего (с. 45). Но власть все более брала скорость под контроль и упрощала ее. Харте приводит цитату из Катаева, где героя неприятно поражает анархия нескоординированного движения поезда, велосипедиста, пешехода… Скорость все более сводилась к скорости работы (смотри, например, “Время, вперед!” В. Катаева) (с. 29). А зрители, наблюдающие скорость на экране, вынужденно оказывались все пассивнее. Все кончилось фарсом брежневского “ускорения”. Все же скорость — не творчество, но только одно из его условий.
Александр Уланов
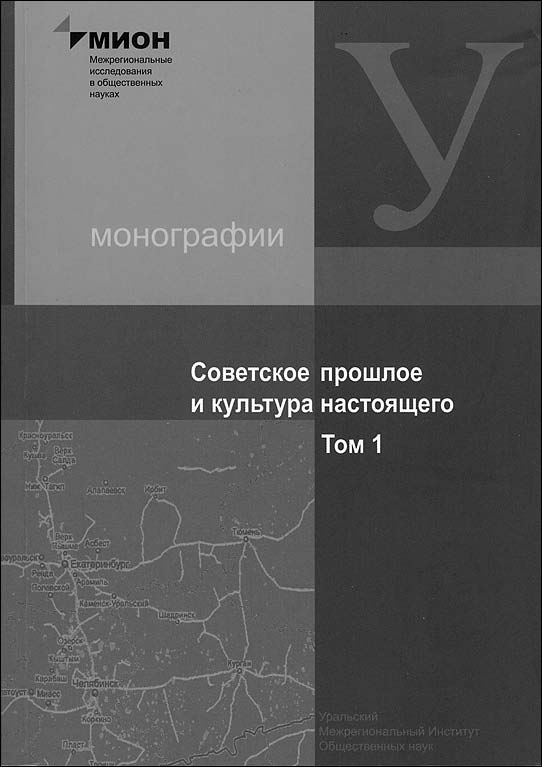
Содержание: Варавва В.В. Этический дискурс советской культуры и вопрос о целостно-смысловом единстве отечественной философии; Завершинская Н.А. Советское наследие в современной социальной политике России; Шабурова О.В. Ностальгия: стратегия коммерциализации, или Советское в гламуре; Смолина Н.С. Советская эпоха в современном интернет-пространстве: проблематизация коллективной идентичности поколения тридцатилетних; Кропотов С.Л. Реструктуризация советской городской среды: от заводских слободок к городу развлечений; Круглова Т.А. Ценности и символы коммунальной коллективности сквозь призму диалога поколений; Немченко Л.М. Традиции советского поэтического кинематографа в постсоветском кино; Гаспаров Б.М. Музыкальная генеалогия национального гимна; Литовская М.А. Социалистический реализм как предмет рефлексии постсоветской прозы; Полищук Я.А. Калькуляция советского прошлого в современной украинской беллетристике; Зырянов О.В. Судьба литературно-классического наследия в советскую эпоху: опыт ретроспективной оценки; Плеханова И.И. Проблема социальной справедливости в постсоветском сознании: версии литературы; Быков Л.П. Борис Рыжий: последний советский поэт? Ушакин С.А. “Смерть была жива и стояла на месте”: могилы режимов; Васильев И.Е. Деконструкция советскости в стихах концептуалистов; Попкова Н.Н. Приемы языкового сопротивления в иронической поэзии Игоря Иртеньева; Кривощапова Т.В. Бытование русского фольклора на территории Казахстана: жанры несказочной прозы; Блажес В.В. Советская идеология и фольклор; Чепкина Э.В. Повторение пройденного: дискурсивные практики советской журналистики в современной региональной прессе; Туксаитова Р.О. Советизмы в публицистике современного Казахстана; Каминская Т.Л. Советское наследие в читательском опыте адресата современных медиа (система образов изданий для разных целевых аудиторий); Гудова М.Ю. Советский шик и российский гламур: ценности и репрезентации; Ермоленкина Л.И. Аксиология коммуникативного поведения в оппозиционном дискурсе радио (на материале авторских программ радиостанции “Эхо Москвы”); Соломатина М.С., Стернин И.А. Прецедентные тексты и прецедентный стиль в современном агитационном дискурсе; Резанова З.И. Советский интертекст в дискурсе региональных СМИ: трансформации и функции; Амиров В.М., Майданова Л.М. Идеологема “Героизм советского народа” на фоне прошлых и современных войн; Ильина О.В. Представления о богатых и бедных (по данным районных газет Урала и Зауралья); Енина Л.В. Речевой портрет губернатора Э. Росселя: советская составляющая; Протасова Е.Ю. Строитель всегда строитель: культурные стереотипы советской эпохи и обыденные обстоятельства современности; Пикулева Ю.Б. О степени прецедентности советских культурных знаков в современной рекламе; Шмелев А.Л. Эволюция русской языковой картины мира в советскую и постсоветскую эпоху; Купина Н.А. Советские идеологические традиции сегодня; Мустайоки А. Ностальгия по советскому прошлому; Вепрева И.Т. Рефлексия советского как база для развития качественного значения лексемы “советский” в постсоветский период; Павлова Н.С. Лексема Sowjetunion как базовая идеологема немецкого языка ГДР (по материалам немецких газет 1950— 1990 годов); Санджи-Гаряева З.С. Современное состояние советизмов: словарь, семантические и функционально-стилистические изменения; Михайлова Ю.Н. Религионизмы в словарях советского периода: приемы манипуляции; Романенко А.П. Советская и постсоветская массовая словесная культура: общее и различное; Михайлова О.А. Советские лингвокультурные практики: вторжение в повседневность; Овчинникова И.Г. Постсоветский смысл советизма бомж; Шалина И.В. Советская составляющая уральской просторечной культуры; Шмелева Т.В. Советские имена улиц в современном городе; Голомидова М.В. Вербальные символы СССР в современной коммерческой номинации; Будаев Э.В., Чудинов А.П. Эволюция лингвистической советологии.
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПОЭТИКА И НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ. — Краснодар: Zarlit, 2010. — 255 с. — Тираж не указан.
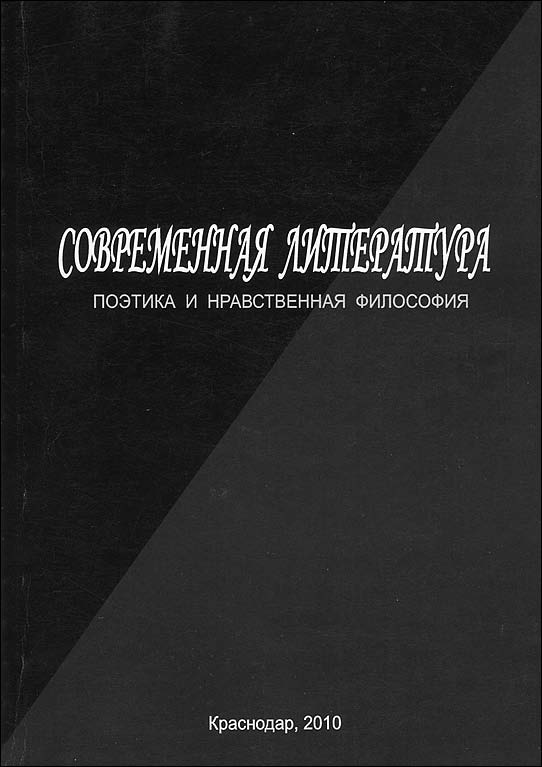
Содержание: Татаринов А.В. “Современная литература: поэтика и нравственная философия” как единый текст; Чумаков С.Н. Гомер и Барикко, или Как сегодня сделать “Илиаду”; Гончаров Ю.В. Испытание “зверем”, или Человек эпохи Apocalypsis (опыт эссеистского прочтения романа К. Маккарти “Дорога”); Блинова М.П. Особенности повествовательной структуры постмодернистского детективного текста (на примере романа А. Переса-Реверте “Фламандская доска”); Ветошкина Г.А. Вещь и человек в художественном пространстве Ч. Паланика (на материале романа “Беглецы и бродяги”); Носикова Е.С. Рассказ Х.Л. Борхеса “Deutsches requiem” в контексте работы Ф. Ницше “Антихристианин”; Фисун А.П. Особенности дискретного повествования в романе Х. Лунтиала “Последние сообщения”; Теплинская Е.С. Художественная модель человеческих отношений в романе Дж. Барнса “История мира в 10 1/2 главах”; Поддубская В.А. Буддистская картина просветления в произведении Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”; Муха А.П. О романе Л. Петрушевской “Номер Один, или В садах других возможностей”, или Попытка объять необъятное; Ротай С.В. Повествовательные стратегии в “романе-апокрифе” Эрнста Бутина “Се человек”; Ротай С.В. Идейно-художественный мир романа Андрея Лазарчука “Мой старший брат Иешуа”; Ямалтдинова Е.Р. Гностическая мысль в романе В. Сорокина “Путь Бро”; Гаврилова А.И. Повесть Михаила Веллера “Белый ослик” как литературный апокриф; Подзюбанов Е.В. Путешествие на край ночи: от Бодлера до Бегбедера; Арджанова А.А. Флоберовский код в творчестве Фредерика Бегбедера; Марушко Т.Н. Концепция рекламы в романах Ч. Паланика “Уцелевший” и Ф. Бегбедера “99 франков”; Хомухина А.В. Невозможность острова: эскапистские мотивы в творчестве Бегбедера и Уэльбека; Коваленко П.Ю. Сюжетика романа Дж. Джойса “Улисс” в современной литературе; Жарский Я.С. Лейтмотивы как средство сохранения распадающегося мира в произведениях Джеймса Джойса и Генриха Бёлля; Балабина Э.Л. Рассказы Г. Маркеса (“Ева внутри своей кошки”) и Х. Кортасара (“Лента Мёбиуса) в контексте магического реализма; Штейнбах К.В. Экстремизм героев Юкио Мисимы и Захара Прилепина; Ивашкина О.В. Г. Сапгир и Л. Рубинштейн: кенозис языка; Тавакалян Д.С. Мортальные настроения в поэзии Ю. Кузнецова и И. Бродского; Татаринова Л.Н. Православный роман Виктора Лихачева; Жукова П.А. Продуктивная горечь Юрия Кузнецова; Муха А.П. Павильон невзрачного серого цвета, или Мои размышления о Милораде Павиче; Мусиенко А.В. Поэтика барокко в рассказах Милорада Павича; Коломийченко А.С. Поэтика альтернативной прозы Чака Паланика; Гримова О.А. Онтологичность и дедуктивность поэтики М. Шишкина (роман “Взятие Измаила”); Болдырева Е.В. Владимир Сорокин: новый русский синкретизм; Юсупова Ю.Л. Джон Фаулз и пространство художественного текста; Гурская М.А. “Полезные советы по приручению вещей, времени и пространства”, или “Нестрашная смерть” в современной детской литературе; Руссо Т.Э. О “религии” Фредерика Бегбедера; Вислогузов В.К. О поэзии Виктора Цоя; Мороз О.Н. Проблема сомнения в творчестве Юрия Одарченко; Татаринов А.В. Проблемы современной литературы: импровизация; Татаринов А.В. Проблемы современной литературы: концепция.
Матченя С.Р. ПОЭТИКА АНГЛИЙСКОГО РОМАНА XVI—XVIII ВЕКА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ. — Псков: ЛОГОС, 2009. — 271 с. — 100 экз.
Внимание к гендерным аспектам литературы в отечественной гуманитарной науке не очень велико. Тем более важен первый, по существу, у нас опыт гендерного рассмотрения английского романа, предпринятый С.Р. Матченей. В своей монографии она использует опыт многочисленных западных феминисток—специалистов по британской литературе. Базовым уровнем понятия “гендер” в ее трактовке является оппозиция “вражда, соперничество полов / любовь и содружество”. Соперничество переживает два этапа — матриархат и патриархат, причем первый — при явном доминировании второго — остается заметным на протяжении последней тысячи лет, чему приводятся многочисленные убедительные примеры из “Роксаны” и “Молль Флендерс” Дефо, второго тома ричардсоновской “Памелы”, из повести Бекфорда “Ватек”, “Сицилийского романа” Анны Радклиф. Вводя в оборот новые для русского читателя имена писательниц Мэри Сидни (сестра автора романа “Аркадия”), Мэри Эстелл, Сары Филдинг (сестры романиста), Шарлотты Смит, автор книги пишет о важности темы борьбы женщин за свои права, о разнообразии ее форм и методов. Интересен также анализ творчества Афры Бен, первой писательницы-профессионала в британской литературе.
Второй уровень гендера автор усматривает в системе отношений внутри каждой половой группы, которые тоже сводятся к оппозиции “вражда — любовь”. При этом любовь внутри группы (сообщества) проявляется либо в виде дружбы, взаимопомощи, либо в форме гомосексуализма. Оказывается, однополая любовь давно уже получила отражение в английской литературе — в романе Дж. Лили “Эвфуэс”, “женских” романах Д. Дефо (“Молль Флендерс”, “Роксана”), отчасти в “Приключениях Перигрина Пикля” Т. Смолетта. Разновидностью любви внутри группы является и инцест, о котором упоминает еще Гамлет и который звучит как побочный мотив в “Томе Джонсе”, организует сюжет мелодрамы Г. Уолпола “Преступная мать”, является своего рода “кульминацией” в сюжете “Молль Флендерс”.
Третий уровень гендера (в искусстве он должен бы стоять первым) — это мифологический образ “Госпожи Природы” (Dame Nature). Здесь автору монографии, на наш взгляд, следовало раскрыть связь этого образа с фигурой Белой Богини, о которой так проникновенно пишет Роберт Грейвз. О Госпоже Природе пишут Д. Чосер, Беньян в “Пути паломника”, Дефо и другие авторы вплоть до Томаса Гарди. Забавно, что для Афры Бен, женщины вольного нрава, эта богиня была не столько почтенная Dame (Госпожа), сколько Mistress (слово, которое поанглийски имеет среди прочих и значение “любовница”).
Что же касается непосредственно анализа эволюции первых этапов английского романа, то мы находим в монографии много свежего и интересного материала, открывающего новые перспективы в изучении избранной темы. Так, та же Афра Бен предстает перед нами как талантливая женщина—сочинительница комедий эпохи Реставрации, владеющая интригой, мастерством диалога. В прологе к комедии “Пират, или Кавалеры в изгнании” (1677) она нападает на “жеманных мужчин”, пристрастных критиков, не желавших видеть женщину в рядах писателей, на плагиаторов и на сочинителей “развратных памфлетов и неприличных песенок” (хотя ее театральные персонажи сами не чурались крепкого словца). Стихия пьесы — это итальянский карнавал, который предстает у Афры Бен как “поле веселой и подчас грубой “войны полов”, принимающей смягченную форму игры, но иногда и злой “практической шутки”” (с. 53). Что же касается романа Афры Бен “Оруноко, или История царственного раба” (1688), то о нем спорят критики-феминистки Лаура Браун, Маргарет Фергюсон и Розалинда Балластер, хотя все трое соглашаются в том, что писательница “не может примирить между собою три уровня романного текста — расовый, классовый и гендерный” (с. 55). Но С.Р. Матченя полагает, что Афра Бен как раз “примиряла” между собой эти уровни, хотя не без известных издержек — ее книга представляет собой социальную мелодраму (первый антиколониальный роман), в которой сентиментальность причудливо соединяется с жестоким натурализмом (сцены гибели возлюбленных, которые обрисованы автором как “чернокожие Адам и Ева”). Много места уделено в исследовании концепции “женского” и “мужского” (“маскулинного”) текста. Эти типы текста не обязательно соответствуют гендерной принадлежности писателя. У Дефо, например, критики выделяют “мужские” романы (“Робинзон Крузо”, “Капитан Синглтон”, “Полковник Джек”) и “женские” (“Молль Флендерс”, “Роксана”). Дело не только в том, что в первой группе преобладают мужские характеры, а во второй — женские. Современные фрейдо-марксисты (Р. Виген, Э. Макклинток, Э. Кибби и др.) трактуют Робинзона как некоего “супермачо”, сексуально-метафорически одолевающего “женское тело” не только острова, но и почти всей “девственной” Америки! (с. 79). В противовес этим взглядам автор монографии концентрируется на образе Крузо как типичного носителя “островного” британского менталитета, отягощенного комплексами “первородного греха”, под которым герой понимает свою вину перед отцом, чьи заветы он нарушил.
Достаточно оригинальную трактовку получает в исследовании роман о Молль Флендерс, для истории которой писатель “придумал в качестве поворотного пункта мифологически окрашенную и связанную с проблемами гендера тему инцеста” (с. 101). Согласно оригинальной гипотезе С.Р. Матчени, в душе Молль живет представление о “дьяволице” (she-devil), а сам дьявол, по мнению Дефо, имеет андрогинную природу, о чем писатель рассказывает в трактате-памфлете “Политическая история Дьявола” (1726).
Немало интересных страниц есть и в анализе двух романов Стерна. В этом разделе особенно любопытен такой важный для гендерной темы эпизод, как история зачатия и рождения Тристрама Шенди. Попутно освещен эпизод с сумасшедшей французской крестьянкой Мари, звучащий в обоих романах Стерна, — здесь Матченя видит намек писателя на его личную беду, душевное расстройство его супруги.
В заключение укажем некоторые недостатки монографии. В ней отсутствует теоретическое предисловие. В книге не хватает анализа некоторых произведений — например, “Векфильдского священника” Гольдсмита, его пьес и эссе. Нет и речи о первом романе Годвина, о трактатах писателя и его супруги Мэри Уоллстонкрафт, а ведь эти два автора внесли немалый вклад в борьбу за равноправие женщин.
Есть ошибки в написании имен. В “Клариссе” есть “жених” девушки “Сомс”, как стоит в работе, между тем его имя Сольмз. Зачем-то два раза пишется фамилия драматурга Конгрива (с. 51), причем с разными датами жизни. Судя по датам 1641—1715, это должен быть комедиограф Уильям Уичерли.
В целом же книга полезна, поскольку помогает искать новые подходы к изучению поэтики исследуемых произведений.
В. Вахрушев
Благодарим книжный магазин “Фаланстер” (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27; тел. 629-88-21, 749-57-21) за помощь в подготовке раздела “Новые книги”.
Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии и сборники статей по адресу: 129626 Москва, а/я 55. “Новое литературное обозрение”.