(Рец. на кн.: Степанова М. Лирика, голос: Стихи. М., 2010)
Опубликовано в журнале НЛО, номер 6, 2010
Кирилл Корчагин
МУЗЫКА СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
Степанова М.М. Лирика, голос. — М.: Новое издательство, 2010. — 54 с. — (Новая серия).
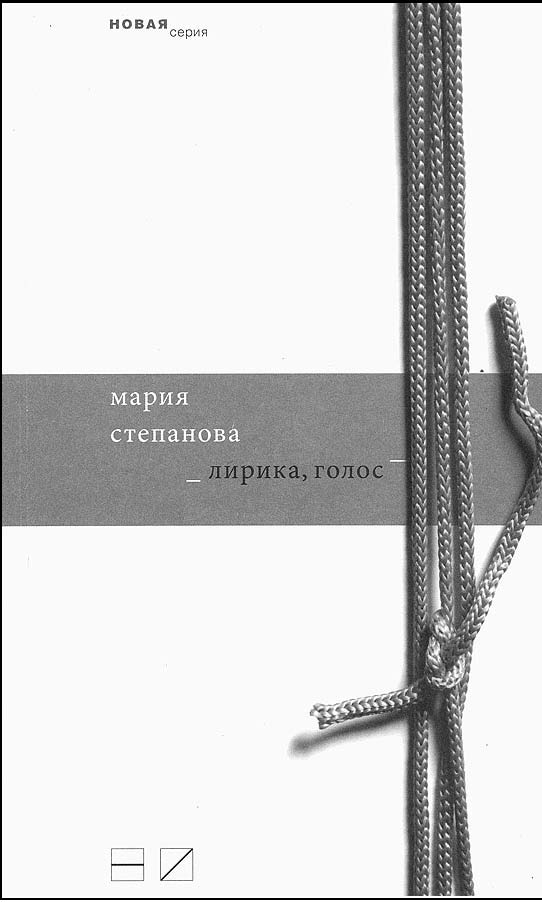 Все поэтическое творчество Марии Степановой можно разделить на две части. Первую составляют пространные сюжетные стихотворения (“лиро-эпические”, “балладные”), а вторую, соответственно, — более короткие лирические тексты. На неформальном языке автора эти два множества соотносятся как “проза”1 и “стихи”. “Лирика, голос”, как подсказывает название, относится ко второму множеству и, как сказано в аннотации, включает тексты за 2008 год. При этом в обеих своих ипостасях поэтика Степановой проявляет замечательную стабильность — в некоторой мере перед нами поэт “без истории” (пользуясь категоричным определением Цветаевой). Стабильность эта заключена, прежде всего, в методе, всегда узнаваемом, и выход новой поэтической книги нашего поэта — еще один повод приблизиться к пониманию того, как функционируют эти тексты.
Все поэтическое творчество Марии Степановой можно разделить на две части. Первую составляют пространные сюжетные стихотворения (“лиро-эпические”, “балладные”), а вторую, соответственно, — более короткие лирические тексты. На неформальном языке автора эти два множества соотносятся как “проза”1 и “стихи”. “Лирика, голос”, как подсказывает название, относится ко второму множеству и, как сказано в аннотации, включает тексты за 2008 год. При этом в обеих своих ипостасях поэтика Степановой проявляет замечательную стабильность — в некоторой мере перед нами поэт “без истории” (пользуясь категоричным определением Цветаевой). Стабильность эта заключена, прежде всего, в методе, всегда узнаваемом, и выход новой поэтической книги нашего поэта — еще один повод приблизиться к пониманию того, как функционируют эти тексты.
В довольно давней работе Илья Кукулин описывал поэтику Степановой как “личное (при этом от лица принципиально “неформализуемой” личности) взаимодействие с готовыми структурами — сюжетами, цитатами, словами, —
при котором любая структура преобразуется, становится неготовой и открытой”2. С этим определением трудно поспорить — нечто подобное бросается в глаза любому внимательному читателю стихотворений Степановой. Но два момента требуют прояснения: что это за “готовые структуры” и каковы аналоги этого творческого метода?
Само “преобразование структуры в открытую” — вообще говоря, вещь довольно частая. Причем в случае стихотворного текста эта “открытость” вызывается чаще всего рассогласованием между размером и традиционно сопровождающим его “семантическим ореолом”. Ореол такого рода, как правило, устроен довольно сложным образом. Более-менее четок он лишь в случае малоупотребительных размеров (например, трехстопного хорея типа “Горные вершины…”)3. Тем не менее нарушение конвенциональной тематики размеров вызывает сильный эстетический эффект, и случаи такого рода в отечественной поэзии известны. Например, именно таким образом Николай Некрасов обращался с наследием романтиков, наполняя размеры романтической баллады предельно чуждым балладе такого типа содержанием. У раннего Некрасова получались, скорее, пародии (вроде “На улице” 1850 г.), но к зрелому периоду он достиг того, что его варианты этих размеров стали восприниматься как параллельный путь развития романтической баллады, а не как ее искаженное отражение. У “романтической” трактовки при этом оставались последователи в лице Аполлона Григорьева, Якова Полонского и ряда других поэтов4. При этом значительная доля эстетического напряжения в стихах Некрасова возникала именно за счет переклички старого и нового семантического ореола. Эта особенность поэтики Некрасова, кстати сказать, уже не воспринималась читателем ХХ века, и ее пришлось “открывать” заново5.
Другой нарушитель конвенций, в чем-то сходный с Некрасовым, — это, безусловно, Гейне, и в первую очередь на него ориентировался Тынянов, когда строил свою теорию литературной эволюции, одним из ключевых понятий которой было понятие пародии (в смысле, скорее, Гейне и Некрасова, чем современном)6. Гейне, по словам Тынянова, “исчерпал все ситуации романтики, с уничтожающей полнотой развил их и сделал раз навсегда невозможными и ненужными повторения”7. Но есть и существенные отличия от Некрасова: так, Гейне продолжал находиться в “романтической” системе координат, как бы испытывая на прочность те или иные ее узловые точки, Некрасов же вышел за ее пределы. Фигура Степановой по конструктивным принципам поэтики достаточно легко может быть помещена в этот ряд. Более сложен вопрос, к какому полюсу пародического она ближе — к Гейне или Некрасову, то есть сохраняется ли исходная сетка координат или предлагается что-то взамен?
Такие хронологически отдаленные аналоги помогают лучше понять работу “поэтического механизма” Степановой (да простят нас за опоязовский техницизм). При этом естественно, что более тесные связи рассматриваемая поэтика обнаруживает с ближайшими современниками. На первый взгляд, близкую стратегию работы с “чужим” демонстрируют Тимур Кибиров и Михаил Сухотин (периода “соц-арта”)8. Но “соц-арт” гораздо ближе к бурлеску, собственно пародии — он выводит на передний план некоторую утрированную форму (октаву, александрийский стих, блоковский дольник), которую заполняет “неподобающим” содержанием. На жаргоне концептуализма это можно было бы назвать “обнажением репрессивных механизмов традиционной формы” — в том же смысле, в каком их обнажали Скаррон, Василий Майков или Котляревский. Тыняновская пародия, равно как и стихотворения Степановой все же не поддаются анализу в терминах нормативной поэтики, хотя и здесь мы имеем дело в некотором роде с “”Энеидой”, вывороченной наизнанку”.
Вообще говоря, применять формалистический инструментарий для анализа современной словесности, возможно, не совсем корректно: эти построения столь глубоко вошли в кровь живой литературы, что могут играть роль своего рода “эффекта оправданных ожиданий”. Насколько это применимо в отношении Степановой — вопрос открытый, но сама тактика построения стихотворений очень напоминает описанные практики. Конечно, “исходный” текст, который деформируется и “размыкается”, превращаясь в “открытую структуру”, далеко не всегда очевиден, и здесь анализу лучше поддаются пространные стихотворения нашего поэта, а не более короткие лирические фрагменты.
В “прозе” Степановой соединяются две генетически близкие традиции — мистической баллады и жестокого романса9. Оба этих жанра в интересующем нас виде восходят к эпохе романтизма; более того, они используют примерно один и тот же репертуар размеров (хотя романсная строфика обычно бывает проще балладной). Некоторые поэты сознательно совмещали эти два жанра — например, Апухтин, но это совмещение было “допародийным” — не было необходимости превращать структуру этих жанров в более “открытую”, они выполняли свою эстетическую функцию и без этого. При этом возрожденная модернистская, а затем и советская баллада ориентировалась непосредственно на романтическую традицию, не беря в расчет ее позднейшего развития или принимая только “вырожденные” формы (викторианскую балладу Киплинга и его русских подражателей).
Художественный эффект в балладах Степановой возникает за счет резких срывов, тематических и речевых контрастов (последние, конечно, больше заметны и больше привлекали внимание некомплиментарной критики). Собственно, один из этих контрастов — контраст между миром живых и миром мертвых — постоянно находится в фокусе внимания поэта. При этом присутствующий в качестве фона концептуальный аппарат жестокого романса помогает обнажению границы между этими двумя мирами, ведь отношения персонажей здесь всегда полны драматизма, а сам жанр в некотором смысле (как и баллада) “некроцентричен”. Менее тривиально то, что в эту тематическую палитру хорошо вписывается и декларируемое православие Степановой: поэт работает на поле суеверий, вступающих во взаимодействие с отдельными элементами христианской теодицеи — православием популярных брошюр и страшных сказок. Так, например, в балладе “Гостья” обыгрывается наивный взгляд на Судный день — мертвые возвращаются к живым примерно так же, как они возвращались в “Пикнике на обочине” Стругацких, но, естественно, без всякого НФ-колорита: И странно мне — еще совсем темно, / Но чудно знать: как выглянешь в окно — / Весь двор в огнях, как будто все вернулись10.
Интересно, что в этом тексте Степанова тематически соприкасается с другим московским поэтом, стремящимся (но в менее радикальном ключе) к “открытию” привычных жанровых и ритмических структур, — Юлием Гуголевым. Так, стихотворение Гуголева “Это знаете, как бывает…” обыгрывает ту же тему:
А чего мы тогда лежим, / Точно письма в пустых конвертах? // Кто надписывал имена? / Ну, чего мы лежим, зевая?! / Ждем ль чего? Воскресения мертвых, / видишь, очередь тут одна, / но еще не вполне живая11. Другое дело, что Гуголев ближе к иронической пародии “соцартовского” типа: хотя отдельные его стихотворения и становятся ареной для глобальных обобщений (“Целый год солдат не видал родни…”), все же значительная часть замыкается в посткибировском центоне (“Бывают бабы: только ляжешь…”). Оба поэта при этом идут на сознательное “опрощение” ортодоксии, при котором отдельным фрагментам доктрины предлагается (неформальное) объяснение, исходящее из бытующих в массовой культуре представлений (“воскресение мертвых” при живых субъектах текста относится к этому же плану). Некое предельное выражение этих тенденций в случае Степановой — две части “Прозы Ивана Сидорова”, где из фрагментов мистического слоя постфольклора строится своеобразный сюрреалистический мир, чем-то похожий на мир произведений Мамлеева.
Многое из сказанного касается и лирики нашего поэта, только здесь конструктивные элементы выступают куда менее отчетливо12. Важно, что резкие грамматические и прагматические сдвиги, выступающие, по мнению ряда исследователей, как показатель “расколотости сознания” субъекта13, накладываются в последней книге поэта на довольно идиллическую повседневность представителя “среднего класса”. При этом если баллады Степановой эсхатологичны (правда, в “карнавальном” смысле), то лирика, избегая этого, часто стремится к утрированной вещественности: А выходишь во двор, как в стакане с простой водой, / Помолчать к ларьку с пацанами, / Попрочистить горло вином и чужой бедой / Под родительскими стенами. / Да и в офисе, в опенспейсе14, / Хошь ты пей ее, хоть залейся (с. 40). Конечно, здесь можно видеть и обыгрывание “брутальных” мотивов поэтов, ориентирующихся на эстетику “московского” варианта постакмеизма (вроде Сергея Гандлевского). Но далее идиллический фрагмент: “Как посыплют клерки к выходам ровно в семь, / Галстук скошен на тридцать градусов. / Как стоят курить, и тополь кивает всем, / От директора до автобусов” — сталкивается с неприятием этой чрезмерной офисной упорядоченности: Что-то стала я благонамеренная / Каша манная, ложкой отмеренная, / А на дне, как во львином рву, / Я себя на платочки рву (ibid.). Гандлевский или Цветаева, к которой восходит размер этого стихотворения — логаэдизированный дольник с характерной игрой дактилическими окончаниями, обращались к куда менее “респектабельной” социальной действительности. Проблематизация этого обстоятельства, конечно, скрыто присутствует в этом тексте и осуществляется в рамках той же стратегии “пародирования”: “прерывистый” поэтический язык резонирует с описываемой в тексте реальностью, которая как бы “безъязыка” и должна существовать в системе координат поэтов-предшественников. Это некоторым образом случай Гейне “наоборот”: немецкий поэт выступал как разрушитель аристократической словесности, в то время как сам он, естественно, мог относить себя только к аристократии “духа”, но никак не “крови”.
В этом контексте не случайно, что Дмитрий Кузьмин говорил о Марии Степановой как о продолжателе Виктора Кривулина в деле созидания новой социальной поэзии, ориентированной на историческую перспективу15: периодически заостренная в общественном сознании тема возникает в явном виде: так, в стихотворении “Песня” происходит следующий диалог: Скажет баба солдату: / Кем мы были когда-то, / Под девятое мая / Я сама не пойму. / Дырки, словно на терке, / На твоей гимнастерке, / У моей телогрейки / Руки обожжены. <…> Он ей не отвечает, / Он в ответ промолчает, / Рукавами качает / Он, ключами звеня, / И ложится без боли / На убитое поле / Тень победы, отставшей / От Георгия дня (с. 26—27). В задачах отображения социальной действительности “посткривулинская” линия в этом тексте выражена наиболее чисто, смыкаясь отчасти с линией фронтовой поэзии. При этом взаимодействие с фронтовой поэзией происходит на уровне характерных материальных символов эпохи (гимнастерка, телогрейка etc.). Интересно, что перед нами обычное для фронтовой поэзии описание умирающего раненого — примеры таких стихотворений в литературе сороковых-пятидесятых многочисленны: это и “Памятник” Слуцкого, и “Похоронка” Оболдуева, и многие другие тексты. Здесь же мы видим умирание, хотя и отсроченное на несколько десятилетий, но сохраняющее те же “приметы боя” (дырки <…> на гимнастерке, руки обожжены и т.д.). Фактически текст представляет собой эпитафию уходящему фронтовому поколению. При этом характерная возникающая здесь ирония, видимо, должна восприниматься как попытка отстраниться от репрессивных механизмов, скрытых в самом языке “официальной” фронтовой поэзии и слишком очевидных для современного читателя. Отметим на полях, что сходную критику языка непосредственно внутри фронтовой темы проводили посвоему и Борис Слуцкий, и Ян Сатуновский, видимо, преследуя схожие цели — вырваться из смыкающегося кольца “правильных” (с точки зрения советской идеологии пятидесятых) смыслов16.
Эта “иронизация” социально ангажированной речи может перебрасываться и на актуальную общественную проблематику: ЮКОС, ЮКОС, / Я Джордж Лукас. / Как вам теперь — покойно? / Что ваши жены-детки? / Все ли звездные войны / Видно в вечерней сетке? (с. 11). При этом “открывание” языковых структур — не единственный уровень, позволяющий поэту “обживать” общественное, резко индивидуализировать его, делая частью своей поэтической биографии. Другой уровень взаимодействия с этими темами, конечно, — уровень телесного. Известно, что русская словесность работала с телесным крайне робко и первый, наиболее заметный пик этой работы приходится на 1910-е годы. (“Дано мне тело — что мне делать с ним…” Мандельштама, на самом деле, вполне эту “робость” демонстрирует.) Одно из немногих исключений — Мария Шкапская, которой, однако, ни в коей мере не была свойственна характерная для Степановой тактика тотального пародирования (в указанном выше смысле) предшествующей традиции. Кажется, что социальное и телесное соединяются друг с другом настолько плотно, что в мире стихотворений Степановой одно может быть с легкостью объяснено в терминах другого (вспомним биологическую метафору XIX в. — “социальное тело”): А как стану раздеваться у Садового кольца — / С нервным тиком, в свете тихом обручального кольца — / Слезы умножаются, тьма стоит промеж, / Мама отражается, / Говорит: поешь (с. 12). Интересно, что такая жизнь тела может использоваться как основание для специфического дробления биографии лирического субъекта на неочевидные периоды: В тридцать лет / Мало мне было лет. // В тридцать три / Было дите внутри. // В тридцать пять / Время пошло опять. // В тридцать шесть / Время себя доесть, / Вычерпать свою голову / Ложкой столовска олова (с. 13). Эти строки можно было бы рассматривать как перевод с “языка телесности” на язык московского концептуализма, если бы они не были окружены эротизированным описанием пробуждающейся весенней природы (Мало сна, / Но весна красна, / Что ни зуб у черемухи — белый клык, / И открыты воздушные ложесна, / Мутно-нежные, как балык), выводящим текст за пределы полемики о поэтическом языке.
Вообще, декорации весенней Москвы сохраняются на протяжении всей книги. Причем, если московская топография активно присутствовала у поэта и раньше (например, в “Физиологии и малой истории”), то включение картин “буйства природы” в таком объеме — яркая черта именно рецензируемой книги. Не зря, говоря о более ранних лирических текстах Степановой, Дмитрий Кузьмин замечал, что “в конфликте между природой и культурой Степанова явно на стороне последней”17. Ныне же “весна” многолика: Тополиный пух наберет крыло и давай в зенит, / Нарастит когтей — и карабкаться в вертикаль. / Он ворона вороной, но в ухе его звенит, / Как будильник, обезумевший нахтигаль (с. 46). В этом смысле показательно стихотворение—реестр московских улиц, где они зафиксированы поэтом в период цветения и оживления природы: А при тебе, Покровка, / Мне и дохнуть неловко. / Слишком приютен садик Милютин / (С бывшим фонтаном — бил мимо рта нам), / Страшен и розов скверик Морозов / С бывшим каштаном широкоштанным (с. 44). Ну и конечно, отдельно возникает тема московского метро как своего рода “подземного” отражения “наземной” жизни: Над метро / Есть еще метрей — / Много выше и устроено значительно хитрей — / С поездами многоконными, со стеклянными вагонами. / Там душа играет лещиком / И до раннего утра / По составам крутят Лещенко, / Льва меняя на Петра (с. 22)18. Причем здесь на “подземный город” также переносится известная оппозиция Августина “Град земной ~ Град небесный” (первый, как мы помним, должен быть устроен по образу последнего). Удивительно, что в финале этого космогонического описания появляется едва ли не скрытая цитата из Егора Летова, видимо, наделенная “конфликтным” потенциалом, призванным сместить фокус с идиллической картины куда-то в сторону: Выше плечика, / Дальше плащика — / Небо русское: / Многим узкое (с. 23). Возможно, определение “русское” в этом фрагменте тоже не случайно, но место его в общей концептуальной системе, увы, неотчетливо.
С другой стороны, некоторые вопросы поэтики как таковой выражены куда более явно: Ходили за линию, взяли языка, / А он уже без языка. // Всё, что он может издать, язык, // Крик бараний да зверский зык, <…> // Ни секретных кодов, / Ни потайных ходов. // Отпусти его, что ли, / Пусть побежит на воле (с. 31). Этот текст, конечно, можно воспринимать как присягу известному motto Бродского “поэт — инструмент языка”. В то же время в самый конец книги помещен своеобразный “псевдоманифест” (набранный, что характерно, италиком): Вот возьму да и не буду / Я сейчас писать стихи. / Вот возьму да и не стану / Ни за что стихи писать. // Я не Дмитрий Алексаныч, / Дмитрий Алексаныч умер, / Я не Александр Сергеич, / Александр Сергеич жив… (с. 48). Использование здесь “псевдоприговского” инструментария вызывает ожидание идеологического “рывка в сторону”, при котором вместо “сериальности” концептуализма будет предложено (пусть и на языке лирики) нечто новое. Однако текст играет с неоправдавшимся ожиданием читателя, так как фокус смещается с проблем поэтики на проблемы биографии лирического субъекта: Я семейная программа, / Ускоряющая ход, / Круговая панорама, / Одержимый пароход. / Никогда и не бывала, / А теперь ударил час, / Молодою и глупо.ю / Я такою, как сейчас (с. 49).
Другими словами, поэтика должна “вырасти” из жизни (не только “социальной”, но и “телесной”), стать “производной” от нее, чему помогает инструмент пародии, лишающий текст “сконструированности”, препятствующей дальнейшему росту. И в этом смысле интересно — достигнет ли этот рост конечной точки, где произойдет “нейтрализация” поэтического языка, переставшего, следовательно, нуждаться в тотальном пародировании.
_______________________________________
1) Кажется, разделение это в таком виде впервые было намечено в поэме “Проза Ивана Сидорова” (2008), а продолжено в недавнем томе избранного: Степанова М.М. Стихи и проза в одном томе. М.: НЛО, 2010.
2) Кукулин И. Актуальный русский поэт как воскресшие Аленушка и Иванушка: О русской поэзии 90-х годов // НЛО. 2002. № 53. С. 293.
3) Ср., например, исследование этой формы в работе: Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. 2-е изд., доп. М.: Фортуна Лимитед, 2001. С. 238—269.
4) Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М.: Фортуна Лимитед, 2002. С. 181—186.
5) Тынянов Ю.Н. Стиховые формы Некрасова (1921) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 18—27.
6) Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) (1919) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 198—226.
7) Тынянов Ю.Н. Тютчев и Гейне (1922) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 371. См. также: Ямпольский М. Различие, или По ту сторону предметности (Эстетика Гейне в теории Тынянова) // НЛО. 2006. № 80. С. 30—53.
8) Возможен и совсем другой анализ стратегий этих авторов, например: Кукулин И. История слова как гений несуществующего места. О Т. Кибирове и М. Сухотине // Русский журнал. 1998. 5 авг. (http://old.russ.ru/pegas/ 98-08-05.htm).
9) Достаточно подробный разбор источников баллад Степановой предложен в: Виницкий И. “Особенная стать”: баллады Марии Степановой // НЛО. 2003. № 62. С. 165—168.
10) Степанова М.М. Стихи и проза в одном томе. С. 51.
11) Гуголев Ю. Естественный отбор: Стихи. М.: НЛО, 2010. С. 120.
12) Возможно, поэтому известные нам работы о лирике Степановой малоубедительны и страдают избыточной обобщенностью. См., например: Арлаускайте Н. Частная экономика: О книге Марии Степановой “Физиология и малая история” // НЛО. 2005. № 76. С. 248—251.
13) Скидан А. Сильнее Урана // Скидан А. Расторжение. М.: Центр современной литературы, 2010. С. 179.
14) Мария Степанова — главный редактор сетевого информационного ресурса OpenSpace.ru.
15) Кузьмин Д. Русская поэзия в начале XXI века // РЕЦ. 2008. № 48. С. 14.
16) Ср.: Кулаков В. Ян Сатуновский: “Я — не поэт…”. О стихах Яна Сатуновского (http://www.litkarta.ru/dossier/ kulakov-o-iane-satunovskom/dossier_14884/).
17) Кузьмин Д. Указ. соч.
18) Отметим, что тема московского метро недавно получила интересное поэтическое выражение в книге: Звягинцев Н. Туц. М.: Новое издательство, 2008.