(Заметки о теории, 22)
Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2010
С. Зенкин
ТЕОРИЯ КАК ИСТОРИЯ
(Заметки о теории, 22)
История — предмет и критерий теории. Литературная теория в конечном счете имеет своим предметом не просто литературу, а литературу в историческом движении; по замечанию Антуана Компаньона, “практикой” по отношению к такой “теории” является именно исследование истории литературы, а не, скажем, написание литературных произведений1. Соответственно, теория — это не просто теория литературы, но и теория истории литературы, и история всегда присутствует в теоретических концепциях, иногда эксплицитно, а иногда и неявным образом, как материал и предел теории. Так происходит в трех недавно вышедших по-русски книгах, иные из которых уже сами являются памятниками интеллектуальной истории, будучи написаны несколько десятилетий назад.
Таллинский университет издал новую книгу Юрия Михайловича Лотмана “Непредсказуемые механизмы культуры” — первый выпуск многообещающей научной серии “Bibliotheca Lotmaniana”2. Книга действительно новая, во всяком случае до сих пор практически недоступная нашей публике: написанная ученым в последние годы жизни, в начале 1990-х, она вышла вскоре после его смерти только в итальянском переводе и в одной малотиражной русской публикации, от которой сохранились считаные экземпляры. Эта вполне законченная работа занимает достойное место рядом с двумя другими поздними книгами Лотмана — “Внутри мыслящих миров” и “Культура и взрыв”, — с которыми она во многом перекликается. В них Лотман, известный своим недоверием к философии, фактически пытается создать не что иное, как философию истории, — в терминах Артура Данто скорее “аналитическую”, чем “синтетическую”. Такая философия не рассматривает исторический процесс как линейный нарратив и не пытается предсказывать его ход (неважно, вперед или назад)3, но выясняет его неоднолинейный характер и описывает его непредсказуемые механизмы.
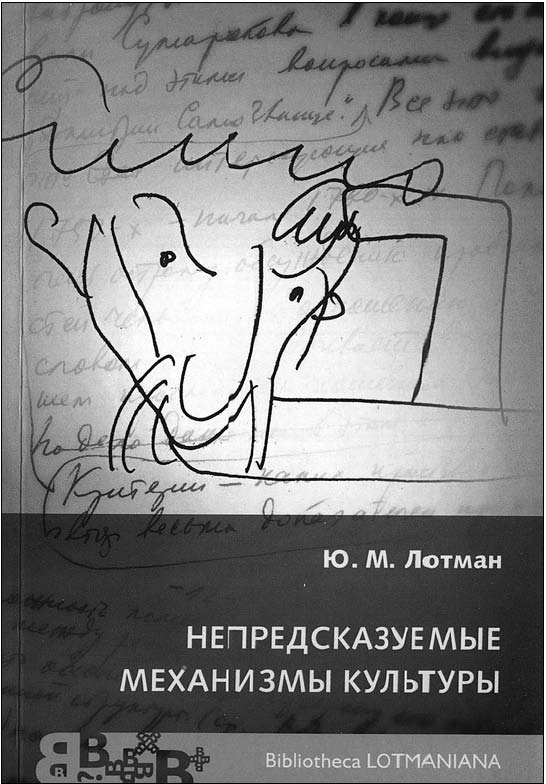
Для читателей, знакомых с научным творчеством Лотмана, особенно с двумя его поздними книгами, названными выше, многие идеи, развиваемые в новом издании, окажутся не совсем внове. С большей или меньшей подробностью они формулировались ученым и в других работах: оппозиция “постепенного развития” и “взрыва”, идея “билингвальной культуры” (содержащей как минимум два не вполне взаимно переводимых “языка”)4, оппозиция дуальных и тернарных моделей, изоморфизм части и целого в культуре (например, человека и мира)… Некоторые темы, затронутые в книге, логически естественны для Лотмана, но по каким-то причинам мало освещались в других его работах: например, размышления о теории русского формализма — особенно о его теории эволюции и “канонизации младшей ветви”, которую предлагается включить в более общую схему. Канонизация младшей ветви заранее запрограммирована (на эту роль всегда есть лишь один кандидат), по Лотману же “источником нового становится не какая-нибудь одна предсказуемая “нижняя” линия, а именно пучок (иногда весьма разнородный), включающий в себя порой совершенно случайные элементы” (с. 158—159). Важны также мысли Лотмана о дисциплинарном генезисе Тартуско-московской семиотической школы, которая, подобно Пражскому лингвистическому кружку за несколько десятилетий до того, сложилась как союз лингвистов-“структуралистов” с литературоведами-“формалистами”; в ее научной программе Лотман подчеркивает интерес к “взрывным” моментам культурной эволюции и расценивает ее как дополнительную по отношению к французской школе “Анналов”, ориентировавшейся на не-взрывную “долгую временную протяженность” (“долгое дыхание”, как метафорически переводит Лотман).
Но, пожалуй, самая оригинальная тема, проходящая через всю книгу “Непредсказуемые механизмы культуры”, — это вопрос о свободе: вопрос не “семиотический” или “теоретический”, а именно философский. Он тоже, разумеется, не нов у Лотмана (изучавшего, например, биографию Пушкина как свободное самопостроение жизни поэтом), но в вышедшей теперь книге он впервые ставится столь открыто, последовательно и настойчиво. В самом деле, непредсказуемость культуры — иная, чем в природных необратимых процессах, изученных Ильей Пригожиным. “…Процесс, прослеженный Пригожиным на уровне физических, химических и биологических закономерностей, с привнесением момента сознания приобретает принципиально новую специфику. Непредсказуемое действие, становясь поступком, неизбежно подвергается осмыслению…” (с. 48—49). “Ставшая поступком”, апроприированная человеком непредсказуемость превращается в свободу, которой нет в природе. Теперь это уже “чья-то” непредсказуемость, за которую кто-то несет ответственность и/или делает ее своей заслугой. Соответственно, меняется и форма исторического “взрыва”: непредсказуемость, взрывной характер может быть характеристикой не только безличных событий, но и чьего-то личного творчества. Последнее порой даже предстает как длящийся взрыв, постепенно выводящий наружу активные субстанции смысла, — подобно извержению вулкана или чернобыльскому атомному реактору (травматический образ в сознании советских людей конца 1980-х): “Так, например, “Дон Кихот” Сервантеса сам по себе, будучи в момент создания сложным и не сводимым воедино текстом, превратился в дальнейшем как бы в продолжающийся взрыв, способный выбрасывать все новые и новые смысловые интерпретации” (с. 167).
Феномены и параметры свободы рассматриваются в нескольких главах книги. Так, в главе “Мода — одежда” старая для Лотмана тема щегольства развернута к проблематике свободного самоосуществления человека — порой в весьма нетривиальных обстоятельствах, таких, как щегольство солдата терпящей поражение армии, которое иллюстрируется одним из замечательных лотмановских фронтовых воспоминаний: в 1942 г. во время отступления под Харьковом сослуживец рассказчика носит на себе стеклянную фляжку — совершенно непрактичную, но восполняющую недостаток в амуниции. “На мой вопрос: “Зачем тебе это барахло?” Леша ответил: “Когда драпаем, форма должна быть строгая”. Это был ответ настоящего солдата” (с. 88).
В заключении книги начало свободы обнаруживается в природном субстрате человечества: с одной стороны, генетическая память живых существ не индивидуальна и не включает в себя никакого личного выбора; с другой стороны, биологическая эволюция приводит — уже у высших млекопитающих — к возникновению такого механизма, как индивидуальный выбор партнера при продолжении рода, то есть природа сама вырабатывает и стимулирует свободу. В главе “Слово и дело” два заглавных понятия очерчивают границы свободы в человеческом обществе: свобода минимальна в “тоталитарной” ситуации, когда слово не отличают от дела, знак от поступка, и максимальна в “либеральной” ситуации их различения. Однако, продолжает Лотман, “вопрос резко усложняется, когда к нему подключается искусство. Вместо бинарной антитезы “слово — поступок” мы сталкиваемся с тернарной: художественное слово — нехудожественное слово — поступок” (с. 127). Между этими тремя родами феноменов идут сложные процессы взаимообмена, взаимопревращения, взаимокомпенсации, и художественное слово служит активным фактором превращения несвободы в свободу.
Что искусство есть носитель свободы в культуре — для опытных читателей Лотмана и эта мысль не будет внове: она высказывалась, например, в “Культуре и взрыве”, в главе “Феномен искусства”. Но в “Непредсказуемых механизмах…” эта идея пронизывает всю книгу, повторяется по разным поводам: “Сущность художественного познания — в смысловом взрыве…” (с. 64); искусство — “мастерская непредсказуемости” (с. 134), “окно в будущее” (с. 137); оно “вносит в действительность ту свободу, которая утрачивается в момент реального воплощения идеи” (с. 139); “искусство смотрит на жизнь глазами еще свободной невесты, история — взглядом связанной выбором жены” (там же). И обобщающая теоретическая формулировка: “Функция искусства в общей системе различных сфер культуры и состоит в том, что оно создает реальность гораздо более свободную, чем реальность материального мира” (с. 140).
В этом пункте у лотмановской философии истории возникают некоторые трудности с историей как таковой. Ученый сам признает, что существуют формы культуры и художественного творчества, где это начало индивидуальной свободы подавлено, едва ли не сведено на нет повторением традиционных форм: речь идет прежде всего о фольклоре. Лотман не уклоняется от проблемы и в рамках фольклорного типа творчества выделяет “особую форму жизни культуры — соревнование поэтов или певцов” (с. 146), где все-таки проявляется индивидуальное творчество и создание нового, а не только повторение старого. Через десять лет после Лотмана и независимо от него тот же самый феномен состязания в традиционной культуре выделял Жан Старобинский, фиксируя его как точку, где возникает исходная форма критики5. И все-таки в любом случае приходится признать, что “в традиционном фольклоре силы центростремительные намного превосходят центробежные и индивидуальное творчество значительно больше сковано традиционными формами” (с. 147). Фактически это означает, что лотмановская теория искусства как свободного творчества описывает главным образом новоевропейский тип культуры (“эстетику противопоставления”, по давнему термину автора книги), плюс некоторые сходные с ним элементы в культурах другого типа. Получается, что лотмановская философия истории не совсем универсальна, не в равной мере применима к различным эпохам историко-культурного развития. К тому же в силу своего “аналитического”, а не “синтетического” характера она пренебрегает конкретным определением историко-культурных формаций или эпох. Вместо этого автор скорее пользуется “школьной” советской схемой культурных формаций, не подвергая ее критическому анализу. Он пишет, например: “…если для просветителей XVIII века акцент стоял на погружении человека в естественный мир, то для романтика темой становится трагическое одиночество” (с. 42). Любой историк культуры знает, как легко оспорить такую оппозицию, и сам Лотман тоже, конечно, должен был понимать ее приблизительность, но иных, лучших категорий для описания исторического процесса у него нет. Его теория глубоко вникает в то, как происходит историко-культурное движение, зато рискует потерять из виду, что, собственно, движется, какими эпохальными категориями его можно определить.
Сходная проблема, хоть и с другой стороны, возникает и в книге Терри Иглтона “Марксизм и литературная критика”6. Этот первый книжный перевод на русский язык трудов знаменитого английского критика, теоретика и публициста представляет собой краткое популярное введение в проблему. Его издали в виде крохотной, в буквальном смысле “карманной” книжечки с минимальным оформлением (в жанре “прочти и передай товарищу”), а в оригинале он появился в поворотный момент западной интеллектуальной истории — в 1976 г., в пору наступившего отрезвления от восторгов революционного 1968 г. и наметившегося упадка левой идеологии на Западе. Задачей автора стало подвести итоги марксистского интеллектуального проекта в применении к художественной словесности.
Терри Иглтон — просвещенный европейский теоретик, не строящий никаких иллюзий в отношении того догматического марксизма, что был сооружен и еще доживал свой век в СССР. В позднейшем предисловии 2002 г. он прямо заявляет: “Система, погибшая в Советском Союзе, была марксистской только в том смысле, в каком инквизиция была христианской” (с. 4). Да уже и в основном тексте книги 1976 г. он опирается главным образом на западную марксистскую мысль, а из теоретиков, работавших в нашей стране в 1920—1930-е гг., признает разве что двух неортодоксальных авторов — Троцкого и Лукача. Тем не менее, несмотря на эти предосторожности, он не раз попадает в обычные ловушки марксистской теории культуры, известные у нас под неточным (потому что придуманным самими марксистами) названием “вульгарный социологизм”.
Разбирается, например, вопрос о “базисе и надстройке”. В принципе является достаточно правдоподобным, что материальное производство и его социальная организация оказывают влияние на художественную культуру; может быть, это даже определяющее влияние. Беда, однако, в том, что оно очень сильно опосредовано, для описания этих опосредований нужны специальные промежуточные теории, а они неизбежно выходят за рамки марксистской ортодоксии, не контролируются ею, остаются для нее неотрефлектированными, неявными, а то и вовсе ненаучными предпосылками. Иглтон приводит как пример воздействия базиса на надстройку сцену из романа Джозефа Конрада, характеризующуюся “крайним пессимизмом” (с. 17), и заключает: “Этот пессимизм отражает сильнейший идеологический кризис западной буржуазии, с которой был связан Конрад” (с. 18). Такой вывод грешит даже не упрощением, а эклектизмом — необдуманным соединением разнородных парадигм. Марксистская теория может объяснить логику экономико-политического развития, борьбу и смену классов, но она ничего не сообщает об их коллективной психологии, которая связывалась бы с этим развитием. “Пессимизм”, толкуемый как выражение “идеологического кризиса буржуазии”, отсылает не к более или менее строгой политэкономии и социологии, а к какой-то зыбкой виталистской психологии (к особого рода идеологии, в данном случае проникающей в метаязык критика-марксиста). Если искать ей философскую концептуализацию, то она найдется не у Маркса, а скорее уж у Ницше: два мыслителя, которые не очень-то легко согласуются между собой.
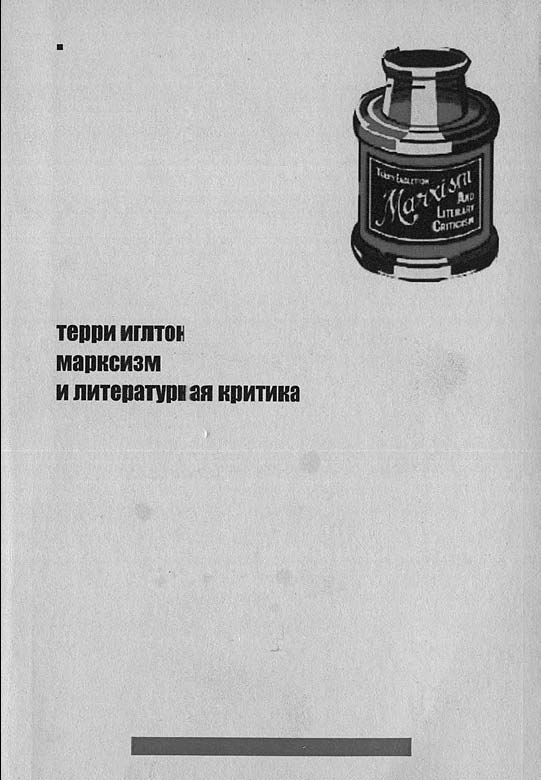
Или другое рассуждение, восходящее к одному из высказываний самого Карла Маркса. Как известно, его мысли о литературе и искусстве разрозненны, разбросаны по разным текстам, и свести их в логичную систему так и не удалось советским толкователям вроде М.А. Лифшица. Терри Иглтон делает еще одну попытку — и тоже малоудачную. В известном фрагменте “Экономических рукописей 1857—1858 годов” Маркс объясняет непреходящую ценность греческой классики тем, что в ней выразилось “детство” человечества, его “истинная сущность”; а Иглтон комментирует, что “мы находим в древних обществах первоначальный образ “меры” между человеком и Природой, “меры”, которую капиталистическое общество непременно нарушает и которую социалистическое общество должно восстановить…” (с. 24). Опять стоит теоретику-марксисту от экономических и социологических проблем обратиться к эстетическим, как ему приходится вводить чуждые своему методу — прямо скажем, идеалистические — понятия, такие как “истинная сущность” человечества или столь же эссенциальная “Природа” с большой буквы; их-то, пожалуй, и будет связывать отношение “меры”, гармонической соразмерности, но только при этом надо забыть о марксизме…
Опыт (уже давний) Терри Иглтона подтверждает, что подобные эклектические смешения неотъемлемо присущи попыткам строить теорию литературы по Марксу — по крайней мере в той мере, в какой эта теория будет теорией отражения. Гораздо убедительнее последние главы книжки, где английский критик начинает, вслед за ведущими западными марксистами XX в., трактовать литературу как механизм искажения, деформации. Изначально такая идея тоже восходит к Марксу, к его теории идеологии7, но к художественному творчеству ее начали применять только некоторые теоретики прошедшего столетия — такие как Брехт или Машере8. Их эстетические концепции противостоят теориям более традиционных марксистов — Дьёрдя Лукача и его последователя Люсьена Гольдмана, для которых литература более или менее позитивно и целостно отражает (выражает) нечто внеположное ей. Терри Иглтон, наоборот, подчеркивает в ней негативность, деформацию, принципиальную неполноту: “Если такие критики, как Гольдман, находят в произведении центральную структуру, то для Машрэ произведение всегда “де-центрировано”, в нем нет смыслового ядра, а есть только длящийся конфликт и несогласованность смыслов <…>. Задача критика не в том, чтобы заполнять пустоты, его задача — искать принцип конфликта смыслов и показывать, как этот конфликт порождается отношениями между произведением и идеологией” (с. 50). А Брехт, несколькими десятилетиями раньше, ставил поиск таких конфликтных и противоречивых структур как задачу не для критической рефлексии, а для самого художественного творчества: “Вместо целостности, якобы лишенной швов <…> пьеса оказывается прерывистой, разомкнутой, внутренне противоречивой <…> представляет собой не органическое единство, погружающее зрителя в гипноз от начала до конца спектакля, но прерывистое с точки зрения формы действие, нарушающее общепринятые ожидания и вовлекающее зрителя в критическое осмысление диалектических отношений между эпизодами” (с. 82, 83). Литература работает не с “реальной действительностью”, а с идеологией, которая, по Марксу, представляет собой принципиально искаженную, лакунарную структуру, не имеющую ничего общего с “органической целостностью”; следовательно, и сама литература должна являть нам такие не-целостные, неорганические структуры, не творить вечные и неподвижные образы, а разыгрывать смысловые конфликты.
Такая динамическая версия марксистской эстетики, основанная на самых плодотворных философских интуициях Маркса9, отнюдь не исчерпала своих возможностей, и эта часть написанного Иглтоном популярного очерка сохраняет всю свою ценность для современных читателей — даже и тех, кто скептически оценивает социально-реформаторский проект марксизма. Эта эстетика опирается на опыт “модернизма” и критически относится к “реализму” (для теоретического насаждения которого в нашей стране немало сделал в свое время один из “героев” книги Иглтона — Дьёрдь Лукач); зато и временные рамки ее применимости оказываются связаны по преимуществу с современной эпохой — с расцветом идеологии (в марксистском смысле термина) и с утверждением сознательно не-органического художественного творчества, стремящегося заострять, а не преодолевать конфликты. Таким образом, эта эстетика, как и историческая теория Лотмана, неуниверсальна, “соразмерна” одной лишь эпохе в развитии европейской культуры. Здесь — слепая точка анализа, проведенного английским критиком: автор не соотносит свою теорию литературы с развитием самой литературы, вообще не касается проблем ее эволюции и периодизации. Если что и способно разочаровать в его книге, то даже не столько повторение догматических положений марксистской вульгаты (его еще можно списать на популяризаторские задачи, стоявшие перед автором), сколько этот уход от собственно филологической проблематики, от истории литературы.
Третья рецензируемая здесь книга — “Дискурсы фантастического” Ренаты Лахман10 — работа вообще-то не столько теоретическая, сколько историко-литературная, но при этом оперирующая весьма обобщенными идеями и категориями, чем и обусловлена ее ценность. Феномен литературной фантастики, особенно после книги Ц. Тодорова “Введение в фантастическую литературу”, составляет один из излюбленных сюжетов современной теории, но, в отличие от большинства изучавших его авторов11, немецкая исследовательница сосредоточивает внимание не на отличиях, а на связях фантастики с другими типами литературного творчества. В сущности, это и есть подход историка, у которого глаз наметан не на концептуальные оппозиции, а на непрерывные переходы, промежуточные формы, моменты неопределенности в развитии. Вот и литературная фантастика, показывает Р. Лахман, вырастает из двух других литературных и общекультурных традиций, которые сложились в хорошо знакомой автору книги риторической словесности. Во-первых, это фигуры парадокса, широко практиковавшиеся в литературе Возрождения и барокко. Конечно, они хоть и близко подходят к фантастике, но сами еще не создают ее: при парадоксе странным, “неправильным” образом сочетаются слова и идеи, а при фантастике — вещи и живые существа, то есть один феномен имеет место на уровне логики, а второй — на уровне воображаемой онтологии или гносеологии, когда мы сомневаемся в своих способностях разобраться в каком-то странном происшествии. Во-вторых, это эстетика случайности, трактуемой либо как счастливый случай, творческое наитие, либо как расчетливо-случайная комбинаторика. Литературная фантастика так “конструирует случай, чтобы ничего не оставлять на волю случая” (с. 87—88), она реализует “неправильные” барочные кончетти, но реализует их именно в рамках жизнеподобной картины мира: “Существенное отличие от кончеттистов заключается в том, что в фантастической литературе семантическая работа не замыкается исключительно в словесной области” (с. 96). Фантастическая случайность сближается скорее с сюжетной “случайностью” романов Достоевского, где множество событий (не обязательно сверхъестественных) происходит “вдруг”.
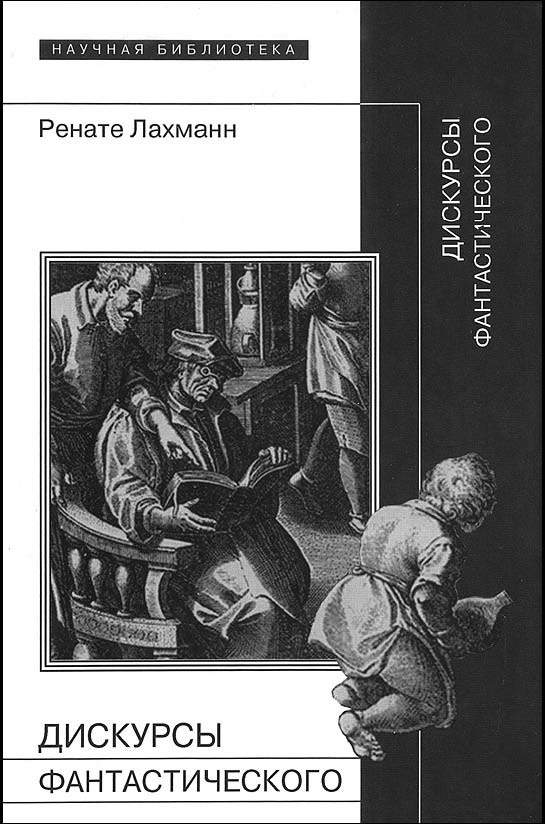
В других главах своей книги Р. Лахман описывает уже не исторические корни, а конструктивные элементы литературной фантастики — вневербальные культурные комплексы, оправдывающие ее введение в текст, и типичные сюжетные мотивы, которыми она оформляется. В числе элементов первого рода — эзотерическое знание (у Гофмана, Пушкина, Уайльда, Булгакова), мистическое переживание письма и буквы (у Гоголя, Достоевского, Готорна), взгляд с его тотализирующим и одновременно деформирующим потенциалом (“фантазматический” Петербург и “антифантазматический” Рим у Гоголя), утопическая картина мира (сон Обломова у Гончарова), фотографический образ (“Клара Милич” Тургенева). В числе элементов второго рода — мотивы метаморфозы (проза Бруно Шульца), памяти и ее деформаций (новелла Борхеса “Фунес”), мистификации (“Отчаяние” Набокова). Разборы этих и других текстов, взятых из разных национальных литератур и иллюстрирующих выделяемые автором “кирпичики” фантастической конструкции, читаются с наслаждением: впечатляют их тонкость, просвещенность, тщательная контекстуализация. Особенно эффектны разбор “Пиковой дамы” Пушкина, где в денежной авантюре Германна проступает символика масонской инициации; глава о мистике буквы и письма (каллиграфия Акакия Акакиевича у Гоголя и князя Мышкина у Достоевского; инфернальная нагрузка буквы в “Алой букве” Натаниэля Готорна); анализ сна Обломова как “консервативной утопии” ничегонеделания, дающая исследователю повод сопоставить разные картины мира — фантастическую, идиллическую и карнавальную.
Как уже сказано, Р. Лахман сосредоточивает внимание не столько на отличиях фантастики от других литературных явлений, сколько на их сходствах, на проницаемости границ между ними. Имплицитное определение фантастики, вырисовывающееся из ее книги (прямой дефиниции автор не дает), охватывает много таких явлений, которые редко относят к числу фантастических: мистику письма у персонажей “Алой буквы” или у чиновника-переписчика Башмачкина, утопический социум сонной Обломовки и т.д. Воздерживаясь выделять в фантастике какую-либо устойчивую структуру — например, колебание в интерпретации, на котором строил свою концепцию Тодоров, — Рената Лахман указывает, что такими структурами невозможно описать все многообразие литературной фантастики; так, в “неофантастике” XX в. (Борхес, Бьой Касарес, Кржижановский) “герметично замкнутые на самих себя альтернативные миры <…> не допускают ни игру в противоречия между привычным и чужим, ни амбивалентности” (с. 50). Не менее важен другой теоретический выбор: если наиболее распространенная концепция литературной фантастики, включая того же Тодорова, определяет свой предмет в терминах индивидуального опыта, переживаемого читателем и/или героем и часто восходящего к структурам индивидуального бессознательного (фрейдовского “жуткого”), то Рената Лахман — и здесь опять-таки специфика ее книги как историко-литературного исследования — отдает предпочтение внеиндивидуальным, культурным детерминациям литературного эффекта. Родовой категорией, включающей в себя фантастику, она называет такое высоко обобщенное понятие, как “иное” или “чужое”. Благодаря такому широкому углу зрения, проигрывая в точности определения, она выигрывает в богатстве изучаемых аспектов.
Здесь концепция Р. Лахман сталкивается с проблемой исторической периодизации, ибо “иное” и “чужое”, в ее интерпретации, — это не что иное, как оборотная сторона рационализированного мира, утверждаемого Просвещением. “Чужим становится оборотная сторона культуры, отвергнутое, оболганное, запретное, но желанное” (с. 7). “В большей части фантастических текстов один из голосов защищает позиции Просвещения, пытается отстоять его правоту в споре с антипросветительскими позициями <…>. В фантастической литературе есть свои посвященные, исследователи, экспериментаторы, скептики, суеверы. Общим объектом является для них Необъяснимое, одной стороной касающееся Просвещения, другой — Анти-Просвещения” (с. 113). В сне Обломова “фантазм ничегонеделанья встает перед “жизнестроительным” трудом как его “Другое”” (с. 216). Та же коллизия обнаруживается и в эстетике реализма XIX в., например у Тургенева: “Реализм скрещивает между собой две модели: модель метрическую, требующую точного описания и сосредоточенную на лишенном загадок внешнем существовании, — и модель, не поддающуюся метрическому дисциплинированию и стремящуюся выведать еще-не-просвещенное <…>. В итоге между изображением измеримого и противящегося измерению возникает зазор, в который и устремляется неумирающий фантастический дискурс” (с. 268—269). Феномен фантастики обретает историческую динамику: это не статичная категория, а “линия фронта”, место столкновения просветительского проекта с противящимся ему “иным” (традицией, религией, сакральным).
Такая историко-культурная концепция, редко применяемая в теоретических работах о литературной фантастике, возможно, не одинаково хорошо работает для всех видов последней, особенно для “неофантастики” XX в., где “иное”, иррациональное если и присутствует, то возникает из самой же рациональности (скажем, из математических моделей, как у упомянутого в книге, но не разбираемого подробно Сигизмунда Кржижановского). В любом случае это именно историческая концепция: она определяет фантастику не как вневременной тип “образности”, а как явление, связанное с эпохальным сдвигом в европейской культуре XVIII—XX вв., то есть с началом современной эпохи в этой культуре.
Тем самым работа Р. Лахман, посвященная сравнительно частному (хотя и очень содержательно богатому) типу литературного творчества, смыкается с более универсальными построениями Ю.М. Лотмана и Т. Иглтона: ее историкокультурной и одновременно теоретической рамкой служит эпоха современности. По-видимому, это общая тенденция, которую недооценивают сами теоретики: занимаются ли они общими или более конкретными проблемами, они по большей части, причем нередко непредвиденно для себя, опираются на историкокультурный перелом, с которого начинается современность. Их теория фактически становится теорией этого перелома — теорией современного типа культурного творчества. Подобно исторической науке, она неявным образом отвечает на вопрос “что было (до нас) и что стало (в наше время)”, осмысливая не прошлое или настоящее само по себе, а границу между ними; не так важно, что разные исследователи, исходя из своих задач и компетенций, по-разному проводят эту границу — одни по эпохе романтизма, другие ближе к “модернизму”. В любом случае перед нами любопытный факт — если так можно выразиться, ресурс имманентной историчности, которым обладает теория; тем важнее осознать его, вывести из подспудных предпосылок теоретического мышления на свет ясного исследовательского разума. Собственно, то будет очередной шаг в развитии просветительского проекта.
______________________________________________
1) См.: Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 21.
2) Лотман Ю.М. НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ КУЛЬТУРЫ / Подготовка текста и примечания Т.Д. Кузовкиной при участии О.И. Утгоф. Таллинн: TLU Press, 2010. 232 с. (Bibliotheca Lotmaniana).
3) Слова Фридриха Шлегеля об историке как “пророке, предсказывающем назад”, не раз цитировались в русской культуре, приписываемые то одному, то другому мыслителю: тут и стихи Пастернака, заменившего Шлегеля Гегелем, и анализ этой идеи в “Культуре и взрыве” Лотмана, где она рассматривалась как общая методологическая парадигма синтетической философии истории “гегелевского” типа, а ее автором был назван, по случайной обмолвке или опечатке, брат Фридриха Шлегеля Август-Вильгельм.
4) “…Взрыв превращает ситуацию непереводимости в ситуацию перевода” (с. 64): это замечание Лотмана, пожалуй, яснее, чем в других его текстах, обозначающее связь понятий “перевода” и “взрыва”, подкрепляет ту интерпретацию его культурной теории, которую дает Н.С. Автономова в книге “Открытая структура” (см. о ней в моем предыдущем обзоре).
5) См.: Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 24—26.
6) Иглтон Т. МАРКСИЗМ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА / Пер. с англ. К. Медведева под ред. Д. Потемкина и И. Аксенова. [М.:] Свободное марксистское издательство, [2009]. 114 с.
7) Проблеме идеологии посвящены две других книги Т. Иглтона — “Критика и идеология” (1976) и “Идеология: введение в проблему” (1991).
8) Замечание по переводу: фамилию французского философа Пьера Машере еще можно (хотя не очень рекомендуется) транскрибировать “Машрэ”, как в русском издании Иглтона, но вот имя Бертольта Брехта ни в коем случае нельзя писать “Бертольд”, как систематически делается в рецензируемой книжке.
9) Перед нами, можно сказать, метод диалектического материализма, в отличие от статичной марксистской идеологии — если воспользоваться разграничением, проведенным в замечательном эссе М.Л. Гаспарова “Лотман и марксизм”.
10) Лахманн Р. ДИСКУРСЫ ФАНТАСТИЧЕСКОГО / Пер. с нем. Н. Борисовой, Г. Потаповой, Е. Аккерман. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 384 с. 1000 экз. (Научное приложение. Вып. LXXIX). Имя автора по-разному транскрибируется даже в ее собственных книгах, переведенных на русский язык (в рецензируемом издании — Ренате Лахманн, в книге “Деконструкция красноречия”, 2001, — Рената Лахманн). Я пользуюсь написанием имени и фамилии одновременно и более простым и более традиционным для русского языка — Рената Лахман. Что же касается переводного названия “Дискурсы фантастического”, то оно более расплывчато, чем немецкий оригинал “Erzählte Phantastik” — “Повествовательная фантастика”, “Фантастика в рассказе”; реально имеются в виду не какие-то разные “дискурсы”, а всего один — нарративный. Впрочем, перевод заглавия наверняка согласован с автором, которая прекрасно владеет русским языком.
11) Некоторые из них почему-то фигурируют с неверными именами в тексте русского издания: “Луи Кастекс” вместо Пьер-Жоржа Кастекса (с. 43), “Эллен Бессьер” вместо Ирен Бессьер (с. 46). Вообще же русский текст книги более всего страдает от недопереведенности: переводчики не справляются с терминологией и вместо русских эквивалентов вводят неуклюжие кальки. В выражениях “этаблирование фантастического жанра” (с. 25), “фасцинозум знаков” (с. 146), “предвосхищает/антиципирует” (с. 258) или даже “ситуирование фантазма” (с. 210) еще более или менее понятно, что имелось в виду; даже фразы “в реализме аффицирующему влиянию фантазма подпадает сам дискурс” или “фантазм — это миметический выродок, доставляющий много хлопот реалистическому дискурсу” (обе — с. 210) не столько озадачивают, сколько раздражают читателя — можно же было сказать полюдски! Но встречаются и логически темные формулировки, например: “…идиллия, отключающая чужое время и пространство и допускающая измерение угрожающего лишь в пределах фантастических дискурсов…” (с. 228). Такого особенно много в главе “Мнемофантастика” (хотя она уже однажды публиковалась по-русски в сборнике 2001 г. “Немецкое философское литературоведение наших дней”), где грамматика и логика местами терпят полное поражение: “Таким образом, существуют две тенденции: одна полного растворения и саморасчленения, другая — не подчиняющегося никакому эклектицизму, никакой селекции и никакому ограниченному перспективизму расчленения воспринятых вещей, расчленения, находящего выражение в эксцентричной сигнификационной деятельности” (с. 317); “…предложение повествователя следовать логике числового ряда в том виде, в каком он занесен в счетную книгу культуры, повествователь оставляет Фунеса равнодушным…” (с. 325). Не буду перечислять другие мелкие огрехи: ошибочные инициалы, непроверенные переводы названий и т.п.