(Рец. на кн.: Цветков А. Сказка на ночь: Стихи. М., 2010)
Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2010
ХОРОШАЯ СКАЗКА О СТРАШНОМ
Цветков Алексей. Сказка на ночь: Стихи. — М.: Новое издательство, 2010. — 196 с. (Новая серия)
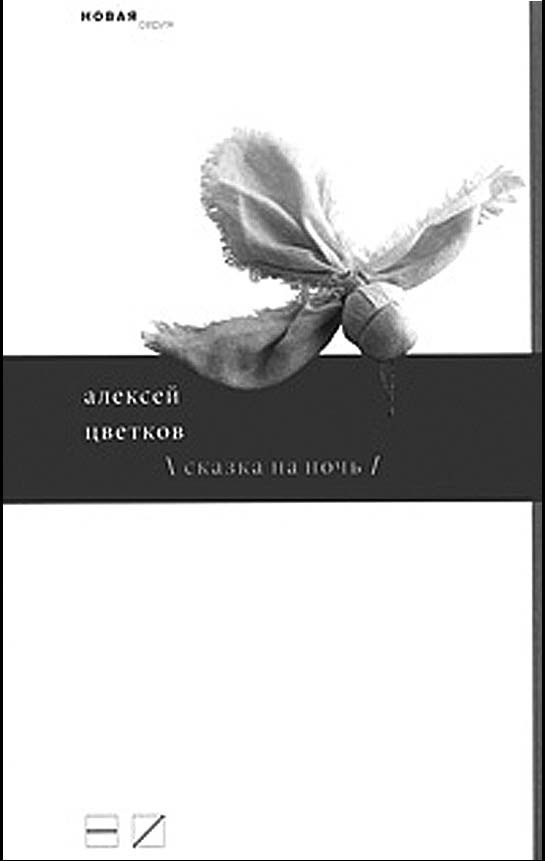
Поэтика новой книги стихов Алексея Цветкова, включившей в себя тексты одного года, что, похоже, становится для него традиционным, утверждает поэтику Цветкова “2000-х”, о которой к настоящему времени написано довольно много. Обобщая этот материал, можно выявить такие ее составляющие: синтетичность, основанная на обращении к широкому спектру традиций; встраивание в структуру рифмованного, ритмического стиха потока исповедально-дневниковой речи; метафоричность; ломка синтаксиса и отсутствие пунктуации; сочетание гражданской проблематики с “вечными вопросами”, конкретного с абстрактным, обыденного физического мира — с таинственным метафизическим.
Позволю себе два утверждения: эта поэтика абсолютно современна и естественным образом вытекает из поэтики Цветкова “1970—1980-х”. В интервью Артему Скворцову9 начальную границу периода, в течение которого он не писал стихи, Цветков ассоциирует с утратой “ощущения контекста”, а конечную — со “смутным чувством” его “присутствия”, упоминая потребность переждать, пока “поэтика ерничества и девальвации всего и вся” “сойдет на нет”. Но именно в эти годы — от рубежа 1980—1990-х до начала 2000-х — в русской поэзии произошел синтез различных традиций, с преодолением “ерничества и девальвации всего и вся” и выработкой новых способов авторского высказывания. Именно к концу этого периода утвердилась во всех отношениях полная свобода организации поэтического текста.
Полная свобода проявилась и в отношении вычленяемой при этом структуры действительности, прежде всего — ее метафизической составляющей. И постепенно в отношении ее стала усиливаться тревожно-апокалиптическая нота, проявляясь тем настойчивей, чем менее постижимой оказывалась ее таинственная сущность. Характерно, что тревога здесь сочетается с внешне спокойным и умеренно-ироничным принятием существующего положения вещей, инициируя прежде всего напряженную работу со сложно организанованным потоком мыслей и впечатлений, в котором перемешиваются все аспекты человеческой жизни. Погружаясь в глубины этого потока и одновременно отстраняясь от него, авторское “я” пытается постичь суть истинной реальности и ответить на “вечные вопросы”. Все это присутствует в поэтике Цветкова и, соответственно, в текстах его новой книги.
И это логически вытекает из поэтики Цветкова “1970—1980-х”, составляющие которой отчетливо обозначил Валерий Шубинский10 в рецензии на вышедшее в 2001 году в издательстве “Пушкинский фонд” собрание стихотворений Цветкова “Дивно молвить”: исповедальность, прямая оценка окружающего и метареализм. Стоящие у истоков осмысления “метареализма” Михаил Эпштейн11 и Константин Кедров12, предпочитающий термин “метаметафоризм”, пишут, что он опирается на представление о мире как едином континууме множества соотнесенных между собой реальностей. Иными словами, речь идет о выражении способами поэзии устройства истинной реальности, ощущаемой как единая, но дробящейся на многие при попытке выразить структуру этого единства. Служащая этой цели сложная метафора обычно обозначается не имеющим строгого определения термином Кедрова “метаметафора”.
Здесь уместно вернуться к вопросу об одной из важных составляющих поэтики Цветкова — нестандартных синтаксических структурах или ломке синтаксиса. Она может вызвать ощущение косноязычия или фасеточного восприятия действительности, тогда как речь идет об уплотнении восприятия, речи, образа для создания эффекта проявления множества соотнесенностей, отражающих структуру истинной реальности. В этом смысле ломка синтаксиса сродни метаметафоре, которая ее часто использует, равно как и отсутствие пунктуации, которое служит тому же уплотнению. В текстах новой книги Цветкова тотальное отсутствие пунктуации сочетается с далеко не тотальной ломкой синтаксиса, для них более характерна метафоричность, временами повышенной плотности и с переходом в метаметафору.
Многие тексты книги вполне соответствовали бы традиционной поэтике, если бы не отсутствие пунктуации. Следующая ступень уплотнения речевого потока — вполне нормативный, но несколько сжатый синтаксис: “она пришла но в теле не теплей / не донесется голос и не надо / теперь ее сыграла бы рената / литвинова но это не теперь” (с. 30). Ломка синтаксиса часто создает легко дешифруемую конструкцию: “все пришлые кого кричать на помощь” (с. 106), но может служить созданию емкого образа, подающего узнаваемое и привычное как существующее одновременно в неких непостижимых реальностях: “короткое время они на цепи завели / то рысью стремглав то садится и воет ужасно / а тело то в воздухе чуть ли не метр от земли / то в землю по самое то что хоть брось где увязло” (с. 111). Нечто подобное можно найти у Марии Степановой. В случае, когда синтаксическая конструкция приобретает вид, стремящийся к набору слов, возникает плотный, допускающий бесконечное число соотнесений и трактовок образ: “и добрый прозрачный сквозь тучи со снадобьем северн / в утробе волчицы чьи молча щенки города / где в роще неона над мертвым чье имя вода” (с. 10).
По сути, Цветков остается верен присущему ему виду сочетания традиционализма с метареализмом, расширяя выразительные средства и работая с метафорами разной степени сложности. Примерами того, что можно определить как метаметафора, являются такие строки из его новой книги: “конь в горизонт зазубренным хребтом / сквозь приступ зрения саднит глазница” (с. 45), или: “пока в бетон закатывали утро / гвоздями крепко накрест свет дневной / так я кричал ему внутри мне трудно” (с. 50). Здесь важно, что вне зависимости от сложности образов мир поэзии Цветкова — это мир обычной жизни человека, реальность которого определяется сочетанием неведомых реальностей. Это характерно для нынешней поэзии, существующей в ситуации запутанности метафизических представлений, и ведет к использованию фантастической реальности и метафизическим поискам даже в рамках канонических христианских взглядов.
Показательно, что в новой книге Цветкова при делении мира на обычную его часть и необычную, из которой в обычную проникает нечто, как правило, страшное, можно проследить тенденцию нарастания неведомости. В тексте “правда” фигурируют вполне традиционно-фольклорные “русалочьи дочери”, тяготеющие к “сынам человечьим” (с. 99); в тексте “змея” на палубе корабля появляется загадочно-ужасная “женщина-змея” (с. 123); а в тексте “умиление зверей” являются уже фантастические существа, о которых сказано, что “сияли в резком свете сверхзвезды / как топором наотмашь их портреты” (с. 39), и которые привносят с собой фантасмагорическую реальность. Подобную реальность можно найти у фантаста Марии Галиной. Еще к одному поэту-фантасту — Федору Сваровскому отсылает уже полностью относящийся к ведомству фантастики шуточный текст “сватовство майора”, повествующий о “старике андроиде” и его “электрической дочери” (с. 41).
В целом можно сказать, что поэтика Цветкова базируется на многоуровневом соотнесении и уплотнении в одно как можно большего количества составляющих. Отсюда и ее главное качество — синтетичность, опирающаяся, говоря словами Дмитрия Кузьмина (“Речь об Алексее Цветкове после присуждения ему в 2007 году Премии Андрея Белого”), на “апелляцию к наибольшему числу длящихся традиций” и “разнообразие инструментария”, что помещает ее в “центр национального литературного пространства”13. Стоящая за этим цель явно требует приставки “сверх”, что подтверждает сам Цветков. Так, в интервью Артему Скворцову он говорит о “желании превзойти самого себя”, “сверхзадаче” и “попытке совершить некое сверхусилие”. Эти слова хорошо прокомментировал Дмитрий Бак14, употребив такие выражения, как “стремление поэта превзойти “поэтическое”, выйти за пределы обычных компетенций”, реализуемое в “мире”, который “в отсутствие Бога” “не осиротел”, а “переполнен смыслами, как коробочка мобильного телефона — никому не нужными и даже неведомыми функциями”.
Подоплека происходящего сформулирована самим Цветковым еще в 1985 году в строках, отсылающих к одной из главных христианских молитв: “святый боже которого нету / страшный вечный которого есть”15. Эти постулаты красной нитью прошивают тексты его поэтических книг, но что, собственно, отрицает и утверждает Цветков? Синтаксис этих строк допускает варианты трактовок, однако очевидно наличие замещения. Если нет существующего в вечности христианского Бога, который олицетворяет Любовь и Добро, на его место встает “страшный вечный”, а падеж вопросительно-относительного местоимения указывает на его зависимость от чего-то.
Свою новую книгу Цветков назвал “сказкой на ночь”, содержанием которой, как сказано в одном из текстов, является рассказ о его жизни (с. 71), и уже в первом тексте книги сказано, что речь идет “о страшном своем” (с. 6). Эта “сказка” сочетает достоверность исповеди с мудростоическим восприятием жизни “изъездившего целый божий мир” и убедившегося, что он “уже не божий” (с. 43). Картин “страшного” в книге немного, гораздо чаще говорится о “пустоте”, и прежде всего это пустота души в ситуации отсутствия любви и добра, то есть Бога, в силу чего даже “слава” обращается в “пыль” и “нелепость” (с. 13). Бог остался в прошлом отпавшего от Него человека: “мы все выпускники нам больше бог не завуч” (с. 71). “Лампада спасительный образ свят” по-прежнему “в углу” места, где “сыны человечьи спят”, “но из спящих ему никого уже не спасти” (с. 99), потому что мир поделен на “белые кручи где живет / бог” и “угол где человек / мертв” (с. 128). Мертв или спит мертвым сном при жизни без Бога, и это один из видов смерти у Цветкова, по собственному и всеобщему признанию пишущего исключительно о любви и смерти.
Мир “уже не божий”, но какой? Задача разобраться в этом, с необходимостью выработки соответствующих поэтик, сформировалась в современной русскоязычной поэзии как центральная. И одним из самых значимых авторов в ней стал эмигрант, еще в 1975 году, как он пишет в своей новой книге, “подведенный к безвозвратному трапу” (с. 121). Пути поэзии неисповедимы, но можно указать на следующее. Поэтика Цветкова, уже в 1980-х признанного мастера, с самого начала развивалась в нужном направлении. А эмиграция качественно усилила синтетичность, позволив “изъездить” “уже не божий” мир как “целый”: “там”, которое стало “здесь”, и “здесь”, которое стало “там”, а в новых условиях коммуникации реально видеть происходящее “там” и “здесь”. С убедительной достоверностью очевидца Цветков свидетельствует такие, казалось бы, очевидные истины, что “стужа стоит не везде / но таки нигде не пускают в метро бесплатно”, и “там” — “нет никому ничего / только небо и звезды на нем” (с. 21).
Соотнося и уплотняя, Цветков выявил картину мира, сходную с описанной в книге Дмитрия Воденникова “Репейник” (1996), ставшей заметным явлением в литературе “1990-х”. Ее поэтика также базируется на соотнесении и уплотнении — внутри многоуровневой системы архетипических образов и мотивов. Рисуемая в книге фантастическая картина мира базируется на бесконечно-закольцованном поедании всего и вся, воспринимаемом как греховное, но трагическинеизбежное деяние. У Цветкова поедание также повсеместное и “беспощадное”, но не тотальное, как в “Репейнике”, а дифференцированное: едят “всех кротких и вкусных” (с. 91), сколько бы ни “верили попы в чудеса” (с. 90) обращения хищника в вегетарианца. В этом “добром” “на первый взгляд” “мире” человек оказывается на положении “волка”, рождаясь в “чужой” для него “стране зверей” и вынужденный жить по ее законам (с. 60). Это соотносится с учением христианства о неизбежной греховности земной жизни человека и чуждости его истинной природы этому падшему миру. Отличие в том, что здесь “в небе нет руки / шлющей милость” (с. 83) и человек остается лицом к лицу со “страшным вечным”, в столкновении с ним пытаясь ответить на “вечные вопросы”.
Новая книга подтверждает, что для Цветкова это по-прежнему вопросы любви и смерти. И если проблема любви разрешается проявлением сострадания, верности и привязанности, то в отношении смерти вопрос остается открытым: “вдруг нам кресты надгробные сулят / не пустоту до истеченья мрака”, а “взгляд” “навек в незатворенные глаза” (с. 124) того самого “страшного вечного”, с проявлениями которого мы сталкиваемся в земной жизни. Вывод Цветкова — “уж лучше жить / нет / умирать нельзя” (с. 124) — оптимистичен и побуждает к дальнейшей работе по соотнесению и уплотнению всего и вся, в попытке выявить, что есть мир человека, его жизнь и его смерть. И тут встает весьма актуальный для современной поэзии вопрос, затронутый в вышеупомянутом интервью Цветкова с Артемом Скворцовым.
Говоря о попытках человека понять истинное устройство мира, он отдает первенство религии, а не поэзии, которая “может только поднимать шум”, “сама она ни заменить религию, ни стать ею не может”. Отсюда, пользуясь вышеприведенными словами Дмитрия Бака, “стремление поэта превзойти “поэтическое”” в условиях “переполненности смыслами” мира, в котором “отсутствует Бог”. Поэзия делает свое дело, пытаясь охватить эту “переполненность” и развязать себе руки в области организации текста. В заключение же можно согласиться с Цветковым, что его “сказка” “о страшном своем” “хорошая” (с. 71). Она интересна, мастерски изложена, выводит за пределы повседневности и настраивает на оптимизм в отношении задаваемых повседневностью “вечных” вопросов, ориентируя на сострадание тому, кто является жертвой несовершенного устройства жизни. А что еще нужно от сказки, чтобы это был добрым молодцам урок?
Людмила Вязмитинова
__________________________________________
9) “Надо не гордиться, а знать…” // Вопросы литературы. 2007. № 3. С. 239—251.
10) Новая русская книга. 2001. № 3—4.
11) Эпштейн М. Парадоксы новизны. М.: Советский писатель, 1988.
12) Кедров К. Поэтический космос. М.: Советский писатель, 1989.
13) http://belyprize.ru/?pid=148.
14) Бак Д. Сто поэтов начала столетия: О поэзии Алексея Цветкова и Олега Чухонцева // Октябрь. 2009. № 6. С. 158—167.
15) Цветков А. Эдем. Энн Арбор, Мичиган: Ардис, 1985. С. 9.