(Рец. на кн.: Булатовский И. Стихи на время: Книга стихотворений. М., 2009)
Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2010
“ДЫШИ, ЕДВА ДЫША”
Булатовский Игорь. Стихи на время: Книга стихотворений / Предисл. О. Юрьева. — М.: Центр современной литературы, 2009. — 96 с. — (Серия “Русский Гулливер”).
В библиографии петербургского поэта Игоря Булатовского (р. 1971) значатся пять стихотворных книг. Две — эфемерные, почти никем не виденные16. Две другие17 плюс нынешняя — стали, пускай негромким с точки зрения критической рефлексии, но, по сути, важным событием в поэтическом движении современности18.
Осмысление этой “негромкости” Булатовского необходимо, поскольку, работая с самим веществом поэзии, автор отказывается от множества конвенций, в том числе наиважнейших для текущей поэтической процессуальности; думается, именно это имеет в виду Олег Юрьев, постулируя в предисловии к рецензируемой книге: “…Булатовский, пожалуй, единственный из своего поколения, стал большим поэтом “по классической системе”, в классическом смысле слова… — создав свой отдельный поэтический мир и своей отдельный поэтический язык…” (с. 9).
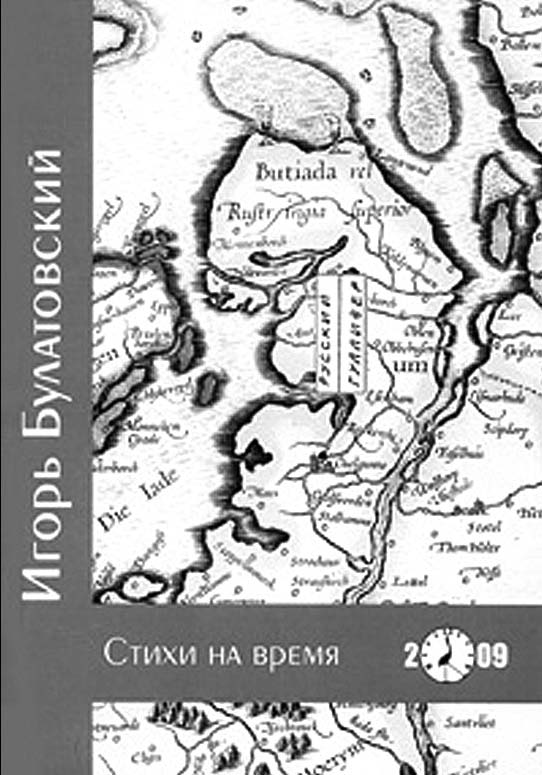
Я не готов по большому счету согласиться здесь с вполне естественным для жанра предисловия заострением “единственности” подобного пути. Более того, рискну предположить, что именно для поколения Булатовского (или, если расширить, нескольких “микропоколений” рожденных в 1970-е) как раз создание собственного, уникального поэтического мира было характерно. Можно высказать предположение, что связано это отчасти с механизмом литературного наследования (или, как формы его, отталкивания): перестроечный публикационный прорыв, создавший аморфное, искаженное, но все-таки единое культурное поле, включавшее забытых или запрещенных доселе классиков модернизма, авангарда и андеграунда, старших современников, существовавших в неподцензурном пространстве и эмиграции, значительный массив никогда или почти никогда не переводившихся — или же принципиально искаженных в переводе — иноязычных авторов, не могло не отразиться на особом качестве формирования личных художественных языков. При этом специфика данного момента была в некой произвольности и неравномерности чуть ли не ежедневно расширяющегося архива, который “подкидывал” начинающим поэтам самые неожиданные артефакты и модели, на первый взгляд вовсе не совместимые, но порой образовывавшие самые причудливые гибридные идиостили. Перед нами не свобода культурной информации и не ее отсутствие, но своего рода всполохи, первые этапы расширения вселенной, когда нет еще общих физических законов, нет целостного пространства и единого времени.
Это небольшое отступление о поколении, впрочем, не отменяет проговоренной Юрьевым уникальности Булатовского. Но сказать то, что сказано выше, необходимо, поскольку и в случае с Булатовским можно заподозрить весьма неожиданную поэтическую гибридизацию — из тех редких примеров ее, когда гибрид оказывается не менее полноценным и самостоятельным видом, нежели породившие его.
Те немногие, кто вдумчиво писал о Булатовском (прежде всего и в основном — Юрьев и Валерий Шубинский), отмечают элементы стилизации в ранних стихах Булатовского. Можно было бы приписать это давлению пресловутого петербургского мифа, но здесь все гораздо сложнее. Юрьев предлагает понимать принадлежность Булатовского к петербургскому культурному топосу совсем иначе: ““Петербургская поэтическая культура” (не знаю, как назвать умнее, но пусть пока будет так) никогда не была подарочным набором тем и приемов, никогда не была “культурной ленинградской поэзией”. Основным, основополагающим качеством ее было упрямое следование некоей диалектической конструкции, которая проявляется с особой отчетливостью в Петербурге или, быть может, вообще является Петербургом: трагически (или трагикомически) клубящийся хаос, забранный решетками строго организованных форм. Не на фоне Летнего сада, а сам Летний сад — ночью, зимой… Сами по себе формы не имеют никакого значения — только как формы существования хаоса, формы его подкожного биения и щелевого выглядывания… Если я читаю стихи Игоря Булатовского, то первоочереднее, чем сами стихи (пусть простит мне их автор), именно это ощущение: город жив”19. Иными словами, проявленность петербургского начала в зрелых стихах Булатовского, составивших книги “Карантин” и, особенно, “Стихи на время”, заключается именно в отказе от стилизации, от подчеркивания того условнокушнерианского начала, которое Юрьев связывает с вежливо обозначенной “культурной ленинградской поэзией”. Именно тот “хаосмос”, к которому стремится Булатовский, делает его, по этой логике, представителем подлинно петербургской поэтики (что, кстати, вполне согласовывается с классическим описанием петербургского текста по В.Н. Топорову).
Но здесь возникает довольно интересный поворот. В предыдущей книге Булатовского находим такое стихотворение:
Вот бы мне, как Сатуновский,
Рифмовать — не рифмовать,
Говорить, как волк тамбовский,
Век печати не видать,
Век в трамвайную трясучку
Весь просеять налегке
И за ручку рифму-сучку
Не ловить на сквозняке,
Век посеять из кармана,
Пыль посеять, прах пожать,
Дым вдыхать среди тумана,
Воздух ветром называть20.
Возникает соблазн назвать его если не программным, то, безусловно, имеющим отношение к самоописанию поэтики. Шубинский видит в выборе Сатуновского как “знака” новой поэтики автора своего рода продуктивную схиму: “… жертвы, на которые временами идет поэт, более чем оправданы. Жертвует он иногда широтой и силой дыхания (а свидетельство тому, что дыхание у него от природы широкое и сильное, и “Проспект”, и “Шарлатаны, шарталтаны…”, и первое стихотворение книги21, и практически все лучшие стихи “Полуострова”). Он как бы подверстывает себя к упомянутому в одном из стихотворений Яну Сатуновскому (чья поэтика была идеально приспособлена к свойствам его индивидуальности: безупречное чувство языка и интонации при слабом дыхательном горле). Жертвует он широтой зрения, многозвучностью, которые в “Полуострове” были”22.
Можно по-разному оценивать качество отказа поэта от каких-то свойств его поэтики в пользу других: то, что одному покажется жертвой, для другого будет избавлением. Однако в реплике Шубинского важно понимание значимости для личностного высказывания такого шага. Шаг этот, впрочем, вытекает напрямую из тех самых свойств петербургского “хаосмоса”, о которых говорилось выше. Именно оставаясь внутри просодического каркаса регулярной метрики, сохраняя рифму, поэт позволяет на иных уровнях стиховой системы максимальный отказ от упорядоченности либо гипертрофию этой упорядоченности, доводящую поэтическое высказывание, на первый взгляд, чуть ли не до дадаистического автоматизма.
В своих “стишках”23 Булатовский подчеркнуто отсылает к детской поэзии, к нарочитой демонстрации ритмичности как таковой, будто-бы-вымывающей смысл:
Недослышки,
Непонятки,
Кошки-мышки,
Пятнашки-прятки
Дотемна, дотемна.
Переклички,
Ау, считалки,
Единички,
Галочки-галки,
там — одна,
тут — одна
<…>
(С. 88)
— на деле же, напротив, демонстрирующей принципиальный разрыв между “беззаботной” семантикой ритма и проступанием сквозь нарочито инфантилизированные образы максимально трагического смысла24.
Структурно близок к этому приему и иной, связанный с повышенным вниманием Булатовского в новых стихах к зауми, точнее — псевдозауми. Для многих поэтов не авангардного вектора развития заумь приемлема как объект для семиотизации, однако именно для Булатовского это маргинальное, казалось бы, пространство оказывается своим. Яркий пример значимой зауми приводит Шубинский25; я отошлю к другому стихотворению, в котором проговаривание сакрального, символического концепта оборачивается пустым дудением (или дуновением?) и шорохом (шепотом?), которые, в свою очередь, оказываются метафорами индивидуального бытия в эпоху десакрализации:
Ничего за этим “ду”,
кроме теплого “ду-ду”,
ничего за этим “ша”,
кроме темного “ша-ша”.
Между этим вот “ду-ду”
и вот этим вот “ша-ша”,
спотыкайся на ходу
и дыши, едва дыша.
(C. 47)
Близки к подобной семантизированной зауми излюбленные тавтологии Булатовского (причем, как правило, именно в ударной, рифменной позиции).
Изощренная в звукописи и ритмических ходах, но прячущая эту изощренность в псевдоинфантильном гротеске, поэзия Булатовского и впрямь наследует не только высокому “хаосмосу” петербургского текста, но и экзистенциальному отчаянию Яна Сатуновского и “барачной школы”. Вместо выбранного Сатуновским, однако, принципа “рифмовать — не рифмовать” (субъект говорения у Булатовского все-таки говорит о существовании, подобном Сатуновскому, как о возможности, но не осуществленности) Булатовский максимально избегает не только прямого лирического пафоса, но и его деконструкции (и здесь прав Юрьев, противопоставляя Булатовского мастерам центона и интертекста, хотя и тот, и другой типы дискурсивных практик вполне подвластны Булатовскому). Странная встреча петербургского текста с лианозовским рождает нечто, отдаленно напоминающее таких мрачно-искрометных поэтов, как Юрий Одарченко и Борис Божнев (а может, даже и поздний Георгий Иванов):
Тихая затрещина,
темный разговор,
радость не обещана
с некоторых пор.
(Если это кончится
раз и навсегда,
ничего не кончится
раз и навсегда,
просто на затылочек
ляжет холодок,
будто погасила чек
тишина. Молчок).
(С. 60)
Однако Булатовский констатирует отнюдь не разрушение доступного пониманию субъекта мира, но собственно состояние мира, в значительной мере заполненного незначащими осколками смыслов, попросту шумом, но в глобальном смысле целостного и значительного: само устройство новых стихотворений Булатовского является метафорическим описанием подобной картины.
Данила Давыдов
____________________________________
16) “Белый свет” (1995), “Любовь до старости” (1996).
17) “Полуостров” (СПб.: Гиперион, 2003), “Карантин” (М.: KOLONNA Publications, АРГО-РИСК, 2006).
18) Помимо поэтических книг, Булатовским опубликованы совместная с Борисом Рогинским книга эссе “Человек за шторой: Истории о критиках, читателях и писателях” (М.: Новое литературное обозрение, 2004), переводы с идиш и французского, подготовлены издания сочинений Василия Комаровского.
19) Юрьев О. И т. д. // Октябрь. 2004. № 6. Цит. по: http:// www.litkarta.ru/dossier/yuriev-o-bulatovskom/dossier_ 843/.
20) Булатовский И. Карантин. С. 49.
21) Имеется в виду книга “Карантин”.
22) Шубинский В. Игорь Булатовский: “Карантин” // Новая Камера Хранения. Цит
. по: http://www.litkarta.ru/ dossier/shubinskiy-o-bulatovskom-nk/dossier_843/.23) “Даже не слова, а — “словечки”, из которых складываются стишки и песенки” (Шубинский В. Указ. соч.).
24) И в этом смысле Булатовский оказывается не противопоставленным поэзии своего (и следующих за ним) поколения, но работающим на весьма разработанном поле — естественно, совершенно по-своему. См. наши заметки о значении инфантильных мотивов и авторских моделей в современной поэзии: Давыдов Д. Мрачный детский взгляд: “переходная” оптика в современной русской поэзии // Новое литературное обозрение. 2003. № 60. С. 279—284.
25) “Стихотворение “Это маслице на сердце…” связано с одной из ключевых мифологем современной русской культуры — “еврейской бабушкой”. Но бабушка (может быть, собирательная) присутствует лишь в качестве оставшихся от нее слов, и даже не слов (тут уровень дробления еще меньше) — звуков…” (Шубинский В. Указ. соч.).