{Рец. на кн.: Leonid Aronzon: Ruckkehr ins Parodies / Hrsg. VonJ.R. During, I. Kukuj // Wiener Slawistischer Almanack Wien, 2008. Bd. 62)
Опубликовано в журнале НЛО, номер 4, 2010
Илья Кукулин
НЕОПОЗНАННЫЙ КОНТРКУЛЬТУРЩИК
LEONID ARONZON: RU ¨CKKEHR INS PARADIES / Hrsg. von Johanna R. Döring u. Ilja Kukuj // Wiener Slawistischer Almanach. — Wien, 2008. — Bd. 62. — 546 s.
В октябре 1970 г. 31-летний ленинградский поэт и киносценарист Леонид Аронзон, путешествовавший вместе с приятелем по Узбекистану, был смертельно ранен в горах под Ташкентом выстрелом из охотничьего ружья (по версии следствия, виноват в этом был сам Аронзон, а причиной могли быть желание покончить с собой или неосторожное обращение с оружием) и через несколько дней умер в больнице. Эта смерть не только произвела шоковое впечатление на всех, кто знал Аронзона, но и вызвала почти немедленную “канонизацию” поэта в ленинградской неподцензурной литературе — признание его “мучеником” и классиком новейшей русской словесности.
Парадоксальным образом гибель Аронзона дала последний, решающий импульс к эстетическому самоопределению поколения неофициальных поэтов, пришедших в литературу после Иосифа Бродского. Всем в этом кругу было хорошо известно, что Аронзон и Бродский, дружившие и входившие в одну компанию в начале 1960-х гг., впоследствии пришли к чрезвычайно различным манерам письма и стали воспринимать друг друга как соперников1. Прямо поэтику Аронзона никто из “младших” продолжать не пытался, но для молодых поэтов начала 1970-х — в особенности, видимо, для Виктора Кривулина2 — принципиальное значение имела психологическая и культурная новизна его поэзии и жизнетворческого поведения. Характерной для Бродского позиции романтического поэта-демиурга, претворяющего в стихах разные культуры и исторические эпохи, Аронзон противопоставил позицию автора слабого, уязвимого, не претендующего на “величие замысла” и в то же время пугающе свободного от любых привязанностей — даже от привязанности к жизни — и тем самым творящего новую концепцию личности в литературе. Подспудное, опосредованное влияние эстетики Аронзона или неявный диалог с его стихотворениями, по-видимому, можно наблюдать в очень широком спектре поэтик авторов 1990—2000-х гг., от Дмитрия Строцева (см. его стихотворение “Гнев об Аронзоне”) до Василия Бородина3.
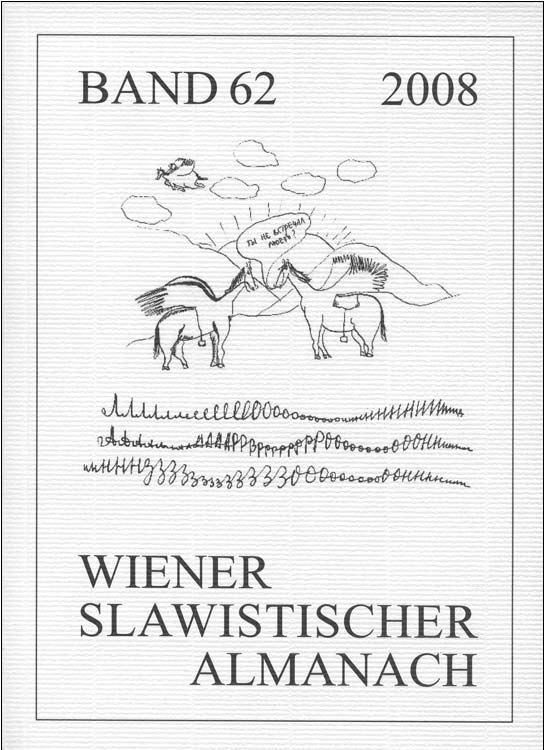
После формирования “аронзоновского мифа”, закрепившегося в самиздатских журналах и обсуждениях на полуподпольных семинарах 1970-х гг., дальнейшее развитие посмертной репутации поэта и судьба его наследия складывались драматически. Творчество Бродского, несмотря на то что его стихи не печатались в СССР, было признано и любимо многими группами советской и постсоветской интеллигенции. Произведения Аронзона на протяжении нескольких десятилетий были востребованы только в сравнительно узком кругу, расширявшемся очень медленно. Аронзон оставался “поэтом для поэтов”. Ситуация эта, в общем, легко объяснима: стихи Аронзона у неподготовленного читателя могут вызвать скорее растерянность, чем заинтересованность или тем более восхищение: на первый взгляд, они выглядят любительскими, сосредоточены на приватных переживаниях — любви к жене, отношениях с друзьями, личной религиозности, углублении в собственные чувства (с оттенком культивирования богемной праздности) — и кажутся аутичными до сомнамбулизма.
Посмертная судьба Аронзона была необычной даже для неподцензурной литературы. К двум названным выше обстоятельствам — весьма ограниченной известности и мифологизированности биографии — следует добавить и то, что бóльшая часть его произведений не попала даже в самиздат, а его репутация была основана на небольшом количестве “ударных” стихотворений. Вопрос о том, что принципиально нового его стихи внесли в русскую поэзию, несмотря на начатую в 1980-е гг. исследовательскую работу, до сих пор, кажется, в явном виде не поставлен, поэтому культурный статус творчества Аронзона остается неопределенным. Контекст его творчества, как и истоки явно связанного с эстетическими новациями поэта “аронзоновского мифа”, кажется, ускользает от описания и анализа.
В последние десятилетия было подготовлено несколько сборников стихотворений Аронзона: в 1985 г. в Иерусалиме, потом — в Петербурге, Франкфуртена-Майне и т.д., вышел CD с записями авторского чтения… Однако описание масштабного по объему и вдобавок разнесенного по двум частным собраниям (В. Аронзона и В. Эрля) архива шло долго и тяжело4. Только после того, как эта работа была в целом завершена, в 2006 г. в Издательстве Ивана Лимбаха наконец вышло двухтомное собрание сочинений, в котором были представлены все зрелые произведения — стихи и проза — и репродуцированы многие рисунки и словесно-визуальные композиции поэта. В рецензии на двухтомник Данила Давыдов провозгласил, что “…Аронзон теперь вписан в научную историю русской литературы — так что <…> исследователю не придется доказывать необходимость внимания к [его] наследию…”5. Один из интерпретаторов и издателей творчества Аронзона, поэт и прозаик Олег Юрьев, оценил выход этого издания еще более энергично: “Теперь все будет по-другому — с нами, с нашей поэзией, с нашим языком. Я думаю, мы спасены”6.
Косвенным следствием публикации двухтомника стал выход тематического номера “Венского славистического альманаха” “Леонид Аронзон: возвращение в Рай”, целиком посвященного изучению творчества этого автора и составленного двумя работающими в Германии филологами — Йоханной Ренатой Дёринг (Мюнхен) и Ильей Кукуем (Билефельд), ранее принимавшим участие в подготовке “лимбаховского” собрания. Отдельные статьи об Аронзоне на русском и других языках публиковались и ранее (в том числе и в “НЛО”7), однако сборник представляет новый этап в осмыслении его творчества. Едва ли не половина авторов, писавших статьи специально для сборника, подчеркивают, что переломным этапом не только в эдиционной истории, но и в истории исследований Аронзона стало издание двухтомника 2006 г.
Помимо статей на русском, английском и немецком языках, в сборник вошло несколько очень важных разделов: подробный библиографический список самиздатских и типографских публикаций Аронзона, составленный Владимиром Эрлем (учтены не только авторские сборники и подборки, но и публикации отдельных текстов в составе научных изданий и критических статей), хроника основных событий жизни поэта, подготовленная Ильей Кукуем, и не публиковавшиеся ранее записные книжки Аронзона и его ранние стихотворения (подготовка текстов — Петра Казарновского, Ильи Кукуя и Владимира Эрля).
Авторы сборника — преимущественно литературоведы, поэты и критики, большинство — известные или очень известные: так, в сборник включены расшифровки магнитофонных записей лекций об Аронзоне, прочитанных двумя выдающимися русскими поэтами, Ольгой Седаковой и — увы, недавно ушедшей от нас — Еленой Шварц8. В сборнике участвуют филологи, последовательно на протяжении многих лет занимающиеся исследованием творчества и текстологии Аронзона — Илья Кукуй и Петр Казарновский.
Темы сборника весьма разнообразны, тут есть и имманентные разборы произведений Аронзона, и масштабные историко-литературные гипотезы (как, например, идея “новой гимнографии”, обоснованная в лекции-статье Ольги Седаковой: представителями этой “гимнографии” в ХХ в. поэт считает Пастернака, Аронзона и Пауля Целана), однако у включенных в книгу разборов есть общая черта: авторы редко сопоставляют Аронзона с современниками и никогда — с последователями. Главное подспорье в анализе — обращение к русским и (гораздо реже) европейским поэтическим традициям XIX—ХХ вв. Таким образом обсуждается и “поэтическая философия”, одна из главных составляющих творчества Аронзона: в детальной, весьма содержательной статье Натальи Фатеевой ““Лежу я Бога и ничей…”: поэтика парадоксализма Л. Аронзона” эта “философия” описана с опорой на переклички стихотворений Аронзона с произведениями Велимира Хлебникова и Игоря Северянина.
Исключения из этого правила — Наталья Азарова и Райнер Грюбель, которые рассматривают поэтическое мышление Аронзона не только в историко-поэтических, но и в других контекстах: Грюбель — в философском и социокультурном, Азарова — в философском. Райнер Грюбель в своей содержательной статье “Ничто лица. Поэтический рай пустоты Леонида Аронзона: еврейскорусская религия искусства” анализирует творчество Аронзона как “эстетическую теологию” и показывает, как в этой “теологии” взаимодействуют иудейские и христианские мотивы, в том числе и в игре слов (с. 126). Наталья Азарова обсуждает философский смысл употребления местоимения “ты” в стихотворениях Аронзона в сопоставлении с диалогической философией Мартина Бубера и Якова Друскина.
Одна из стержневых тем сборника — возрождение Аронзоном жанров философской элегии и религиозно-философской оды в ситуации, когда обусловленный революцией разрыв преемственности сделал дальнейшую трансляцию традиции этих жанров невозможной. Об этом пишут Ольга Седакова, Петр Казарновский, Юрий Рубаненко и др. Обойти тему “воскрешения исчезнувшей поэзии” оказывается невозможным и в “имманентных” анализах произведений Аронзона. Например, П. Казарновский подробно рассматривает мотивы глубины в стихотворениях Аронзона — как “буквальной” глубины пространства (например, пейзажа), так и метафорической глубины духовного пространства, созерцаемого внутренним зрением повествователя-визионера, возникновение и развитие этих мотивов Казарновский интерпретирует как возрождение жанра элегии XIX в., для которого “характерны временные совмещения, проникновение в глубь внутреннего мира адресата и, что самое важное, усилие оценить, синтезировать экзистенциальный и эзотерический опыт. <…> Из традиции, восходящей к Пушкину, Баратынскому, Тютчеву, Аронзон перенимает опыт гармонизации экзистенциального опыта, причем не в философском смысле (часто заретушированном), а в подчеркнуто личном, интимном, домашнем” (с. 80, 81).
Другая сквозная тема сборника — возрождение Аронзоном традиций русского авангарда и конкретно — его хлебниковской традиции, тоже после ее блокирования в тоталитарную эпоху. Об этом — статья Сергея Бирюкова “Опыты неописательного письма”: “…Аронзон уже в начале 60-х входит в стихию хлебниковского слова, синтаксиса, ритма” (с. 251).
Только Владислав Кулаков и Томас Эпстайн выносят в центр своей работы сопоставление поэтических систем Леонида Аронзона и его современников: Кулаков обращается к творчеству поэта Станислава Красовицкого9, Эпстайн — к творчеству европейских и американских “шестидесятников”, от Боба Дилана до Пьера Паоло Пазолини (“Дух [Zeitgeist] этой эпохи был одним из абсолютов: Все или Ничего. Все и Ничего” — с. 4210). Однако сравнения, предложенные в статье Эпстайна, изложены весьма эскизно — скорее в эссеистическом, чем в аналитическом, духе. Например: “Как и два его любимых музыканта, Глен Гульд и Джон Колтрейн, Аронзон был одновременно сверхдуховным (hyper-spiritual) и глубоко чувственным…”, или: “…подобно поэтам-битникам, Аронзон <…> пережил второе рождение на руинах, в пепле конца света (Хиросима, Колыма и Дахау <…>)…” (там же). Сами по себе эти аналогии интересны и многообещающи, но из их беглого перечисления трудно понять, почему и каким образом Аронзон, Дилан и Пазолини выражали дух времени катастроф.
Еще одно сопоставление работы Аронзона с произведениями современников проводит Сергей Бирюков. Он справедливо указывает на перекличку творчества Аронзона с произведениями авангардистов Ры Никоновой и Сергея Сигея (с. 257), но никак не объясняет, в чем был смысл приемов, которые в 1960-е оказались общими для Аронзона, Никоновой и Сигея и которые не имеют аналогов в творчестве Хлебникова. Один из таких приемов — экспериментирование с графикой машинописного текста (двойная несовпадающая печать одного и того же текста на одной странице, так что у каждой буквы появляется словно бы тень — см. репродукцию стихотворения “Ателье блуз” на с. 257). По-видимому, Аронзон, Никонова и Сигей были среди первых авторов, воспринявших обусловленный “самиздатской” ситуацией новый вид поэтического текста — машинописную страницу — как новую эстетическую реальность, свидетельствующую об особой приватности текста. Впоследствии такое эстетизирующее отношение к машинописной странице привело к формированию эстетики визуальных произведений Д.А. Пригова в духе его сборника “Стихограммы” (опубликован в Париже в 1985 г.). Если же говорить о том, к каким истокам могут быть возведены “машинописные” и визуальные эксперименты Аронзона, то следует назвать, конечно, не поэтику Хлебникова, а скорее европейский дадаизм и советскую агитационную графику 1920-х гг., в духе, например, Эль Лисицкого.
Общий уровень статей, включенных в сборник, очень высок, но мне бы хотелось обсудить не столько сами статьи, сколько тематические ограничения, характерные для всех вошедших в сборник работ. Перечислю, хотя бы эскизно, проблемы, которые остались за пределами внимания авторов сборника.
Образ Аронзона словно расщеплен надвое. В большей части статей Аронзон — продолжатель традиций европейской, а еще больше — русской модернистской поэзии, от Пастернака до Заболоцкого. В меньшей — радикальный авангардист, обрушивающий на читателя множество необычных приемов (работы С. Бирюкова и Рено Факкани). Как эти стилистики сочетались в сознании автора? Этот вопрос в новом сборнике в явном виде не поставлен.
Аронзон в записных книжках и мемуаристы упоминают об экспериментах поэта по расширению сознания с помощью психотропных веществ, однако в книге не обсуждается, были ли эти эксперименты обусловлены особенностями стилистики и эстетики Аронзона или, наоборот, оказали влияние на его произведения. О самих же этих опытах по расширению сознания из авторов сборника упоминает только Райнер Грюбель.
В статьях заходит речь и о значении эротических и сексуальных мотивов в поэзии Аронзона (Томас Эпстайн, с. 43), в подтверждение чему приводятся соответствующие цитаты, иногда вполне эпатажного свойства (см., например, в статье С. Бирюкова на с. 251—252), но культурный смысл этих мотивов так и остается непроясненным.
Игнорирование трех этих аспектов проблематики в сборнике, похоже, имеет систематический характер. Возникает подозрение, что большинство участников находятся под неявным воздействием комплекса идей, который манифестарно и крайне заостренно оказался проговорен в статье-лекции Елены Шварц “Русская поэзия как hortus clausus: случай Леонида Аронзона”. Мне кажется, что эти идеи в смягченном, диффузном, “анонимном” виде присутствуют в современном культурном сознании, вызывая одностороннее представление о культурном значении таких авторов, как Аронзон.
“Hortus clausus” на латыни — в буквальном значении “внутренний двор”, но в Средние века это выражение получило метафорическое значение — “скрытое место”, укромное, укрытое от глаз посторонних пространство. Известен мадригал Орландо ди Лассо, в котором так названа Богородица.
Елена Шварц говорит о литературной ситуации 1960-х (позволю себе привести обширную цитату, так как важны здесь не только отдельные мысли, но и связывающая их логика): “…очень опасной тенденцией, с моей точки зрения, была [тогда] западная ориентация на как раз тогда покоривший мир vers libre, свободный стих. Я считаю большой заслугой именно этого поколения, и Бродского, и Аронзона, и даже московских официальных поэтов — Евтушенко (какой бы он ни был), Вознесенского, Ахмадулиной — что они не пошли по пути верлибризма. Поэзия, с моей точки зрения, есть слияние мысли и музыки, то есть путем погружения в какую-то дионисийскую стихию, в музыкальное хаотическое море. <…> Сейчас современная поэзия по своему формальному устройству приближается к самой древней поэзии, может быть, к римским и греческим истокам, то есть она организована ритмически. Она может не иметь рифмы, но обладает ритмическим началом, а верлибр — нет. И поэтому это тупиковая мертвая ветвь, которая после войны погубила поэзию на Западе, просто ее уничтожила. <…> Россия [в 1960-е] оставалась фактически единственной страной (ну, не совсем, конечно…), которая противостояла верлибру. <…> [Русская поэзия] была, есть и, я думаю, всегда будет абсолютно закрытым пространством, не доступным со стороны” (с. 49—51).
Неловко и трудно полемизировать с работой Елены Шварц — одного из крупнейших русских поэтов второй половины ХХ в. Но я хотел бы оспорить не ее культурный статус и тем более не ее поэтику, но ее философскую и методологическую позицию в критике — а на это, мне кажется, при условии корректности аргументов есть право у любого автора. Эта полемика мне представляется тем более необходимой, что, как уже сказано, процитированная мысль характерна не только для Шварц — аналогичные соображения высказывались самыми разными авторами, в том числе и в самое недавнее время11, Шварц лишь изложила ее в наиболее радикальном и концентрированном виде.
Превосходно знавшая историю христианства Шварц в приведенном пассаже, насколько можно судить, дает неявную, но совершенно сознательную аллюзию на давнюю религиозно-политическую концепцию России как единственной страны, после падения Константинополя стоящей в истине православия против всего Запада. В современном мире Россия для Шварц оказывается уникальной хранительницей самопознания человека, основанного на ритмически организованной поэзии, и поэтому (этот логический переход очень важен!) русская поэзия всегда останется непостижимой для внешнего взгляда.
После общего “изоляционистского” вступления к своему курсу лекций 2007 г. Шварц делает резкий поворот и предлагает анализ произведений Аронзона не с точки зрения столь уникальной для русской поэзии ритмики, а с точки зрения психоаналитического юнгианского разбора ключевых для его поэзии образов холма и свечи. Читателю — или слушателю лекции Шварц — остается предполагать, что, несмотря на то что поэзию Аронзона можно анализировать по немецкому психологу Юнгу, она все равно есть hortus clausus, подлинное значение которого можно понять только в контексте русской поэзии.
Мне кажется, что подобное изоляционистское восприятие оказывается своего рода скрытым магнитом, который направляет “силовые линии” интерпретации и в некоторых других работах об Аронзоне: творчество Аронзона предстает как феномен, который может быть рассмотрен только в контексте классической поэзии, на фоне традиций “школы гармонической точности” (Л.Я. Гинзбург) или модернизма “серебряного века”.
Вероятно, подобный путь интерпретации до некоторой степени был предопределен самим строем творчества Аронзона. Для его зрелых стихотворений характерна чрезвычайная плотность и демонстративность реминисценций из русской поэзии XIX и первой половины XX в. — ритмических, грамматических, семантических. Взять хотя бы знаменитые строки:
В рай допущенный заочно,
я летал в него во сне,
но проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?
(“На стене полно теней…”, 1969)
Сам Аронзон с удовольствием обсуждал в своих дневниковых записях и эссе сходство своей поэтики с поэтикой тех или иных классиков или дилетантов, но обязательно представителей “старинного слога”; например, он с нежной иронией любил строки третьестепенного поэта Афанасия Анаевского (1788— 1866): “Полетела роза / На зердутовых крылах, / Взявши вертуоза (sic!), / C ним летит в его руках”.
Однако если не удовлетвориться лишь указанием на такого рода реминисценции и пойти дальше, можно увидеть, что Аронзон не только вводит в стихи разнообразные стиховые аллюзии, но и деконструирует их, лишая легитимирующей силы, и в этом он для 1960-х гг., стремившихся заново выстроить связи с прошлыми культурными эпохами, был безусловным новатором. Это условные, полуигровые аллюзии. Если обратить внимание на такой “промежуточный”, “необязательный” статус интертекстов у Аронзона, некоторые проанализированные в сборнике стихотворения могли бы предстать в новом свете. Например, Владислав Кулаков провозглашает, что в последние три года жизни “доминирующая в предыдущие несколько лет [развития Аронзона] обэриутская стилистика окончательно переплавилась в нечто действительно уникальное” (с. 245), и в качестве доказательства приводит известное стихотворение12:
Полулежу. Полулечу.
Кто там полулетит навстречу?
Друг другу в приоткрытый рот,
Кивком раскланявшись, влетаем.
Нет, даже ангела пером
Нельзя писать в такую пору:
“Деревья заперты на ключ,
Но листьев, листьев шум откуда?”
Нельзя сказать, чтобы это стихотворение было вовсе лишено перекличек с произведениями обэриутов. В предпоследней строке содержится явная реминисценция из стихотворения Заболоцкого “Ивановы” (1928): “Стоят чиновные деревья, / почти влезая в каждый дом; / давно их кончено кочевье — / они в решетках, под замком” (напомню, что Аронзон, по образованию филолог, защитил дипломную работу по творчеству Заболоцкого). Однако эта реминисценция не имеет цели “укоренить” стихотворение в обэриутском контексте — это, скорее, своего рода пометка на полях, не требующая обязательного читательского узнавания.
Приведенный выше пример “реминисценции по касательной” — еще не деконструкция, но весьма близкое к ней явление: ссылка на поэта-предшественника перестает быть “сильным” членом оппозиции “чужое авторитетное слово — собственное слово автора, чью авторитетность еще нужно доказать”. “Часто под деконструкцией понимается такое обращение с бинарными оппозициями любого типа (формально-логическими, мифологическими, диалектическими), при котором оппозиция разбирается, угнетенный ее член выравнивается в силе с господствующим, а потом и сама оппозиция переносится на такой уровень рассмотрения проблемы, с которого видна уже не оппозиция, но скорее ее возможность (чаще — невозможность)”13.
О близости поэтического метода Аронзона к деконструкции упоминает в своей статье Томас Эпстайн (с. 43), но никак не аргументирует этот тезис, подавая его скорее в эссеистической форме. Деконструктивистский элемент поэтики Аронзона вполне можно описать более развернуто, но как будто что-то препятствует такому описанию — своего рода незримое моральное обязательство рассматривать творчество поэта только с точки зрения преемственности, а не разрывов с традицией. В сборнике помещено исследование о произведении Аронзона “Сонет душе и трупу Н. Заболоцкого” (1968), приналежащее одному из специалистов по творчеству Заболоцкого, поэту и филологу Игорю Лощилову. Удивительно, что в своей обширной работе Лощилов уклоняется от разбора ключевого парадокса обсуждаемого им сонета: бесконечной “взаимооборачиваемости” “я” повествователя и мертвого Н.А. Заболоцкого. Первый катрен сонета говорит о Заболоцком, второй — о “я” повествователя (“Однако мне отпущен дар другой…”), а терцеты устанавливают между этими голосами отношения неустойчивого взаимоперехода (что контекстуально “поддерживается” мотивом зеркала и отражения, вообще очень значимым для Аронзона):
Увы, всегда постыден будет труд:
где, хорошея, розаны цветут,
где, озвучив дыханием свирели,
своих кларнетов, барабанов, труб,
все музицируют — растения и звери,
корнями душ разваливая труп!
Подобный подрыв парной оппозиции — в данном случае оппозиций “я — другой” и “я — поэт-предшественник” — как раз и лежит в основе деконструкции. (Вероятно, и приведенные выше строки Анаевского нравились Аронзону, среди прочего, и романтическим “взаимообращением” субъекта и объекта, “розы” и “вертуоза”.)
При чтении Аронзона под этим углом зрения становятся заметны не только близость его поэтики к деконструкции, но и другие черты специфически постмодернистского мышления, в частности самостоятельно открытая Аронзоном идея ретроактивного изменения восприятия более ранних авторов под влиянием чтения более поздних: “Пушкин влиял на Державина, Ломоносова и пр.” (с. 331; эта фраза из записных книжек поэта впервые опубликована в рецензируемом сборнике).
Теперь, если объединить в единую исследовательскую рамку те особенности поэтики и культурного поведения Аронзона, о которых пишут авторы сборника (апелляции одновременно к европейской классической традиции XIX в., от Байрона до Бодлера, и к радикальному авангарду дадаистского типа; принципиальная установка на антиномичность и парадоксальность поэтики; глубокий интерес к мистике и оккультизму), с теми, о которых они не пишут (внимание к эротическим переживаниям и их мистическая интерпретация; эксперименты с психотропными веществами; мотив выхода за пределы линейного времени и причинно-следственных связей; предвосхищение поэтики постмодернизма, но не в расслабленной интонации “конца истории”, а скорее в экстатической интонации экзистенциального прорыва), то можно увидеть узнаваемый набор черт европейско-американской “высокой” контркультуры 1960-х гг., от поэтовбитников до Джона Леннона или Алена Роб-Грийе. К этому международному движению, несомненно, и принадлежал Аронзон, и был ярким и очень своеобразным его представителем. Не такой уж и hortus clausus.
Составители и авторы сборника решили очень важную задачу: они произвели на современном уровне всесторонний имманентный анализ поэтики Аронзона. Мне кажется, однако, что дальнейшее “отдельное” исследование его творчества само по себе не слишком перспективно: для того чтобы поэзия Аронзона могла быть описана не как музейное, а как живое явление, она нуждается в дальнейшей контекстуализации.
________________________________
1) Впрочем, с внешней точки зрения они все равно воспринимались как люди одного круга: в известном фельетоне “Окололитературный трутень”, предшествовавшем аресту Бродского, “некий Леонид Аронзон” упомянут как человек, неизвестно зачем перепечатывающий стихи Бродского “на своей пишущей машинке” (Ионин А., Лернер Я., Медведев М. Окололитературный трутень // Вечерний Ленинград. 1963. 29 нояб.).
2) См.: Иванов Б.И. Виктор Кривулин — поэт российского Ренессанса (1944—2001) // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С. 273; Кривулин В. Охота на Мамонта. СПб., 1998. С. 154—155.
3) См.: Строцев Д. Виноград. Минск: Виноград, 1997; Он же. Остров Це. Минск: Новые Мехи, 2002; Он же. Бутылки света. М.: Центр современной литературы, 2009, и др.; Бородин В. Луч. Парус: Стихи. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2008.
4) См. рассказ об этой работе: Аронзон В. О том, как “рукописи не горят”, или Заметки о публикации произведений Леонида Аронзона // Критическая масса. 2006. № 4. С. 55—56. В настоящее время часть архива, которая хранилась у Виталия Аронзона, старшего брата поэта, живущего в США, передана на хранение в Архив Центра исследований Восточной Европы Университета Бремена (ФРГ).
5) Давыдов Д. Миф и наследие [Рец. на кн.: Аронзон Л. Собр. произв.: В 2 т. / Сост., подгот. текстов и примеч. П.А. Казарновского, И.С. Кукуя и В.И. Эрля. СПб., 2006] // Критическая масса. 2006. № 4. С. 52.
6) Юрьев О. Об Аронзоне (в связи с выходом двухтомника) // Там же. С. 64.
7) См. мемуарное эссе: Авалиани Д. О Леониде Аронзоне // НЛО. 1996. № 14. Библиографический список публикаций об Аронзоне, составленный Иваном Ахметьевым, см. в Интернете: http://rvb.ru/np/publication/02comm/21/01 aronzon.htm. Наиболее значительная работа о поэте — написанная в первой половине 1980-х гг. книга А. Степанова “Главы о поэтике Леонида Аронзона”, до сих пор опубликованная только в Интернете. Из работ, не указанных в названном списке, см., например: Айзенберг М. Некоторые другие // Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М., 1997. С. 69—70; Böhmig M. Il sonetto russo nella seconda metàdel▒900 tra norma e sperimentazione // Europa orientalis. 1999. № 18. P. 42—43, 50; Кукуй И. Два “Пустых сонета”: анализ стихотворений Л. Аронзона и А. Волохонского // Поэтика исканий или поиск поэтики. М., 2004.
8) Лекции были прочитаны в составе курсов о новейшей русской поэзии в 2007 г.: Шварц — в Университете Висконсин-Мэдисон (США), Седаковой — в Стэнфордском университете (США).
9) Предложенное Кулаковым сопоставление двух поэтов по признаку антипсихологизма их произведений представляется весьма продуктивным, однако жаль, что в статье не учтено эссе Аронзона “Размышления от десятой ночи сентября”, которому предпослан эпиграф из Красовицкого (см. в двухтомнике: Т. 2. С. 123—125).
10) Здесь и далее переводы иноязычных текстов выполнены мной.
11) Ср., например: “[Мы] притоплены гигантским количеством верлибров как бы одного совокупного автора, к тому же переводного. Это вполне в духе конвенциональной “мировой поэзии”; если называть вещи своими именами (а почему бы нет), это — недопоэзия, следовательно — не поэзия” (Костюков Л. Интонации нового века // Новый мир. 2010. № 4).
12) Я позволил себе для экономии места сократить цитату.
13) Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 19.