Опубликовано в журнале НЛО, номер 1, 2009
ВРЕМЯ — ИСТОРИЯ — ПАМЯТЬ: ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСОЗНАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ / Под ред. Л.П. Репиной. — М.: ИВИ РАН, 2007. — 320 с. — 300 экз.
Центр интеллектуальной истории ИВИ РАН продолжает издавать посвященные проблеме исторической памяти сборники, методологически важные не только для историков, но и для филологов. В данном сборнике рассматриваются две проблемы: какие жанровые формы помогают исторической памяти стать коллективной и как устроено историческое время, если смотреть на него только изнутри опыта повествовательного нарратива об истории. Во вводной статье руководитель Центра Л.П. Репина противопоставляет два жанровых принципа: классическое античное историческое расследование, включающее в себя авторские изыскания и сокрушительную критику познавательного опыта предшественников, — и ренессансное “искусство истории”, разделяющее создание исторического повествования на разные стадии работы с источниками и потому не являющееся искусством вполне авторским. И.Н. Ионов доказывает, что современное восприятие исторического времени как сложного и неоднородного было предопределено его объективацией в связи с открытием исторической причинности не только в области уже принятых решений, но и в области текущего влияния на мировые события. Так, идея прогресса требовала в качестве коррелята объективации целых областей исторического процесса и тем самым привела к открытию множественности цивилизаций. А.Г. Васильев рассматривает концепцию исторической памяти, принадлежащую знаменитому немецкому культурфилософу Абу Варбургу (1866—1929). Варбург считал, что содержанием человеческой памяти являются не голые формулы и приемы, а рельефные образы; поэтому, если многие его современники противопоставляли этапы исторического развития человечества, Варбург пытался найти связь между непохожими формами культурного существования. Например, он установил связь между обновленным магическим сознанием и механистической наукой Нового времени, и до сих пор его открытие считается продуктивным. И.Е. Суриков противопоставляет Геродота и Фукидида: если Геродот воспринимал отдельные примеры знаний и потому не мог “заблудиться” среди противоречивых познавательных намерений, то в случае Фукидида опасность “заблудиться” была реальна, и последующая историография пошла скорее по геродотовскому пути использования готовых членений материала. А.С. Усачёв рассматривает образ князя Владимира в “Степенной Книге”. Креститель Руси показан в этом памятнике XVI в. не просто в рамках топосов “раскаявшегося грешника” и “христианского правителя”, но как организатор сложной системы политических и социальных связей, идущей на пользу молодому государству. К.Ю. Ерусалимский исследует взгляды Андрея Курбского на исторический процесс и убедительно доказывает, что главной реальностью политики для Курбского является сообщество единомышленников и суд над негативными сторонами правления Ивана Грозного исходит из этой утопии чистой коммуникации. Н.С. Креленко говорит об особенностях исторической мысли эпохи Английской революции, на примере прежде всего трудов Дж. Мильтона. В этих трудах экспансия была связана с правом собственности, с пространственным самоопределением хозяина через собственность, и монархия старого типа трактовалась не просто как ограничение свободы, но и как искусственное и приводящее ко множеству юридических тупиков сдерживание экспансии. Л.А. Фадеева пишет о том, что в викторианскую эпоху Англии осмысление исторических антиномий было возложено по преимуществу на биографическую литературу и благодаря этому был усилен этический аспект любого текущего исторического выбора, который предпринимает простой человек. И.М. Савельева и А.В. Полетаев на материале социологических опросов исследуют представления современных простых американцев о значимых событиях прошлого. Основными историческими единицами для американцев оказываются семья и государство, а вовсе не общество, культура или род. Поэтому американцы выделяют как исторические те события, которые были определяющими для судьбы всего государства, но при этом коснулись жизни каждой семьи, начиная от научно-технического прогресса и кончая кровавыми войнами.
Таким образом, сборник позволяет уточнить, как менялись историографические жанры на переходе европейской культуры к эпохе романа. Коллективная идентичность и культурная память до Нового времени выстраивались вокруг готовых жанровых стратегий — высокого жанра патетического монолога о прошлом и низкого жанра спокойной любознательности и утопического оптимизма. Те явления, которые для нас кажутся основополагающими в развитии историографии, такие как появление исторической критики в античности или топики в Средние века, оказываются в такой перспективе не “техническими” достижениями, а следами неувязок. Ведь они показывают, что не весь материал, открытый любознательным исследователем, может поместиться в готовые рамки высокого и низкого жанров. Тогда как в Новое и Новейшее время коллективная идентичность стоилась вокруг готовых форм жизненного мира, семейных или национальных. Преимущество одной формы перед другой определялось не статистикой и показателями успешности тех или иных идей, а ценностным содержанием, которое связывалось с формой — превышают ли присущие ей ценности все прочие ценности, которые существуют во всех остальных наличных или мысленных формах устойчивого человеческого существования. Таким образом, получается, что в Европе Нового времени драматизм столкновения ценностей в романе оказывается поддержан пониманием истории как совершающейся победы наиболее сильного из ценностных универсумов.
Александр Марков
Яковенко Наталя. ВСТУП ДО IСТОРI╞. — Київ: Критика, 2007. — 376 с.
Новая книга одного из ведущих украинских историков Натальи Яковенко открывается эпиграфом из Люсьена Февра: “…Toute Histoire est-elle fille de son temps. Mieux, il n’y pas l’Histoire. Il ya des historiens”. Так, на авантитуле, сформулирован основной пафос книги: нет истории, есть историки. Нет науки как единственно верного и все объясняющего учения, нет объективного знания, способного научить, воспитать, удержать от ошибок и т.д. Но есть множество реконструкций, множество вопросов, которые всякий раз задает время и на которые так или иначе отвечают “призванные” своим временем историки. Кроме того, существует множество “объясняющих схем”, подсказанных философами, и множество способов работы с источниками. Перед нами последовательное и увлекательное изложение всех этих версий, способов и реконструкций. И замечательно, что эта книга фактически явилась единственным на сегодняшний день в Украине пособием для историков-первокурсников, пропедевтическим курсом, который традиционно принято называть “введением в специальность”.
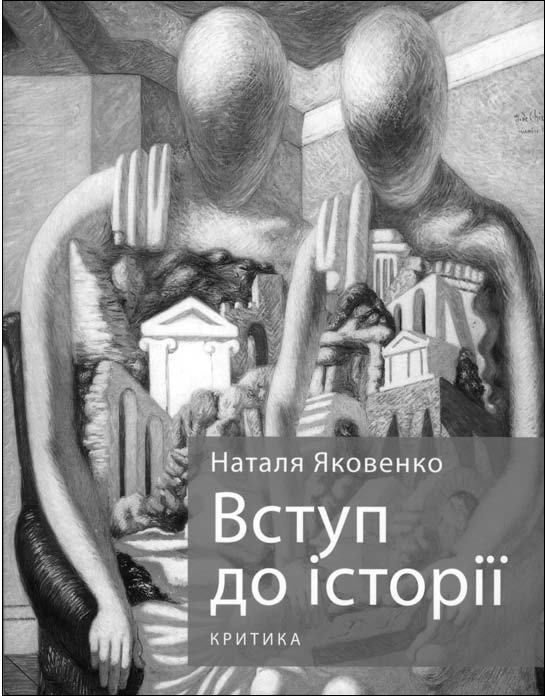
Профессор Киево-Могилянской академии Н. Яковенко, видимо, не случайно оговаривает “неканоничность” такого “введения”. Но трудно отделаться от ощущения, что постмодернистский скепсис этой “истории историков” тоже в своем роде ответ на злобу дня, рефлексия ученого на тотально агрессивный советский позитивизм и столь же тотальный постсоветский мифологизм новоукраинских исторических учебников, на разного порядка спекулятивные “философии истории”, “предсказывающие” как “вперед”, так и “назад”. Характерна последовательность, с которой автор этой книги едва ли не в каждом разделе цитирует знаменитую формулу Леопольда фон Ранке: “История должна описывать” (“Wie es eigentlich gewesen”). Яковенко сначала указывает на двусмысленность перевода, а затем и вовсе — на невозможность достижения этого описания “wie es eigentlich gewesen”: “…а вообще способна ли наука познать <…> то, что не поддается эмпирическому изучению, то, что уже невозможно ни вспомнить, ни проверить живым свидетельством” (с. 175).
В предисловии Н. Яковенко формулирует три “сюжета” этой “истории историков”: первый определяется отношением историка со своим временем, второй призван объяснить “объясняющие схемы”, своего рода “набег дилетанта” на философию истории. Скромный “дееписатель” оправдывает себя тем, что “их (философов. — И.Б.) экскурсы в историю не далеко ушли — с точки зрения историков — от моих дилетантских пассажей о философии” (с. 12). Третий сюжет — эпистемологический, своего рода “введение в источниковедение”. Последние разделы книги адресованы непосредственно студенту и вводят, собственно, в грамматику научного текста. Первым двум сюжетам посвящены семь разделов, и организованы они как последовательное повествование от античности до наших дней, от Геродота до Ле Гоффа. Дееписателей и хронистов сменяют монахи и философы, просветителей — романтики, романтиков — позитивисты и т.д., смысл такой последовательности не в некоем диалектическом синтезе или “отрицании отрицания”. Автор, в самом деле, всего лишь показывает, каким образом одна “схема” сменяет другую, что общего у киевских летописцев со средневековыми хронистами, как Карамзин наследует “прусскую школу”, а “батько державницької школи” в украинской историографии В. Липинский находится в прямой зависимости от польских неоромантиков (в частности, Шимона Аскенази) и как в свою очередь “уточненная редакция этой (неоромантической. — И.Б.) суммы идей ляжет в основание политической философии фашизма” (с. 196).
При всем при том автор, похоже, не пытается скрыть своих пристрастий, симпатий и антипатий: коль скоро нет объективного и “единственно верного учения”, то и легендарное “бесстрастие” историка и летописца не более чем фикция. Тем более, если речь идет об “истории историков”. Н. Яковенко нелицемерно симпатизирует “антикварам” и, кажется, отдает им предпочтение перед более “шумными” их современниками — просветителями с присущей им “самоуверенной философией Разума” и исторического прогресса. Похоже, что другой любимый герой автора — Бенедетто Кроче, и самая близкая по жанру и смыслу параллель этой “истории историков” — монография 1917 г. “Teoria e storia della storiografia”.
Характерна оптика и топография этой книги. При известной общеевропейской преамбуле (заокеанские персонажи по понятным причинам появляются довольно поздно, ближе к середине, и более чем характерно, что первый американец, встреченный читателем на этих страницах, — Эдвард Кинан) фокус описания сосредоточивается на украинских (киевских, малороссийских и т.д.) источниках и на местных авторах — от легендарного Нестора и нелегендарных Феодосия Софонийского и Иннокентия Гизеля до Д. Бантыша-Каменского, Н. Костомарова и М. Грушевского. Столь же последовательно, но каждая в своем ряду — временном и идеологическом — рассматриваются “Повесть временных лет”, “Синопсис”, “История Русов” и “История Малой России”, наконец, “Книга буття” Костомарова и “Iстор╗я України-Рус╗” Грушевского. С не меньшей подробностью описаны российская и западнославянская историографии, таким образом, будущему украинскому историку открывается объемная картина с точно выставленной “перспективой”. Карамзин и Лелевель — равноправные герои этой книги, а Н. Полевой, который в аналогичных российских историографиях зачастую фигурирует исключительно в оппозиции Карамзину, здесь включен в ряд “романтической славянской волны” с ее “немецким родословием”. Точно так же прослеживается “славянофильская школа” М. Грушевского с ее парадоксальным антинемецким акцентом.
В этой “истории историков” есть внутренние сюжеты, не менее полезные и увлекательные. Это в первую очередь “сциентизация” и спецификация исторического знания, “открытие музея”, наконец, “эра великих мистификаций”. Последний сюжет заслуживает отдельного разговора.
Автор различает “прагматические” и “идеологические” фальсификаты, подробно останавливается на судьбах “Александрова дара” и “Константинова дара”, затем переходит к “романтическим мистификациям”, и здесь центральное место занимает “История Русов”. Созданный в начале XIX в. “политический памфлет” в свое время был ошибочно приписан архиепископу Георгию Конискому, сегодня его с равным успехом атрибутируют Григорию и Василию Полетикам, Александру Безбородко, Василию Лукашевичу и Василию Ханенко, Афанасию Лобисевичу и прочим представителям “образованной элиты козацкого гетьманата”. Фактически этот “гениальный мистификатор” открывает национальную украинскую историографию, “История Русов” становится “основой украинского романтического национализма”, “водит пером Николая Гоголя и Тараса Шевченко, Николая Костомарова и Пантелеймона Кулиша” (с. 149). “Фактологическая условность гениальной мистификации сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений: текст анализируют как памятник политического сознания начала XIX века”, — продолжает Наталья Яковенко и непосредственно после этой констатации переходит к рассмотрению другой “великой мистификации” — “Слова о полку Игореве”.
В сюжете со “Словом…” автор не пытается быть оригинальным и остается в русле современной украинскоамериканской гуманитаристики. Последней точкой в споре здесь полагается считать монографию Эдварда Кинана “Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor’s Tale” (2003). Американский автор обнаруживает в памятнике “богемизмы, классицизмы, тюркизмы и гебраизмы позднего происхождения, а также языческо-христианские противоречия и культурные акценты конца XVIII века” (с. 151). Добавим, что большинство лингвистов полагают “детальный анализ” Кинана дилетантским и антиисторическим, однако украинисты из Гарварда и Н. Яковенко вслед за ними отдают предпочтение Кинану, а не А. Зализняку или Ю. Лотману. Лотман в свое время показал очевидное отличие художественной и политической идеологии “Слова…” от предромантической и романтической культурной парадигмы, от тех самых “культурных акцентов конца XVIII века” (см.: Лотман Ю. М. “Слово о полку Игореве” и литературная традиция XVIII — начала XIX в. // Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.; Л., 1962. С. 330—405). Но, похоже, украинские историки не знают или предпочитают не знать об этой работе. По крайней мере, многократно цитируя Лотмана по разным случаям, именно в сюжете со “Словом…” они избегают упоминаний о нем. Нужно отдать должное Наталье Яковенко: в конце главы о “мистификациях” она в двух словах отдает должное “книжке авторитетного русиста Андрея Зализняка ““Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста”, изданной в 2004 г. и “снимающей” большую часть аргументов Кинана. Процитировав заключительную фразу монографии Зализняка (“Все загадочное разъяснилось”), Наталья Яковенко констатирует: “А это означает, что “решающие бои” впереди” (с. 151).
Последний из “историографических” разделов посвящен наступившему после Первой мировой войны кризису исторического сознания, смещению фокуса, повороту от “истории героев” к “истории простых людей” и знаменательному “партнерству” историков и социологов. Н. Яковенко последовательно анализирует переход от событийной истории к “проблемной” (“интегральной”), возникновение истории “тотальной”, “серийной” и “квантитативной”, явившееся после культурной революции конца 1960-х разочарование в “истории без людей”, наконец, подробно останавливается на опытах исторической антропологии и микроистории (здесь впервые на страницах монографии она ссылается на собственные статьи и книгу “Паралельний св╗т” — см. рецензию на нее в “НЛО” № 59). Мы же упомянем здесь одну из лучших украинских историко-антропологических монографий и едва ли не главный украинский гуманитарный бестселлер — вышедшую в 1993-м и недавно переизданную “Критикой” книгу этого же автора “Українська шляхта з к╗нця XIV до середини XVII ст.”.
Заключительные главы этой книги — своего рода “введение в источниковедение” — обзор корпуса документов, архивов и “свидетельств” в порядке его расширения и обзор способов (методов) работы с историческими источниками. Завершают это “введение” практические рекомендации начинающему “дееписателю”: от того, как преодолеть “страх перед чистым листом”, до подачи работы рецензенту, который, как известно, начинает читать с конца, т.е. с библиографии.
И. Булкина
ДЕКАБРИСТЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ. — М.: РГГУ, 2008. — 721 с. — 1000 экз.
Из содержания: Вишленкова Е.А. Увидеть героя: создание образа русского народа в карикатурах 1812 года; Вайскопф М.Я. От неудавшегося народоправства к несостоявшейся пугачевщине: Социальная проблематика войны 1812 года в изображении А.Ф. Вельмана; Парсамов В.С. К генезису политического дискурса декабристов: Идеологема “народная война”; Долбилов М.Д. “…Считал себя обязанным в сем участвовать”: Почему М.Н. Муравьев не отрекся от “Союза благоденствия”?; Севастьянов Ф.Л. “Поступок” Я.И. Ростовцева 12 декабря 1825 г.: Попытка реконструкции политических взглядов исторического деятеля; Ильин П.В. Встреча члена тайного общества Я.И. Ростовцева с претендентом на престол великим князем Николаем Павловичем: Достоверное и предполагаемое; Одесский М.П. Вольнодумный тезаурус декабристов: Révolution — революция—переворот— превращение; Калашников М.В. Николай I — “прапорщик(и)”-декабристы: Историко-семантический этюд; Толстая Е.Д. Л.В. Шапорина в работе над оперой “Декабристы”; Эрлих С.Е. Dekabrusty.ru: История в киберпространстве: памятные места и места памяти; Кацис Л.Ф. Декабрист в кино и в повседневной жизни: Декабристоведение как историко-психологическая категория.
Чумаков Ю.Н. ПУШКИН. ТЮТЧЕВ. ОПЫТ ИММАНЕНТНЫХ РАССМОТРЕНИЙ. — М.: Языки славянской культуры, 2008. — 416 с. — 1000 экз. — (Studia philologica).
Книга известного новосибирского филолога Ю.Н. Чумакова представляет собой сборник статей, написанных на протяжении 30 лет: самые ранние из вошедших в сборник работ были опубликованы в середине 1970-х. Сборник состоит из трех разделов. Первый — самый объемный — посвящен “Евгению Онегину”, во второй вошли статьи о “Каменном госте”, “Моцарте и Сальери” и стихотворении “Я помню чудное мгновенье…”. Наконец, третий раздел составили работы о Тютчеве и ответы автора на вопросы “Тютчевской анкеты”, размещенной на сайте “Toronto Slavic Quaterly” (2003).
Сборник предваряется вступительной статьей, объясняющей его замысел, состав и принципы анализа — собственно заявленный в заглавии “опыт имманентных рассмотрений”. Автор понимает под “имманентным рассмотрением” “замкнутое внутри поэтической формы <…> монографическое описание” (с. 11). Что касается методологии такого описания, то многое объясняет приведенная на первых страницах цитата из М.Л. Гаспарова, назвавшего однажды ахматовский анализ “Каменного гостя” “классикой околонаучного интуитивизма”. Характерно, что Ю.Н. Чумаков выступает здесь “адвокатом” “околонаучного интуитивизма” и “метафорической стилистики”.
У сторонников рационального инструментария и академической терминологии, возможно, возникнут проблемы уже в начальной главе: в качестве “кодирующего основания онегинского текста” Ю.Н. Чумаков выдвигает “принцип единораздельности”, каковой затем поясняется как “инвариант преобразований, происходящих в его (текста. — И.Б.) крупных и мелких единицах, то, что в сакральном смысле называют нераздельным и неслиянным” (с. 20). Проблемы с терминологией не ограничиваются “сакральностью” и эстетическим “синтетизмом”. Сама история этой книги, составленной из статей разного времени, предполагает некоторые “расхождения” в назывании устоявшихся на сегодняшний день понятий и категорий. Так, “инварианты”, “бинарные контрверзы” и “оппозиции” здесь определения одного ряда, за ними стоит одно и то же “означаемое”. Наверное, чтоб не утонуть в “потоке смысловой плазмы” и не завязнуть в пресловутой “метафорической стилистике”, стоит абстрагироваться от “сакрального” языка этой книги и, руководствуясь “околонаучным интуитивизмом”, обратиться к ее настоящим сюжетам.
Фактически предметом “имманентного рассмотрения” всякий раз становится композиция текста, внутренняя соположенность его частей, отношения сюжета и фабулы, наконец, жанровые определения и позднейшие их интерпретации. Главной проблемой в работах о поэтике “Евгения Онегина” становится “сопряжение поэзии и прозы”, плана автора и плана героев. “Фрагментарная” композиция романа заставляет думать, что настоящий его жанр — “черновик” (с. 25), а соотношение “сюжета автора” и “сюжета персонажей” открывают увлекательные внутренние рифмы и симметрические закономерности, прослеживаемые затем и на других пушкинских текстах. В “плане автора” сюжет начинается и заканчивается у моря, замечает Ю.Н. Чумаков, и это наблюдение справедливо, если полагать “Отрывки из путешествия Онегина” последней главой, т.е. если отвлечься от “канонического текста”, закрепленного в издании 1837 г. В любом случае параллели между “Днем Онегина” в первой главе и “Днем Автора” в “одесских строфах”, прослеживаемые в одноименной статье, представляются точными и исключительно продуктивными. Попытка свести жанр “Евгения Онегина” к “большому стихотворению” (“пишется большое стихотворение, а читается роман” — с. 49) все же кажется исследовательской абстракцией: у поэта с жанровым мышлением любое “большое стихотворение” предполагает конкретную жанровую отсылку. В целом, тонкие и во многом верные наблюдения автора этой книги над композицией пушкинского романа восходят к давней статье Л. Штильмана “Проблемы литературных жанров и традиций в “Евгении Онегине”…” (American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists, 1958), которую сам Ю.Н. Чумаков характеризует как “точку отсчета при формировании новой парадигмы понимания текста” (с. 59).
Большое место в книге занимает обзор разного рода прочтений пушкинских текстов, причем очевидно увлечение (не всегда оправданное) “красивыми” беллетристическими интерпретациями, так или иначе связанными с собственными построениями автора. Так, чересчур много внимания уделено фантастической концепции К. Эмерсон об Онегине-визионере (известная идея о “сне Онегина”, в котором и происходит последняя сцена свидания). Но коль скоро идея эта замечательным образом “рифмуется” с теорией о сне как “смысловом центре романного пространства”, автор возвращается к ней вновь и вновь. Столь же фантастичной представляется идея “сопричастности водных пространств” автору и героям. Восходит она к эффектной, но нисколько не опирающейся на реалии метафоре В. Турбина об “Онегине — реке”, и поскольку едва ли не единственный текстуальный аргумент — “речная” фамилия, то идея “разбивается” об историю литературной топонимики. Совсем иначе выглядит ссылка на забытую “интуицию Г.А. Гуковского”, обратившего внимание на сходство заключительной сцены свидания Татьяны и Онегина и сквозного лирического сюжета поэзии Жуковского.
Коль скоро речь зашла об интертекстуальных параллелях, отметим еще одно характерное свойство этой книги: “объясняющими комментариями” здесь зачастую служат тексты, созданные гораздо позже. Так, проблему жанра романа в стихах “проясняют” соответствующие цитаты из Ахматовой, Пастернака и… Курта Воннегута (с. 69, 84, 137). В иных случаях параллели вполне уместны, хотя методологические основания такого рода постинтертекстов не всегда очевидны.
Последний раздел, в который вошли статьи о тютчевской поэтике, хронологически более поздний (работы датируются 1998—2007 гг.). Статьи эти несколько отличаются друг от друга по жанру и стилю, но они едины и последовательны в своем предмете: под пристальным вниманием здесь находится композиция тютчевских “фрагментов”, так называемых “двойчаток”. Автор определяет “двойчатки” как “тютчевский идиожанр” и подробным образом описывает их строфику, метрику и синтаксис. В этом случае мы имеем дело с более тонким и точным инструментарием, хотя “метафорическая стилистика” так или иначе себя обнаруживает: жесткие “композиционные сочленения” у Тютчева “похожи на противосейсмические устройства для сопротивления хаосу”, а сужение оптического фокуса в залючительной строфе “Безумия” уподобляется “эффекту “черной дыры” в астрофизике”, когда “все, что сузилось до точки, <…> внезапно прорывается в иной отсек мироустроения <…>” (с. 346—347). Вслед за “метафорической стилистикой” обнаруживаются все те же проблемы с терминологией, но тут они целиком и полностью на совести редактора и корректора. “Идиожанры” в одной и той же статье пишутся то через “е” (“идеожанры”, так и на колонтитуле!), то через “и”.
В целом, пытаясь определить “тютчевский код”, исследователь вновь прибегает к синтетическим эстетикофилософским дефинициям вроде: “кванты присутствия”, где “присутствие” следует читать как перевод хайдеггеровского “Dasein”, или “нечто, именуемое С. Франком “ни-то-нидругое”” (с. 359), и т.д. Характерно, что соответствующая статья С. Франка называется “Непостижимое” и что “непостижимые” дефиниции в наибольшем количестве сосредоточены в статье с энигматическим заглавием “Точка, распространяющаяся на все: Тютчев”. Представляется, что в целом книга Ю.Н. Чумакова, как и его метод, располагается на грани литературоведения и эстетики, и именно некая неразграниченность дисциплин и принципов описания затрудняет ее чтение.
И. Булкина
Калинников Л.А. ИММАНУИЛ КАНТ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (философско-эстетические этюды). — М.: Канон+, 2008. — 416 с. — 800 экз.
В монографии Л.А. Калинникова поставлена задача рассмотреть этапы усвоения отечественной поэзией как кантовской эстетики, так и общего, несколько мифологизированного представления о Канте как личности и создателе философской системы. Книга Калинникова — своеобразный историко-философский труд: в ней исследуется не конкретное влияние кантовских построений на эстетические воззрения и художественную практику русских авторов, но пересмотр и решение поставленных Кантом вопросов на русской почве, причем только в рамках поэтического высказывания.
Трудности, которые в России связаны с проникновением философских идей в массовое сознание, в том числе сознание поэтов и художников, конечно, имеют историческое объяснение — отсутствие продуманной системы философского образования. Но есть и более глубокое объяснение — философская работа требует определенной отстраненности от познаваемого мира, отказа от прямого и безоглядного использования предоставленных мышлением возможностей, тогда как в отечественной культуре философия часто понималась противоположным образом — как вовлеченность в жизненные процессы, как определенная система причастности тем реальностям, которые открыты сознанием философа. Поэтому всякое “популярное” употребление философии понималось не как интеллектуальное событие, а как часть социальной практики.
Русская интеллигенция, по крайней мере со времени журнальных движений николаевской эпохи, разводила идеологическое и эстетическое. Хотя и то и другое мыслилось внутри социальной практики, одно всегда оправдывалось и объявлялось источником жизненных задач, а другое вытеснялось и осуждалось как нравственно неправомочное. В этом суть эстетических споров XIX в., но в этом же коренятся причины отмеченного многими исследователями неприятия Канта в русской культуре. Кант казался рационалистом, подменившим свободное развитие жизненно насущной мысли конструированием мысли как производной ряда познавательных актов. Понятно, что такая интерпретация Канта, достигшая апофеоза в русском символизме и воспроизведенная в русском авангарде, была читательским впечатлением, не желавшим знать стоявших перед Кантом философских задач.
Л.А. Калинников пытается отыскать среди русских поэтов кантианцев, для которых усвоение кантовских категорий было важнее войны с культурным мифом. Но при чтении книги видно, что эта задача не будет решена, если исходить из интерпретации отдельных художественных произведений, не учитывая принципы поэтики. Начинает Л.А. Калинников с рассмотрения “Евгения Онегина”, при этом он видит в романе в стихах просто усложненную классицистскую оппозицию чувства и долга. Ту же оппозицию исследователь видит в “Цыганах”, считая Алеко образцом дикаря из просвещенческих романов. Далее Калинников обвиняет Канта в создании теории гения, которая исказила порядок отношения художника с материалом: “Сотворение гениальным художником своего художественного мира стало рассматриваться в качестве символа творения мира как такового библейским Богом-Словом. В гениальном художественном творчестве открылись метафизические креативные бездны” (с. 51). В рамках такой интерпретации в конфликте пушкинских Сальери и Моцарта Сальери оказывается гением, причем эпигонского рода и потому завистником, а Моцарт — идеальным кантовским человеком, образцом нравственности для всех окружающих. Это, конечно, выглядит натяжкой — ведь тот “вкус”, который ставил себе в заслугу выведенный у Пушкина Сальери, не имеет никакого отношения к кантовскому понятию вкуса.
Далее Л.А. Калинников сразу переходит к Вл. Соловьеву и русским символистам. Толкуя стихотворение Соловьева “Имману-Эль”, Калинников видит в нем попытку Соловьева превратить Канта из философа в пророка — интересная мысль, не получившая, правда, дальнейшей разработки. Но в софиологии, в создании которой Соловьев как раз узревал свою пророческую задачу, Калинников видит простую попытку поэтического “олицетворения” философских категорий: “человек — творческое, свободное существо, умеющее создать образ Закона” (с. 113). То есть поэзия мыслится в книге Калинникова как творчество, не связанное никакими законами, но при этом сублимирующее личность поэта через частое использование приема олицетворения.
В “Балладе” (“Горит свод неба, ярко-синий…”) В.Я. Брюсова Калинников усматривает скрытую полемику с Андреем Белым, под влиянием идей Вл. Соловьева гностически понимавшего влюбленность. Брюсов хочет отнять у Андрея Белого Канта, оставив ему только Соловьева — это, пожалуй, единственная интересная интерпретация в монографии Л.А. Калинникова, хотя и выполненная без подробного анализа брюсовской поэтики.
Андрей Белый рассматривается как теоретик символизма, создавший теорию символа на основе кантовского учения о созерцании; правда, Калинников не указывает, что Белый, энтузиастически освоивший систему категорий Канта, чаще всего отказывался воспроизводить различие синтетических и аналитических суждений. Без учета этого обстоятельства трудно разобраться в учении Андрея Белого о поэтическом языке. Следует учитывать также, что в изложении биографии Андрея Белого Калинников обычно верит поэту там, где верить ему не надо, принимая стихотворные заявления (например, об особой близости поэта М.М. Врубелю) за реальные биографические обстоятельства; отсюда множество неточностей и ошибок в этом разделе.
В космологической лирике Вяч. Иванова Л.А. Калинников усматривает контаминацию кантианства и теологии аристотелевского типа: “вещь в себе” оказывается заменена Перводвигателем мира, а кантовское понимание явлений и деятельности сознания сохранено. Такая интерпретация не кажется убедительной: жизнестроительная программа Вяч. Иванова исходит не из критики разума, а из веры в трансформацию сознания, его воспарение к миру высших реальностей, что не имеет никакого отношения к кантовскому пониманию сознания.
Далее Калинников рассматривает выпады против Канта в поэзии и статьях А.А. Блока и утверждает, что Блок потому обвинял Канта в разрыве между сущностью и явлением, что “доверял хору профессиональных философов — своих и зарубежных”. Конкретные имена у Калинникова при этом не названы. Заканчивается раздел длинным рассказом о том, как Кант сидел у окна, смотрел на звезды и мысленно отрывался от кабинетной замкнутости, окрыляясь как истинный гений и обретая нравственный закон, и о том, что этот образ Канта отразили в своем творчестве поэты, от Н.М. Языкова (“Гений”) до Е. Винокурова (“Старый Кант подсел поближе к лампе…”); а также небольшим очерком об увлечении Эллиса философией Шопенгауэра, амбициозно полагавшего себя единственным прямым наследником мысли Канта. Наличие этого раздела в книге обусловлено только тем, что “никогда не иссякнет интерес ни к Шопенгауэру, ни к Канту” (с. 317).
Последняя часть книги называется “Эпизоды ХХ века — железного”. Героями этой части стали Марина Цветаева, в антиэтатистском пафосе которой Калинников усматривает отражение кантовской этики, Евг. Винокуров, изображенный как гуманист, вставший на сторону Канта против Ницше и запретивший “бить человека по лицу” (с. 376), Фазиль Искандер, в стихотворении “Тело и мысль” воспевший космическое величие идей Канта, увядшего в старости умом, а также калининградские поэты, патриоты малой родины.
Редакционная подготовка книги проведена недостаточно качественно; приведем несколько примеров: “свободный порядок слов” в рефрене брюсовской баллады (с. 141) — свободен порядок слов в русском предложении, а в данном случае нужно говорить о переборе вариантов перестановок (“Ты пал ли ниц, жрец, пред святыней?”, “Упал ты ниц, жрец, пред святыней?” и т.д.), с помощью которого Брюсов хотел обогатить образное впечатление; “Пушкин-гимназист” (с. 142); “опорная рифма” (с. 143) — так названа сквозная рифма, видимо, по аналогии с опорными согласными и гласными; “во 2-м томе трехтомных мемуаров “Начало века”” (с. 144) — на самом деле “во втором томе, “Начало века”, трехтомных мемуаров”.
Основной недостаток книги — поэтический опыт описывается Калинниковым исключительно как опыт эмпатии, тяги к нравственному идеалу, приводящей к “олицетворению” философии, что, конечно, не отвечает ни поэтике всех рассмотренных в монографии авторов, ни кантовской критике чувств. В работе Л.А. Калинникова каждый русский поэт изображен как жертва сильного, захватившего его воображение философского влияния. Кант для русских поэтов, по выводам Калинникова, оказывается не интеллектуальной, а культурной реальностью, поражающей своей масштабностью. Логика рассуждений Канта, как правило, подменяется при этом набором тем, и читателю предлагается познакомиться с вариантами освещения этих тем в русской поэзии. Поэтому монография может быть полезна только для общего знакомства с влиянием эстетики Канта на то, как поэты понимали статус своего лирического высказывания; хотя этот важный материал рассмотрен без привлечения европейского контекста, показан пунктирно и теряется среди бесчисленных пересказов.
Александр Марков
Gheith Jehanne M. FINDING THE MIDDLE GROUND: KRESTOVSKII, TUR AND THE POWER OF AMBIVALENCE IN NINETEENTH-CENTURY RUSSIAN WOMEN’S PROSE. — Evanston: Northwestern University Press, 2004. — 302 p.
Перед нами книга, название которой многое объясняет и в методологии автора, и в выборе материала. Монография Дж.М. Гейт посвящена не самым изученным (точнее, изученным очень мало) авторам — Евгении Тур и Надежде Хвощинской (подписывавшей свои тексты “В. Крестовский— псевдоним)”).
Именно в творчестве “женских авторов” исследовательница обнаруживает наиболее яркое проявление амбивалентности; “стремление к [золотой] середине” отражает эту амбивалентность (метафора, вынесенная в заглавие, развертывается в тексте исследования). Жизнь и творчество Тур и Хвощинской рассматриваются в контексте русской литературы, русской женской литературы и — в гораздо меньшей степени — в контексте традиций “женского письма” в других культурах. Эти писательницы, которых при жизни сравнивали с Жорж Санд и Джейн Остин, оказались впоследствии забыты, и причину этого забвения автор исследования видит в торжестве крайностей над “золотой серединой”.
Уже в этом изложении можно различить установку на объективность. Дж.М. Гейт неоднократно подчеркивает, что ее исследование не принадлежит вполне ни к гендерным, ни к историко-литературным штудиям. Тем не менее в работе обнаруживается огромное количество ссылок на специалистов по гендерным исследованиям (от Катрионы Келли до Арьи Розенхольм), и ссылки эти помогают прояснить ряд сложных вопросов — от смысла выражения “женщинаписательница” до соотношения занятий литературой и проституцией в русской культуре. Однако работа не следует гендерной методологии. Дж.М. Гейт выступает как эрудированный и опытный историк литературы. Она работала в архивах Москвы и Рязани, занималась датами рождения членов семей писательниц и даже поисками мест захоронения Тур и Хвощинской. Автор исследования не проходит мимо “мелких деталей” — от выбора литературного псевдонима до скрытых цитат в малоизвестных текстах. Все это позволяет создать убедительные и обстоятельные творческие биографии плодовитых, разносторонних и в высшей степени занимательных авторов.
Композиция работы необычна. Две главы посвящены биографиям Тур и Хвощинской, две — их литературной критике и еще две — художественному творчеству. И дело совсем не в том, что беллетристика Тур и Хвощинской менее значима, чем их личная жизнь. Напротив, “они не только создают волнующие тексты, но и помогают пролить новый свет на канонические сочинения своей эпохи” (с. 27). Однако в биографиях обнаруживаются два варианта пути “в большую литературу” и пребывания в ней, в критических статьях — основные вопросы, привлекшие внимание беллетристок, а в повестях и рассказах — развитие этих вопросов.
Далее попробуем охарактеризовать эти три составляющие исследования. В биографических главах противопоставление двух писательниц кажется несколько спорным. Тур “принимает большинство гендерных норм, касающихся женщин и литературного творчества, но стремится раздвинуть их рамки” (с. 51). Поэтому биография ее дается в рамках принятого норматива (с периодизацией и точными указаниями на конкретные события). Рассматривается и влияние этих событий на литературное творчество — отношения с братом, сестрами и детьми становятся источником целого ряда сюжетных коллизий, но в данном случае биографический подход приводит к несколько прямолинейному прочтению основных текстов Тур.
Хвощинская “отвергает конструкцию женщины-писательницы”, “отвергает биографию и публичное признание” (с. 51—52) и тем самым “создает новые отношения и новые уровни существования” (с. 58). Потому биография ее в изложении Дж.М. Гейт строится по-иному: рассматривается судьба псевдонима, а уже потом — судьба Н. Хвощинской. Наверное, нужно отметить абсолютизацию псевдонима в творческой биографии Хвощинской. Ведь она подписывала свои тексты и настоящим именем, и другими псевдонимами. Абсолютизация одного, в значительной степени случайного имени мешает понять внутреннюю логику творчества Хвощинской в целом. Дж.М. Гейт пишет, что “В. Крестовский создает Хвощинскую” (с. 58). “Созданный” таким методом образ автора становится слишком условной конструкцией; “критика системы”, о которой идет речь в шестой главе, исходит не от условного Крестовского, а от реальной Хвощинской. Понимание этого помогло бы установить более тесные связи между письмами, статьями и художественными произведениями писательницы.
В представлении критического наследия забытых писательниц Дж.М. Гейт далека от канонических взглядов. Она уделяет особое внимание статьям Е. Тур, посвященным женскому вопросу, в особенности полемике с Натальей Грот о романе “Накануне”. Писательница считала произведение Тургенева “уроком матерям”, в то время как Н. Грот непосредственно обращалась к разрушительному воздействию, которое оказывает пример Елены Стаховой на новое поколение. Дж.М. Гейт отмечает, что последнее слово в споре осталось за Н. Грот, но не делает, кажется, необходимых выводов. Позиция Е. Тур (при всем “адвокатстве женщины”) связана со статичным пониманием семейственности, с “вечными” семейными ценностями; Н. Грот предлагает интерпретацию образа “русской женщины” для новых поколений. Ее позиция консервативна по существу, но формально в большей степени соответствует духу времени. И Е. Тур в амплуа критика терпит поражение… В статьях о Шарлотте Бронте и Жорж Санд Тур сформулировала “женственную эстетику — способ использования искусства, служащий становлению женщин как ведущей силы социальных реформ” (с. 96). Тур отнюдь не феминистка и не эмансипированная женщина (с этим утверждением автора можно поспорить), но ее стремление усилить позиции женщин в русском обществе очевидно.
В критике Хвощинской очевидна установка не на “женское”, а на “мужское”. Потому и рассматриваются в книге тексты, подписанные “мужским” псевдонимом В. Поречников (“Провинциальные письма о нашей литературе”). Автор книги рассматривает различные методы, которыми критик Поречников пытается влиять на литературную ситуацию. Вывод весьма любопытен: автор “Провинциальных писем…” защищает не женщин-писательниц, а женщин-читательниц, “показывая новые пути прочтения тех авторов, которых именуют “нехудожественными”, и обсуждая функции женского чтения в России” (с. 127—128).
Эта антитеза прекрасно иллюстрируется главами о художественном творчестве Тур и Хвощинской. Дж.М. Гейт отказывается от анализа всего литературного наследия писательниц — это в настоящий момент представляется весьма сложной задачей (текстов очень много, и принадлежат они к разным жанрам). Исследовательница производит аргументированный отбор. Наибольшее внимание она уделяет не первой повести Тур — “Ошибка” — и не роману “Племянница”, а повести “Антонина” (1851), которую вполне возможно соотнести с “Дневником лишнего человека” (1850) Тургенева. “Лишнему человеку” противопоставлена “полезная женщина”; этот персонаж легко обнаружить и у других авторов. Но в повести Тур героиня выходит на первый план; размыкая заданные рамки “мужской” литературы, писательница не предполагает решительного изменения литературного канона. Анализ описаний семейной жизни в прозе Тур лишний раз убеждает исследователей: в ее прозе “совершается переопределение понимания женской литературы” (с. 155).
В сочинениях Крестовского—псевдонима, “писателя пятидесятых годов”, разделение “мужской” и “женской” литературы решительно отвергается. Писательницу привлекают “обездоленные”: семинаристы, старые девы, падшие женщины. В повестях раскрываются новые стороны этих известных типов и полностью отвергается традиционное решение проблем. Может показаться, что Крестовский/Хвощинская и вовсе не предлагает никаких решений. Эта незавершенность прозаических текстов, думается, напрасно трактуется как сильная сторона писательницы. Оборванные финалы “Стоячей воды”, “Институтки”, “Жить как люди живут” свидетельствуют только о неспособности автора распутать им же созданную коллизию; различные литературные формулы плохо уживаются в беллетристике Хвощинской, а сами тексты становятся рыхлыми и аморфными. Видимо, осознавая этот недостаток, Дж.М. Гейт рассматривает лишь повести Хвощинской, ограничиваясь краткой характеристикой ее романов.
Это исследование важно и занимательно — не только потому, что до сих пор не появилось монографических исследований о Хвощинской и Тур, но и потому, что стремление найти “золотую середину” может многое дать и сторонникам гендерного подхода, и историкам литературы. Дж.М. Гейт взялась решить сложную задачу: справиться “с утратой культурной памяти, с упрощенными концепциями русской литературы, истории и общества” (с. 190). За одну решимость мы могли быть благодарны исследовательнице. А ведь достойным итогом ее усилий стала серьезная и сложная работа, вызывающая у читателей новые интересные вопросы.
Александр Сорочан
Туманова А.С. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РУССКАЯ ПУБЛИКА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. — М.: Новый хронограф, 2008. — 304 с. — 3000 экз.
Розенталь И.С. “И ВОТ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНЬЕ!”: КЛУБЫ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ: Конец XVIII — начало ХХ в. — М.: Новый хронограф, 2007. — 399 с. — 3000 экз.
Современное российское общество демонстрирует почти полную неспособность к самоорганизации — не только нет настоящих партий, но почти нет и общественных организаций. То есть формально они есть, но их мало, и они или служат придатком государственных органов, либо существуют по большей части на бумаге.
Под этим углом зрения очень интересно обратиться к прошлому и посмотреть, как обстояло дело лет сто назад. Монография А.С. Тумановой дает для этого прекрасную возможность.

Исследовательница тщательно, опираясь на широкий круг печатных и архивных источников, прослеживает историю возникновения в России в начале ХХ в. добровольных неполитических объединений, являющихся “социальной тканью гражданского общества” (с. 8). Как отмечает Туманова, “массированное вхождение в российскую жизнь общественных организаций символизировало зарождение нового типа организации социума, приходящего на смену характерным для феодально-сословного строя иерархическим корпоративным институтам, основанным на принципе принудительного участия” (с. 7—8). В качестве признаков общественных организаций автор называет их негосударственный характер, отсутствие коммерческих целей, добровольность вхождения в них, персональное фиксированное членство и наличие штатного аппарата.
Мы видим, как в XVIII — первой половине XIX в. создание общественных организаций происходило с большим трудом, поскольку, “делегируя населению часть своих прав в тех сферах, где прямого государственного вмешательства оказывалось недостаточно (наука, экономика, организация досуга и т.д.), [самодержавное] государство, однако, продолжало с ревностью и настороженностью относиться к разнообразным проявлениям общественной самодеятельности” (с. 38). Лишь в период реформ 1860—1870-х гг. был дан мощный импульс для возникновения и развития общественных организаций. Темпы и масштабы этого процесса просто поражают. В 1801—1860 гг. в России было создано около 100 легальных обществ, а в начале ХХ в. их было уже несколько тысяч (с. 289). Если в середине XIX в. в стране было 20—25 научных обществ, то к концу этого века их число достигло 340 (с. 45). В 1890-е гг. резко выросло число организаций, ставящих целью содействие распространению народного образования (в начале 1890-х — около 20, в 1898 г. — 193) (с. 52).
Отметим, что шел процесс не только роста числа обществ, но и их дифференциации. Одна из глав посвящена характеристике разных типов общественных организаций, она включает такие параграфы: “1. Общества в сфере совершенствования городской инфраструктуры и коммунальной политики” (общества благоустройства пригородных поселков и дачных местностей; пожарные общества); “2. Общества социальной защиты” (благотворительные общества; общества взаимопомощи); “3. Экономические организации” (сельскохозяйственные и торгово-промышленные); “4. Медицинские общества”; “5. Общества по изучению и популяризации литературы и искусств”; “6. Досуговые объединения” (клубы, общества самообразования, общества трезвости); “7. Общественность и здоровый образ жизни. Деятельность спортивных обществ”; “8. Просветительские общества”; “9. Научные общества”; “10. Российские даты и “патриотические” общества”. Наличие большого количества общественных организаций (и, добавим от себя, влиятельной частной прессы) позволяло обществу, с одной стороны, способствовать успешному решению возникающих задач и проблем в разных сферах социальной жизни, а с другой стороны, сопротивляться стремлению государства (читай — чиновников) как можно сильнее контролировать эти сферы.
Власть относилась к общественным организациям двойственно: с одной стороны, она осознавала, что в ряде сфер подобные общества могут принести пользу, поскольку способны сделать то, что сама власть сделать не в состоянии, а с другой стороны, власть опасалась (и не напрасно), что развитие общественной самодеятельности в целом (и особенно определенных обществ) может создать угрозу существующему порядку.
Автор описывает и ряд черт общественных организаций, которые отражали российскую специфику. Здесь прежде всего сказались последствия раскола общества на верхи и низы. Если в Англии и США преобладали, так сказать, “горизонтальные” общества, т.е. люди составляли общества для себя, для получения экономической, политической, культурной, образовательной и т.п. выгоды, то в России значительная часть обществ создавалась представителями социальной элиты для воздействия на социальные низы (благотворительность, образование и т.д.). Конечно, и на Западе были благотворительные организации, и в России люди объединялись для взаимопомощи, только в России преобладали, на наш взгляд, первые, а на Западе — вторые.
Кроме того, следует отметить, что общественные организации подвергались очень жесткому государственному контролю, а наиболее полезные и лояльные из них получали статус императорских, что обеспечивало предоставление привилегий и материальных дотаций. А.С. Туманова отмечает (возможно, несколько переоценивая влияние обществ), что “не было ни одной мало-мальски значительной проблемы, встававшей перед российским населением, которая не возбуждала бы к жизни соответствующую инициативу общественности, готовность разрешить ее своими силами. Общественные структуры заполняли все образующиеся лакуны в социокультурном пространстве <…>”. При этом “общественные организации являлись основой для формирования новой городской элиты, положение которой в обществе определялось уже не ее официальным сословным статусом, а имевшимися у нее навыками общественной работы, степенью развития у нее таких качеств, как гражданский долг и ответственность” (с. 141).
Ряд глав посвящен характеристике юридических условий существования общественных организаций (“Создание законодательных основ для самоорганизации общества, 1905—1907 гг.”; “Общественность и модернизация правового положения общественных организаций в межреволюционный период: неосуществленные надежды”) и правительственному контролю за их деятельностью (“Свобода обществ и союзов в представлениях чиновников полицейского ведомства”; “Общественные организации и губернаторы”).
Используя сохранившиеся в архиве Департамента полиции материалы, А.С. Туманова отчетливо демонстрирует, что полицейские чиновники прекрасно понимали несовместимость самодержавного государства и многих общественных организаций, как просветительских, так и вроде бы сугубо научных (типа Вольного экономического общества; любопытно, что власть противодействовала деятельности обществ автомобилистов и любителей авиации, опасаясь, что эта техника может быть использована в противоправительственных целях, — см. с. 187—193), которые в российском политическом контексте неизбежно становились оппозиционными и содействовали разложению господствующей идеологии и распространению оппозиционных идей. Они пытались противодействовать этому процессу (закрывали одни общества, урезали функции и возможности других), но эффективность их действий была невысока — общество сопротивлялось, общественные организации вырабатывали формы противодействия, апеллировали к прессе и общественному мнению и т.д.
В то же время власть оказывала поддержку монархическим, идеологически и культурно консервативным организациям, но эта деятельность парадоксальным образом тоже содействовала разрушению старых порядков. Как отмечал в те годы журналист и общественный деятель И.В. Жилкин, “каковы бы ни были правые организации, — все же это ячейки с общественным бродильным началом. Создавая здесь себе поддержку, администрация воспитывает в себе новую, роковую для нее привычку — признание общественности” (цит. по с. 245). Отметим в этой связи, что Николай I не любил, чтобы его печатно хвалили, и всячески (в том числе и через цензуру) противодействовал этому, поскольку сам факт такой оценки свидетельствовал о наличии независимой точки зрения, общественного мнения. Ведь получив право оценивать самодержца, этот кто-то может в другой раз и покритиковать.
Констатируя консерватизм российской бюрократии, отсутствие в стране четкого разделения властей, слабость среднего класса, нереалистичные стремления “либеральной общественности, стремившейся к абсолютному освобождению публичной сферы от государственного контроля” (с. 291) в условиях неготовности к этому большинства населения, Туманова приходит к выводу, что “стремление царизма к огосударствлению социальных процессов, сохранению патерналистского отношения к народу препятствовало формированию гражданского общества и демократических правовых институтов, не позволяло власти обрести в лице общества действенного партнера” (с. 290), что в итоге приводило к непримиримым противоречиям, разрешившимся революцией.
Среди ряда общественных организаций Туманова на нескольких страницах (с. 107—100) рассматривает и клубы. То, что было лишь эпизодом в ее книге, стало предметом углубленного исследования в монографии И.С. Розенталя, выпущенной тем же издательством “Новый хронограф”. Автор подробно прослеживает историю клубов в России, рассматривает различные их разновидности и специфически российские их черты. Книга содержит много эмпирического материала, почерпнутого как из печатных, так и из архивных источников, но, хотя описания подробны (иной раз — чересчур), все же она не носит чисто “этнографического” характера, а проблемно ориентирована. Автор рассматривает клубы “как очаги формирования и распространения общественного мнения” (с. 5), а также репутацию клубов в общественном мнении.
Такой подход понятен. Действительно, в принципе общественное мнение формируется и выражается в прессе и других каналах массовой коммуникации; по сути, если нет негосударственных каналов, то нет и общественного мнения. В России частная периодика возникает в конце XVIII в., но ареал ее распространения очень узок (тираж журналов составлял обычно 300—600 экз.), и, кроме того, она не касалась политических вопросов.

По сути, настоящее общественное мнение в России возникает только во второй половине XIX в. Период конца XVIII и первой половины XIX в. можно рассматривать только как зачаточную стадию его существования, когда общественное мнение формировалось в значительной степени в устной форме, в беседах и разговорах, а формой трансляции его были слухи.
Поэтому можно ожидать, что, помимо частных домов, общественное мнение формировалось в местах встреч знакомых (незнакомый мог оказаться полицейским агентом) — клубах, литературных и научных обществах и т.п. И.С. Розенталю близка эта точка зрения; ссылаясь на П.А. Зайончковского и В.Я. Гросула, он пишет, что “утверждение, будто периодическая печать была единственным выразителем общественного мнения, справедливо оспаривается” (с. 6).
Однако клубы, как показывает И.С. Розенталь, в первой половине XIX в. не играли существенной роли в формировании общественного мнения. Исследователь полемизирует с утверждениями некоторых авторов, которые рассматривают российские клубы как прообраз парламента, предпарламентскую форму обсуждения социальных проблем, как своего рода оппозицию. Детальное рассмотрение начального этапа истории клубов в России (возникли они во второй половине XVIII в., во времена Екатерины II, как и частная журналистика) позволяет автору прийти к выводу, что хотя в клубах была специальная комната для бесед, называвшаяся “говорильней”, но социальные проблемы и политические вопросы там либо не обсуждались, либо обсуждение сводилось к поддержке правительственной политики. И.С. Розенталь пишет: “Усредненное умонастроение членов клуба, их реакция на “внешние раздражители” выражали стихийный консерватизм, свойственный в первой половине XIX в. и дворянству, и другим социальным группам, — приверженность к привычному, нежелание каких-либо перемен в государственном и социальном устройстве <…>” (с. 138).
В роли мест, где формируется общественное мнение, клубы стали выступать, как показывает исследователь, только со времен “гласности”, т.е. с конца 1850-х гг. Но в этот период начинается бурное развитие журналистики, именно тут вырабатывалось прежде всего общественное мнение, а клубы играли в этом процессе третьестепенную роль, причем в самых известных и престижных клубах — Английских клубах Петербурга и Москвы — в силу их сословного (дворянского) характера находили выражение главным образом консервативные взгляды, которые в прессе были выражены слабо.
Интересным (и новым) явлением для России стало, как отмечает И.С. Розенталь, возникновение во второй половине XIX в. клубов интеллигенции. Один из них (Шахматный клуб) был даже закрыт полицией. Но клубы другого типа — художественные (Артистический кружок в Москве, Клуб художников в Петербурге, Общество любителей изящных искусств в Саратове, Московский литературно-художественный кружок и др.) — объединяли значительную часть творческой интеллигенции и успешно функционировали. В начале ХХ в. получили распространение и рабочие клубы, довольно подробно рассмотренные в книге (с. 215—239).
Чрезвычайно любопытное явление этой эпохи — клубы консерваторов конца XIX — начала XX в., в частности Русское собрание, возникшее в 1901 г. С одной стороны, консерваторы были государственниками и монархистами и, в силу этого, должны были поддерживать государственную власть и царя. Но, с другой стороны, они пытались объединиться и обозначить свою, “особую” позицию, тем самым дистанцируясь от этой власти и способствуя развитию общественного мнения, независимой прессы и т.д., подрывавших позиции самодержавной власти. В книге цитируется дневниковая запись видного консерватора, генерала А.А. Киреева: “Как организовать консервативную партию, когда те, кому хочешь служить, которых хочешь спасти, не понимают, что для такого служения нужна свобода слова, что служить молча могут только лакеи, а не верные слуги” (цит. по с. 244).
Период начала века, как показывают многочисленные приводимые в монографии свидетельства, — “золотой век” российских политических клубов: “…начиная с 1905 г. впервые в российской клубной культуре политические клубы выдвинули на первый план формирование общественного мнения как главную собственную задачу. В этом они участвовали вместе с прессой, пытаясь издавать и собственные печатные органы, и с другими центрами общественности, вплоть до органов местного самоуправления <…>” (с. 282).
После поражения революции подавляющее большинство политических клубов (кроме клубов правых и националистов) были закрыты, но число клубов других типов продолжало расти, и они сыграли важную роль в подготовке революции.
Две книги издательства “Новый хронограф” показывают, как формировалась в России “ткань” гражданского общества, как “наращивались мускулы”, несмотря на противодействие самодержавной власти. С одной стороны, это очень поучительно сейчас, когда перед нами стоит задача создания демократического общества, с другой стороны, это делает картину того времени гораздо более объемной по сравнению с двухполюсной (революционные силы / силы реакции), которую рисовала советская историография.
А. Рейтблат
Грякалова Н.Ю. ЧЕЛОВЕК МОДЕРНА: БИОГРАФИЯ — РЕФЛЕКСИЯ — ПИСЬМО. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. — 384 с. — 500 экз.
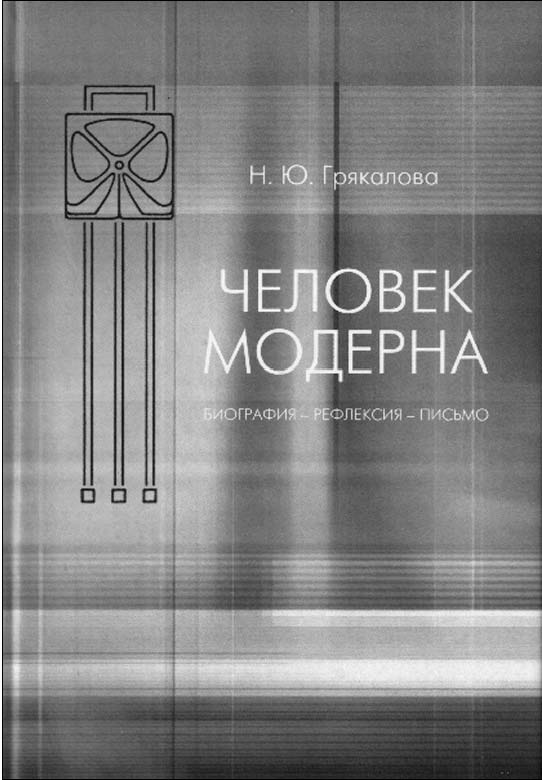
С модерном обычно ассоциируется Серебряный век, но книга Н.Ю. Грякаловой сосредоточена более на его предшественниках и последователях. Грякалова показывает, как система ценностей модерна складывается еще у натуралистов. “Деидеологизация литературы (вместо “идеи” — факт, наблюдение); демистификация “чудесного” (предлагается его детерминистское объяснение); дегероизация персонажа (вместо “великих” личностей — частный человек в своей будничной и интимной жизни); демонтаж фикциональности (вместо “вымысла” — “жизнь” и “человеческий документ”)” (с. 25). Пристальное наблюдение натуралистов за психическими состояниями способствовало обострению чувствительности и чувственности. Хотя невротический “декадент” многим казался подлежащим ведению психиатрии, а не литературоведения, но и врач считал возможным говорить о чувствительном предвидении, а не дегенерации (с. 36).
Символисты стали рассматривать как знак избранности то, что для натуралиста было психопатией. Воображаемое, как проекция внутреннего мира человека, становится таким же фактом, как все остальное. Сологуб уже мог характеризовать себя как “поэта бреда” — и это порождало соответствующую моду, особенно во времена, когда даже хождение босиком воспринималось как великая раскрепощенность, приводившая чуть ли не в экстаз. “Для натуралиста “странные явления” — объект наблюдения и фиксации через “документ”, для символиста — психологический опыт по “расширению сознания”” (с. 21). Поколения модерна относились друг к другу весьма критически. Характерно недоумение, с которым Амфитеатров разглядывал Волошина, предложенного ему в помощники по корреспондентской работе в Париже. Причем в итоге оккультист Волошин, предчувствовавший катастрофу российской истории, оказался ближе к истине, чем веривший в неуклонный прогресс позитивист Амфитеатров.
Позиция “человека модерна” становилась все более многомерной, пусть и не лишенной заблуждений. Характерен “роман с Востоком” М. Волошина, начавшийся еще во время его среднеазиатской поездки и продолжавшийся до последних дней, до акварелей, написанных в Коктебеле в технике, близкой к японской. Русскояпонская война представлялась поэту европейской колониальной экспедицией — и он был “всей душой на стороне японцев” (с. 193). Из Азии Волошин ждал духовного обновления. Скептику Брюсову оставалось только напоминать, что это война двух империй. Символистские журналы охотно печатали японскую гравюру — но и расистские статьи о “желтой опасности” и превосходстве европейского ума над азиатским. Волошин, как мог, противостоял взгляду на Восток как источник живописных сюжетов, а не особый, по-своему плодотворный тип мышления. Однако сам он на Восток долго собирался, но так и не попал, а в Париже прожил много и французскую культуру впитал основательно.
Полубессознательная аффектированная речь, воспроизводимая натуралистами, стала позднее материалом и психоанализа, и приема “потока сознания”. А значение ряда идей стало понятным гораздо позднее. Русские писатели-натуралисты и связанные с ними критики (В.М. Фриче, П.Н. Сакулин, В.Ф. Переверзев) оказались в начале общего поворота культуры к истории повседневности, “археологии сознания”. Боборыкин одним из первых занялся социологией литературы — механизмом писательской популярности, дифференциацией “массовой” и “элитарной” литературы.
Очень интересно (в том числе и для понимания современной литературы) прослеживание Грякаловой становления фрагментарной прозы у авторов самых разных литературных направлений. Осознание ценности отдельного момента и субъективного взгляда. Переход от импрессионизма к бессюжетности, далее к орнаментальности и монтажу. Сюжеты преобразуются в мотивы, сплетаемые в орнамент мотивной системы (с. 244). В прозу проникают поэтические конструктивные принципы (с. 226). Ощущение единства текста создается “за счет возникающего эффекта “напластования”, интерференции разных стилистических планов” (с. 249), лейтмотивов. Грякалова показывает, что в основе метода Ремизова — пересказ источников, перевод написанного в живую речь (с. 287), но таким источником может выступить и дневниковая запись самого Ремизова (с. 247). И Б. Пильняк уже в юности включал в письма фрагменты произведений, находящихся “в работе”. Видимо, пристальность взгляда, его обостренная индивидуальность, снимает оппозицию “факта” и “фикции”.
“Как сообщить то, что не может быть сообщено с помощью устоявшихся языковых форм? как преобразовать, “оживить” язык, чтобы дать возможность высказаться самой экзистенции?” (с. 287). Для этого требуются динамические конструкции, открытые множеству значений, идущих из становящегося мира, принципиально незавершаемые, оставляющие читателю свободу связей.
Текст как монтаж голосов, где голос автора не занимает преимущественной позиции. Современники-критики считали все это только эскизами и набросками. И читатели не были готовы к столь странным произведениям. А. Ремизов переработал один из своих текстов в сторону увеличения сюжетности (и привычности), хорошо понимая, что работает “на дурака”. Действительно, сопоставление редакций (с. 232) показывает, как выцвел текст.
Уже для Брюсова стихи М. Шкапской были только дневником, который не следовало печатать. Но, если посмотреть на дальнейшее развитие литературы, видно, что будущее оказалось за более индивидуализированным. Стирание грани между литературой и дневником происходило и в эмигрантской литературе, что Грякалова анализирует на примере Поплавского. И перемена в биографии меняла язык. Уход Шкапской из поэзии в журналистику, связанный, видимо, и с личной трагедией, и с общей ситуацией в культуре, сопровождался сменой субъекта высказывания с женского на мужской.
Продолжалась индивидуализация поведения. Игра Ремизова — не жизнестроительство символистов. “Розыгрыши и мистификации Ремизова были полностью лишены претензий на “преображение мира” <…> в отличие от “мэтра” и “мага” В. Брюсова, “мистагога” и “иерофанта” Вяч. Иванова, “пророка” Д. Мережковского” (с. 257). Ремизов умаляет себя до “переписчика”, “шута”. Это уже другой модернизм, лишенный авторитарных тенденций. Ремизов играл даже перед лицом опасности — стилизуя свою подпись под показаниями при аресте в ЧК. Многое предвещает новую культуру вариативности и перформативности. “Каждая “редакция” мыслилась Ремизовым как самостоятельное произведение, достойное отдельной публикации, ибо фиксировало некое новое состояние текста, точнее — его новое исполнение (performance), рождающееся в процессе переписывания” (с. 275).
Но, видимо, развитие личности требовало энергии, которой в культуре еще не было. И заметно, насколько многие носители глубоко индивидуальных сознаний, создатели индивидуальных стилей, оказались захвачены стихией неиндивидуального, разоружены перед ней. Вспомним увлеченность Пильняка и Шкапской чисто биологической жизненностью, провинциальной Коломной как символом подлинности. Отсюда, возможно, недостаток ресурсов для сопротивления последующим тоталитарным переменам. Оставалось только хранить оазис культуры и личной порядочности, как это делал “последний символист” Г. Чулков, в квартире которого “А.Ф. Лосев познакомился с Андреем Белым, сюда приезжала Ахматова, хлопоча в московских инстанциях за арестованных близких” (с. 365).
Приемы орнаментальности, разработанные символистами Белым и Ремизовым, подошли Пильняку, по мнению Грякаловой, из-за сходной установки на мифопоэтическое мышление (с. 320). Однако жаль, что Грякалова не анализирует другую линию фрагментарного письма, особенно ярко выраженную у Мандельштама и менее связанную с символизмом. Жаль, что только упоминаются сходные процессы в других литературах и соприкосновение с ними русской (связь натурализма и символизма во Франции, связь Поплавского и Ремизова с сюрреализмом). Телесность — частая тема мировой литературы 1920—1930-х гг., Поль Валери говорил, что самое глубокое в человеке — это кожа.
Почему-то названы верлибрами стихи Шкапской (с. 133), хотя там есть даже рифма, это — версе. У Розанова в одних фрагментах сила отождествляется с женским (с. 128), в других — становится покоряющим источником соблазна, на который отвечают опять-таки женской влюбленностью (с. 129). Нельзя считать Розанова последовательным, иначе мы получим пример лесбийского дискурса.
Гораздо привлекательнее демонстрируемые Грякаловой примеры развивающейся изменчивости модерна. Вроде пометы Блока на черновике неудавшегося стиха, полного возвышенных клише: “дальше и нельзя ничего” (с. 119). Нет значительного автора без сомнения и без понимания исчерпанности старых, пусть даже своих собственных, путей.
Александр Уланов
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: К 125-летию со дня рождения / Сост. М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина, И.Б. Делекторская. — М.: Наука, 2008. — 595 с. — Тираж не указан.

Содержание: Богатырев Е., Спивак М. К 125-летию со дня рождения Андрея Белого; Силард Л. О символах восхождения у Андрея Белого. К постановке вопроса; Нива Ж. Поэтическое братство Андрея Белого и А.А. Блока; Галанина Ю.Е. Андрей Белый и Л.Д. Блок: К истории отношений; Юнггрен М. Эллис и доктор Кобилински — символист с двумя карьерами; Иванова Е.В. Андрей Белый и епископ Антоний (Флоренсов); Лавров А.В. Андрей Белый в 1917 году: Монархия или республика?; Воронин С.Д. Андрей Белый и советская власть; Примочкина Н.Н. Андрей Белый и Максим Горький в 1920—1930-е годы; Толстая Е. Андрей Белый и “серо-бурое политиканство”. Неизвестное письмо Алексею Толстому из фондов Государственного музея А.С. Пушкина; Байер Т. Вера Осиповна Лурье и Борис Николаевич Бугаев; Тахо-Годи Е.А. Энвер Макаев и Андрей Белый: Встречи и воспоминания; Санников Д.Г. Андрей Белый и Г.А. Санников: Материалы из семейного архива; Малмстад Дж. Ходасевич об Андрее Белом; Спивак М.Л. “Аргонавтический миф” в поэтическом цикле О.Э. Мандельштама на смерть Андрея Белого; Шапошников М.Б. К вопросу о происхождении Б.Н. Бугаева: Материнская линия; Тарумова Н.Т., Уланова А.В. Николай Васильевич Бугаев. Новые архивные материалы; Мельниченко В.Е. Михаил Грушевский: “Я основался в Москве, Арбат, 55”; Соливетти К. Творчество и личность Андрея Белого; Мазаева О.Г. Ракурс рассмотрения Андрея Белого Ф.А. Степуном; Бурмистров К.Ю. Каббала и русский символизм. К постановке вопроса; Пономарева А. Индия и символизм Андрея Белого; Белоус В.Г. Андрей Белый как философ. Полемические размышления на “вечную тему”; Бойчук А.Г. Из комментария к “Кубку метелей”. Андрей Белый и философия эроса З.Н. Гиппиус; Орлицкий Ю.Б. Ритмическая структура симфоний Андрея Белого: У истоков реформы русской прозаической строфики; Фещенко В.В. “Поэзия языка”: О становлении лингвистических взглядов Андрея Белого; Обухова О. Андрей Белый: Теория прозы. Заметки к теме; Шалыгина О.В. “Проза” — “поэзия” в сборнике Андрея Белого “Золото в лазури”; Гардзонио С. Ранние итальянские переводы из поэзии Андрея Белого; Пильд Л. О литературном генезисе мотива “пляски смерти” в книге стихов Андрея Белого “Пепел”; Лекманов О.А. Хлестаков(ы) русской поэзии; Барранка С. Тунис Андрея Белого; Комелли А. Андрей Белый о немецкой культуре периода Первой мировой войны; Джулиано Дж. Итальянский перевод поэмы Андрея Белого “Глоссолалия”; Рам Х. Андрей Белый и Грузия: Грузинский модернизм и переосмысление петербургского текста в периферийном пространстве; Иван И. Заметки к антропософскому контексту романа Андрея Белого “Петербург”; Элсворд Дж. “Петербург” и “Гибель сенатора”: “Бал у Цукатовых”; Малити-Франева Э. К вопросу о переводе “Петербурга” Андрея Белого на словацкий язык. Заметки переводчицы; Магомедова Д.М. Мотивы “Страшной мести” Н.В. Гоголя в романном цикле Андрея Белого “Москва”; Делекторская И.Б. “Москва” Андрея Белого и Москва Сигизмунда Кржижановского; Кук О. Маленькие Нелли в “Москве” Андрея Белого и “Котловане” Андрея Платонова; Яковлева К.В. Мемуары Андрея Белого глазами Владислава Ходасевича и Гулливера; Янгиров Р.М. Забытый отклик Е.А. Зноско-Боровского об Андрее Белом—мемуаристе; ЛевинаПаркер М. Тема в вариациях, или Андрей Белый — “серийный автобиограф”; Николеску Т. Белый и экспрессионизм; Матич О. Разорванный и пожирающий рот: Анализ мотива в поэтике “Петербурга” Андрея Белого; Шталь Х. “Оккультные письмена” в романе Андрея Белого “Петербург”: Заметки к генезису образа “бомбы”; Коно В. Мотив “глаза” в “Москве” Андрея Белого; Семьян Т.Ф. О визуальном облике прозы Андрея Белого; Стоун Дж. Эстетика цвета в ранней лирике Андрея Белого; Шишкин А.Б. “Чертеж” Андрея Белого к эпилогу поэмы Вяч. Иванова “Человек”; Ота Д. “У гор — говор: с-л-о-в-о!”: О горных пейзажах Андрея Белого в собрании Российской национальной библиотеки; Наседкина Е.В. Иконография Андрея Белого в оценке К.Н. Бугаевой и портреты Н.Н. Андреева; Галина Т.В. Портрет Андрея Белого скульптора А.С. Голубкиной: образные параллели публицистики и композиционно-пластических решений; Фомин Д.В. Оформление прижизненных изданий Андрея Белого; Стенограмма Круглого стола [“Андрей Белый: История и современность”] (30 октября 2005 г.).
Богумил Т.А. В.Г. ШЕРШЕНЕВИЧ: ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ: Монография. — Барнаул: БГПУ, 2007. — 217 с. — 100 экз.
Иванова Е.А. ТВОРЧЕСТВО В. ШЕРШЕНЕВИЧА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДЕКЛАРАЦИИ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. — Саратов: Наука, 2008. — 145 с. — 100 экз.
Вышли две монографии об одном из самых шумных русских имажинистов — В.Г. Шершеневиче. После сборника “Русский имажинизм. История. Теория. Практика” (М., 2005) и многочисленных публикаций наследия поэта, осуществленных в основном В. Дроздковым, наступил, по-видимому, этап научного осмысления его творчества.
Будучи написаны на основе кандидатских диссертаций, эти книги ярко отражают теоретические и методологические установки в соответствующих университетах. Так, работа Е. Ивановой методологически следует монографии И. Иванюшиной “Русский футуризм: идеология, поэтика, прагматика. Саратов, 2003). Отсюда важное положение книги Е.А. Ивановой: “Знание <…> внелитературных реалий помогает понять, почему В. Шершеневич с самого начала строит свою теорию футуризма, отталкиваясь от самого же футуризма. Мотив борьбы “истинного” и “ложного” футуризма — характерная черта литературного процесса 1910-х годов <…>. Шершеневич пришел в футуристическое движение далеко не в первых рядах, что объясняет его желание дискредитировать футуристические достижения его предшественников — итальянских футуристов, русских кубофутуристов и вождя эгофутуристов И. Северянина” (с. 41). Далее автор, ссылаясь на мнение В. Маркова, характеризует теоретические тексты Шершеневича как более ясные и четкие, чем бессвязные тексты Бурлюка. Однако стоило бы обратить внимание на принципиальную стилевую, смысловую и поэтико-политическую разницу между текстами Бурлюка и Шершеневича.
Далее автор достаточно подробно и с большим количеством объемных цитат описывает сборники поэта “Экстравагантные флаконы” (1913), “Автомобилья поступь” (1916) и др., обращает внимание на роль Шершеневича в пропаганде идей Ф.Т. Маринетти в России и т.д., а в случаях необходимости ссылаясь на разборы стихов Шершеневича в работах Т. Богумил.
Рассматривая переход Шершеневича от футуризма к имажинизму, Е.А. Иванова достаточно радикально заявляет: “Отличия В. Шершеневичафутуриста от В. Шершеневича-имажиниста в теории носят весьма конъюнктурный и поверхностный характер, что позволяет говорить о единстве его эстетической концепции. Имажинизм в понимании В. Шершеневича представляет собой одну из разновидностей футуризма — попытка “преодолеть футуризм” не увенчалась успехом. Это не значит, что теоретические выкладки В. Шершеневича были совершенно бесплодными. Многие его наблюдения, относящиеся к имажинизму, в целом очень точно характеризуют сущность футуризма и авангарда в целом (избыточная метафоричность, расколотость сознания)” (с. 72). Но хотя имажинизм немало унаследовал от футуризма, однако оба признака, обозначенных автором монографии, являются общими далеко не только для двух этих течений. Вообще говоря, Е.А. Иванова свободнее чувствует себя в традиционной области описательного литературоведения. Поэтому даже когда она высказывает интересное суждение, возникают терминологические проблемы. Так, при разборе знаменитого сборника “Лошадь как лошадь”, называя его “учебным пособием по имажинизму” или “исповедью Арлекина”, Е.А. Иванова последовательно выписывает названия отдельных стихов (типа “Принцип звука минус образ” или “Принцип развернутой аналогии” и т.д.) и рассматривает их в единстве “учебных” принципов поэтики по Шершеневичу. При этом саму эту последовательность, верно описанную и осмысленную, автор предлагает считать “единым текстом”. А ведь достаточно было просто слова “текст”. Понятие “единый текст” относится к значительно более общим структурам типа “творчество писателя, рассмотренное как единый текст”. И такого рода моментов работе Е.А. Ивановой довольно много.
Не считая нужным соглашаться с многими исследователями, которые видели в книге “Лошадь как лошадь” явное подражание Маяковскому или полемику с ним, Е.А. Иванова рассматривает стихи типа:
В сотый раз я пишу о цвете зрачков
И о ласках мною возлюбленных —
или:
Нет! Пусть недолго к твоему сердцу привязан
К почве канатами аэростат,
Зато погляди, как отчетливо сказан
Твой профиль коленоприклонением моих баллад! —
в качестве лирики, отвергающей лозунги пролетарской поэзии и выражающей сопротивление комфутам (со ссылкой на Э. Мекш). Не видеть здесь “лад баллад” или “любимой моей глаза” Маяковского во всех их разновидностях можно, лишь желая сознательно отделить автора “Люблю” от его соперника-современника.
В свою очередь, обязательная привязка послереволюционного творчества Шершеневича именно к имажинизму, и особенно к Есенину, заставляет Е. Иванову выделять одну сторону поэтики “гаера имажинизма” — есенинскую, оставляя в стороне реальную полемику с Маяковским: “Влияние С. Есенина проявляется в использовании традиционно есенинских мотивов и в подборе лексики:
Я был пушистый, словно шерсть у кошки,
И с канарейками под ручку часто пел,
<…>
И мягкими губами, как у жеребенка,
Я часто тыкался в ресниц твоих овес.
Явно эпатажные черты призваны заслонить от читателя личную незащищенность и некоторую сентиментальность лирического героя” (с. 115). Достаточно вспомнить, что противник имажинистов Маяковский “канарейкам головы сворачивал”, как явный полемический запал этого текста станет ясным и далеко уведет нас от проблем банально описанного лирического героя брутального авангарда.
На этом фоне чрезмерно пафосно выглядит основной вывод монографии о том, что Шершеневич учил не столько “как делать стихи”, сколько “как делать поэтические системы” (с. 122).
Монография Т.А. Богумил выглядит более взвешенной и более методологически оснащенной. Достаточно сравнить два высказывания двух исследовательниц. Е.А. Иванова пишет: “А. Кобринский полагает, что в основе мировоззрения имажинистов, и в первую очередь А. Мариенгофа, лежит “борьба с традиционной, основанной на христианстве, системой ценностей”. О. Воронова дает этому явлению более резкую оценку, отмечая, что порой имажинистам изменяет простое нравственное чувство” (с. 96). В противовес этому у Т.А. Богумил читаем: “Расхожее выражение “дьявол — обезьяна Бога”, послужившее моделью уподобления (ср. у С. Кречетова: Шершеневич — обезьяна Северянина, а у З. Гиппиус: Северянин — обезьяна Брюсова, приводимые Т. Богумил. — Л.К.), эксплицирует характерное для эпохи представление о бого-/демоноподобном создателе. Сюжет неуспешного подражания авторитету архетипичен. Он восходит к дуалистическим богомильским легендам о попытке Сатанаила-трикстера вслед за Богом сотворить человека, где образ Божий оказался искажен получившимся существом — обезьяной” (с. 22, ср. с. 46 с отсылкой к О. Фрейденберг).
Т.А. Богумил достаточно адекватно рассматривает проблему, которую попыталась обойти Е.А. Иванова: барнаульская исследовательница говорит о взаимовлиянии Маяковского и Шершеневича (с. 28), а в случае с заимствованием или одновременным изобретением Маяковским и Шершеневичем образа создания “штанов из бархата голоса” говорит о мучениях Шершеневича из-за этого совпадения и даже предлагает свое интертекстуальное объяснение этого происшествия, возводя традицию к “Египетским ночам” Пушкина.
Правда, настойчивое желание сблизить подходы И. Смирнова, М. Бахтина, Е. Мелетинского, Х. Блума, О. Фрейденберг и т.д. в книге Т.А. Богумил выглядит странно. Порой кажется, что, употребив слово “трикстер” в качестве синонима “пародиста” и “пересмешника”, Т. Богумил сразу же “притягивает” сюда всю мифопоэтику, а вспомнив о взаимовлиянии Маяковского и Шершеневича, не может избавиться от желания щегольнуть “страхом влияния”, а уж если два поэта обратили внимание друг на друга, то тут без “диалога” не обойтись, и т.д. Поэтому к книге прилагается даже необычное “Приложение 2. Интертекст: экскурс в историю теории и методологии”. Ему предшествует вполне профессиональное и полезное “Приложение 1. Историко-литературный комментарий”, который, как видим, оказался отделен от интертекста, в то время как многие положения книги Т.А. Богумил являются хорошим интертекстуальным комментарием не только к текстам Шершеневича, но и к его мифопоэтическому “обезьяньему” жизнестроительству. Тем более, что автор книги касается этого вопроса (с. 54), говоря и о цитатности поведения Шершеневича. Впрочем, это же было свойственно и Маяковскому. Поэтому мы бы аккуратнее относились к выводам Т.А. Богумил о бессознательности поведения поэта, которая следует не столько из историко-литературной реальности, сколько из природы термина “трикстер” (с. 54—55).
“Мотивный комплекс автора-трикстера”, постулируемый в книге, неизбежно заставляет Т.А. Богумил обратиться к проблеме этимологизации или мифологизации фамилии Шершеневича, коль скоро он взял себе псевдоним. И здесь постоянное построение стихов поэта из чужих слов, образов, оборванных строчек и т.д. автор работы сопоставляет с местом “шершня” в пчелином улье, с тем, как этот член пчелиного сообщества разделывает и употребляет части тела своих убитых сородичей. При этом шершень-трикстер прямо называется Т.А. Богумил “поэтом-вором” (с. 57). Здесь Т.А. Богумил вспоминает о замечательной догадке И. Смирнова о природе образа из пастернаковского “Любимая — жуть!..” — “трутнями трутся” — как отсылке к сниженному образу “Шершеневича — паразита” (с. 58), но не упоминает мысль Л. Флейшмана о пастернаковской же “Балладе” (“Бывает курьером на борзом…”), где “топчут пчел сапоги”, которая тоже отсылает к Шершеневичу (см.: Флейшман Л. Фрагменты “футуристической биографии” Пастернака // Slavica Hierosolimitana. Jerusalem, 1979. Vol. 3). И “конь”, высекающий искры из “оскреток большака”, да и сам “большак” связаны с В. Маяковским и К. Большаковым (см.: Кацис Л. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. 2-е изд., доп. М., 2004. C. 462—464). Таким образом, мифопоэтические потенции имени и образа Шершеневича оказываются куда больше, чем можно было подумать.
Надо сказать, что и Е.А. Иванова, и Т.А. Богумил слишком доверчиво относятся к мемуарам Шершеневича, особенно созданным после смерти соратников и противников. Так, Т.А. Богумил, пользуясь понятием “симулякр”, продолжает развивать идеи мифологичности, чуть ли не псевдонимности реальной фамилии поэта, но, в любом случае, мнимости и поддельности его творчества: “Таковым “нулевым” деянием Шершеневича кроме вместо-именности стало, например, одно трагикомическое событие. Начинающий писатель работал единственным литературным сотрудником “какой-то понедельничной газеты”, писал статьи, рецензии, хронику, стихи под разными псевдонимами. Редакция рассчиталась за труд бесплатной публикацией в течение полугода списка будущих книг Шершеневича “длиною в двадцать лет работы”, которые, насколько нам известно, никогда не были изданы” (с. 60). Достаточно вспомнить, что предсмертная выставка Маяковского — борца с Г. Шенгели, автором книги “Как писать стихи, статьи и рассказы”, — называлась именно так, как поиск невышедших книг Шершеневича утратит актуальность. Этот пример лишний раз показывает, как надо быть осторожным в работе с мемуарами подобных лиц. Иначе придется счесть, что само название выставки Маяковского заимствовано у давнего противника.
К удачам автора книги надо, безусловно, отнести сопоставительный анализ текста Н. Евреинова “Предисловия без маски, но на котурнах” (в его кн.: Театр как таковой. СПб., 1912) и книги Шершеневича “Футуризм без маски” (М., 1913). Концепция “театра как такового” оказала существенное влияние на сторонников “буквы как таковой” и “слова как такового”, поэтому ценные наблюдения Т.А. Богумил существенно дополняют представления о роли Евреинова в становлении футуризма.
Л. Кацис
ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (1920—1940-е годы): Взгляд из XXI века: Материалы Международной научно-практической конференции 4—6 октября 2007 года / Под ред. Л.А. Иезуитовой, С.Д. Титаренко. — СПб.: Филологич. ф-т СПбГУ, 2008. — 288 с. — 500 экз.
Содержание: Иезуитова Л.А. Первые шаги эмиграции: публицистика; Лавров А.В. Д.С. Мережковский в эмиграции: публицистика; Богомолов Н.А. Сквозь железный занавес: Как узнавали в эмиграции о судьбах советских писателей; Герчикова Н.А. Комитеты помощи русским писателям в странах Европы (обзор материалов из фондов РГАЛИ); Рубинс М. Жанр человеческого документа в русскопарижской прозе 1930-х годов; Грачева А.М. “Дневник мыслей” А.М. Ремизова (1940—1950-е годы); Баршт К.А. Мнемозина Владимира Набокова: Правда онтологической памяти; Демидова О.Р. “Эмигрантские дочери” о себе: Варианты судьбы; Арьев А.Ю. Георгий Иванов: Последние годы и беды; Аверин Б.В. Религиозная философия в “Современных записках”; Ермакова В.К. Владислав Ходасевич — сотрудник журнала “Современные записки”; Тахо-Годи Е.А., Шруба М. Об Андрее Белом, Федоре Степуне, Дмитрии Чижевском и одной несостоявшейся публикации в “Современных записках” (по архивным материалам); Шишкин А.Б. Вехи изгнания: “Римские сонеты” Вячеслава Иванова; Титаренко С.Д. Последние метаописания русского символизма (жанровая форма эмблемы в поздней эссеистике К. Бальмонта и Вяч. Иванова); Валиева Ю.М. Под знаком Звезды: В. Ходасевич и А. Введенский; Двинятина Т.М. Заметки о поздней лирике И.А. Бунина; Лекманов О.А. Из умолчаний “Чистого понедельника” И. Бунина; Приходько И.С., Рылова А.Е. Петербургский текст в творчестве Георгия Иванова; Карпов Н.А. Некоторые проблемы поэтики трилогии М. Алданова “Ключ”, “Бегство”, “Пещера”; Доценко С.Н. О литературном генезисе имени героя книги А. Ремизова “Учитель музыки”; Ухина Е.А. Икона и парсуна в повести И.С. Шмелева “Неупиваемая Чаша”; Славина О.Ю. Театр как таковой в сновидениях для себя: Николая Евреинов; Токарев Д.В. Ars Poetica Бориса Поплавского (Поплавский и Малларме); Кибальник С.А. Транскультурная поэтика Гайто Газданова и писателей младшего поколения первой волны русской эмиграции; Зобнин Ю.В. Корвин-Пиотровский, Гумилев, “парижская нота”; Пашкевич А. Первая волна российской эмиграции в лаборатории польских исследователей; Любимов М.Ю. Публикация романа “Мы” Евгения Замятина в пражском журнале “Воля России”; Рогова К.А. Речевой портрет в “Дневнике моих встреч” Ю.П. Анненкова; Малевич О.М. Вячеслав Лебедев и чешская поэзия; Порочкина И.М. Т.Г. Масарик и русская литературная эмиграция; Гумерова Э.К. Гайто Газданов: Из дополнений к библиографии.
Богданова О., Кибальник С., Сафронова Л. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА. — СПб.: Петрополис, 2008. — 184 с. — 1000 экз.
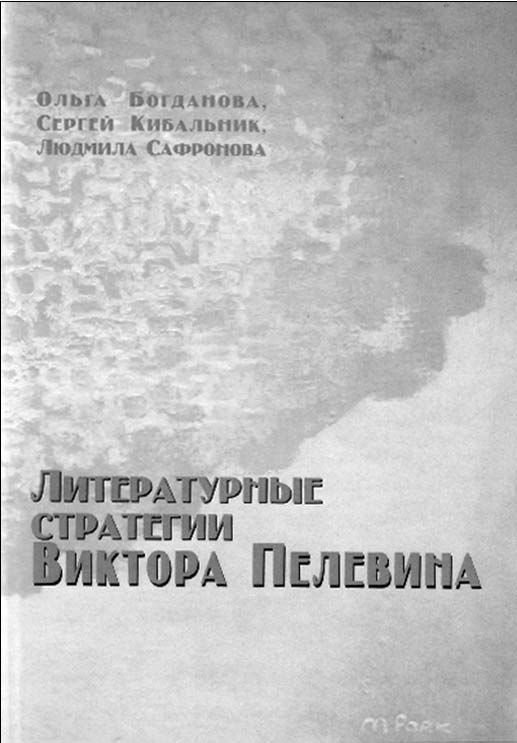
В. Пелевин — автор, сочетающий черты интеллектуального и рыночного литератора, в немалой степени мифологизирующий сам себя, и от заглавия книги ждешь разговора о способах этого, стратегиях литературного успеха. Но о стратегиях будет немного. Пелевин, по С. Кибальнику, “каждый раз создает интеллектуально-массовое чтиво, в котором максимально возможное количество target-groups находят для себя нечто привлекательное” (с. 25), но это свойственно очень многим авторам, думающим о рынке, от Макса Фрая до Б. Акунина, и в чем особенность Пелевина, остается неясным.
Зато С. Кибальник настойчиво приписывает Пелевина к поп-арту. Поп-арт фигурирует у Пелевина, вплоть до прямого упоминания Уорхола, но у Пелевина и Вавилон есть, из чего не следует принадлежность Пелевина к древневавилонской литературе. И едва ли вплетение в повествование большого количества фактических и документальных материалов (“…у Пелевина это общество потребления, виртуальная реальность и шумерская мифология” — с. 17) позволяет отнести текст к поп-арту, тогда в поп-арте окажется едва ли не половина литературы ХХ в. Формы массовой культуры у Пелевина — фон романов, материал для них. Признавал свою связь с поп-артом, например, В. Сорокин, но делал ли это Пелевин, как утверждает Кибальник, цитируя Сорокина, а не Пелевина (с. 15)? Там же Кибальник приводит цитату, относящую к соц-арту “Generation “П””, но источник не указывает. Так же и с цитатами на с. 24—26, 32 и многих других местах. На с. 16— 17 Кибальник говорит о связях “Generation “П”” и “Голого завтрака”, но У. Берроуз (почему-то упорно именуемый Э. Берроузом, автором не “Голого завтрака”, а “Тарзана”, — с. 16) тоже представитель не попарта, а битников. Очевидны отсылки “Generation “П”” к “Generation Х” Коупленда, но и Коупленд иронически дистанцируется от поп-арта. Кибальник сам пишет, что поп-арт у Коупленда играет только роль материала (с. 20). У Пелевина ирония просто распространяется дальше — и на значимую для Коупленда идеологию битничества. Но почему осознание того, что контркультура может оказаться лишь одной из удачных рыночных стратегий, обязательно чревато конформизмом, как полагает Кибальник (с. 22)? Социальная критика в фантастическом мире Пелевина, его рефлексия — едва ли конформизм. Скорее наследование сатирической традиции, где и Свифт, и Олдос Хаксли. Пелевин вообще очень чувствителен к клишированному поведению. “Побеждает в современном мире тот, кто более расчетлив и менее импульсивен” (с. 69), но и победа у Пелевина становится объектом иронии.
Кибальник говорит о присутствии у Пелевина насмешки над постмодернизмом (с. 25), что тоже не вписывается в поп-арт. Пародирование интертекста, элементы коллажа, заметные у Пелевина, также не являются исключительным признаком поп-арта. Если считать поп-артом любой успех, то в основатели поп-арта попадет Гомер. И если рыночная литература — действительно произведения, навязанные читателю, то полностью рыночный автор не станет, как Пелевин, рефлектировать по этому поводу и демонстрировать технологии навязывания. Ориентация на коммерческий успех у Пелевина есть, но и она подвергается иронической рефлексии.
“Пелевин, в сущности, сам мастеровитый литературовед, только занимающийся не анализом, а синтезом. Интеллектуальный публицист, задвигающий нам свою эстетику под видом художественной литературы” (с. 28), — пишет Кибальник, но поп-артом тут и не пахнет, утверждения Кибальника на разных страницах не согласуются. Не согласуется утверждение о принадлежности Пелевина к поп-арту и с мнениями других авторов книги. О. Богданова говорит о захваченности Пелевина “вечными” метафизическими вопросами, не имеющими однозначных ответов (с. 80), — это, безусловно, не поп-арт.
Л. Сафронова рассматривает использование Пелевиным рекламных технологий и психоаналитических практик. Современная реклама и идеология, действительно, во многом продукты мифодизайна. (Хотя методы воздействия на сознание, приводимые у Пелевина, имеют отношение скорее не к психоанализу, а к нейролингвистическому программированию, например.) Но у Пелевина одновременно присутствует дистанция от этого, деконструкция рекламы. Он не копирует описываемые им практики. И трудно согласиться с тем, что “пелевинский имплицитный читатель <…> уже не личность, а просто состояние, он абсолютно механистичен, поскольку является эхом процессов, навязываемых его психической структуре извне” (с. 44). Таков массовый потребитель рекламы или любовного романа, а Пелевин рассчитывает на гораздо более способного к рефлексии читателя. Далее Сафронова зачем-то вспоминает экоэстетику (с. 38), едва ли имеющую к Пелевину отношение, повторяет утверждения Р. Барта о воздействии рекламы через коннотативную составляющую (с. 47). Глава о психоаналитических практиках во многом сводится к соотнесению Пелевина с работой В. Руднева об обсессивном дискурсе.
Однако Сафронова все же вскрывает некоторые механизмы, имеющие отношение к успеху Пелевина. “Пелевинский персонаж является одновременно и копией реальности, и ее скорректированной моделью со спланированными смещениями в означивании, параллельно деконструкцией и реконструкцией некоего универсального образа с заранее известными механизмами воздействия на читателя. <…> Открытость конструкции образа провоцирует у реципиента на подсознательном уровне непременное желание ее завершить” (с. 50). То есть Пелевин, видимо, умело провоцирует активность читателя, как в “высокой” литературе, но предлагает этой активности готовые каналы для построения уже знакомого читателю образа. Тут много о чем можно бы поговорить, но глава на этом заканчивается.
О. Богдановой и С. Кибальнику принадлежит анализ интертекста у Пелевина — Бунин, Набоков, Чехов, Газданов, Булгаков… Это интересно, но производит впечатление хорошего диплома. От трех докторов филологических наук все же ждешь большего. И даже здесь не все гладко. Тимур Тимурович, продолжая восточную линию, вполне может быть связан с Тамерланом, а не только с персонажем А. Гайдара. Непонятно, почему Богданова поправляет Пелевина, утверждая, что бородатый господин, напоминающий графа Толстого, похож на Солженицына (с. 131). Очень странно читать о насквозь ироничном и релятивном романе “Чапаев и Пустота”, что “в традиции христианства образ мира Пелевина иерархичен, организован низом и верхом, черным и белым, Богом и сатаной” (с. 137, О. Богданова). Мысль о том, что Богу незачем было являться людям в безобразном человеческом теле, а гораздо более подходящей формой была бы совершенная мелодия, Богданова почему-то считает отстаиванием догм христианства (с. 151), хотя эти догмы однозначно говорят о сотворении человека по образу и подобию и никаких мелодий там нет.
Кибальник, кажется, сам попадает в плен к мифам о Пелевине, полагая, что в основе “Ники” — “роман автора с бездомной или иногородней девушкой” (с. 100).
В книге есть большой библиографический список, но большинство статей не использовано в тексте, хотя многие из них настолько связаны с обсуждаемым, что нельзя их не учитывать. Возникает вопрос: читали ли их авторы или, как плохой студент, просто включили в список для солидности? А когда критик И. Кукулин назван Куклиным, а журнал “Новое литературное обозрение”, в котором опубликована его статья, вместо 2003-го отнесен к 2000 г. (с. 76), теряется доверие и к списку. Книга вообще производит впечатление торопливости и неряшливости. Например, цитаты из А. Минкевича на с. 26 и 36 повторяются, причем С. Кибальник и Л. Сафронова говорят практически об одном и том же. Некогда было читать друг друга? О. Богданова называет государственным деятелем современности Тимура Гайдара (с. 145), а не Егора. Маркиз де Сад почему-то переделан в маркизу (с. 92). И так далее.
““Соображенная на троих”, эта книга представляет собой совместную работу трех авторов” (с. 2) — уже аннотация выдает, что книга писалась в попытке подстроиться под то, что ее авторы считают современным стилем и современной тематикой. Подстраиваться им тяжело. Например, С. Кибальник говорит, что “в русской культуре, не говоря уже о литературе, долгое время не только не было никакого поп-арта, но и знания о нем ограничивались разделом” из книги В. Крючковой, вышедшей в 1987 г. (с. 12). Для советского профессора это, возможно, так; но для художников и литераторов концептуализма и соц-арта, давно существовавших в России к 1987 г., да и для всех, хоть немного интересовавшихся современным искусством, поп-арт был задолго до объяснений В. Крючковой.
Видимо, такая “перестроившаяся” филология сваливает всех рыночно успешных авторов в одну кучу, а нерыночных не видит вообще. Обширные научные работы и о Пелевине, и о стратегии литературного успеха нужны, и хотелось бы, чтобы они были выполнены на более высоком уровне.
Александр Уланов
S´ liwowscy Wiktoria i Rene´.
ROSJA NASZA MIL/ OS´C´. — Warszawa: Iskry, 2008. — 540 s. — 1000 экз.Заглавие книги отсылает к известному фильму Алена Рене “Хиросима, моя любовь”. Как замечают сами авторы во вступительном слове, любовь “бывает безумная и неразумная, бездумная и жестокая, оправданная и несущая обоюдную радость, полная сомнений и терзаний” (с. 7). И все эти эпитеты вполне подходят, если попытаться описать характер любви к нашей стране, которую питают в своем сердце двое известных польских ученых — Виктория Сливовская, историк, вот уже полвека изучающая биографии деятелей польской и русской интеллектуальной и политической оппозиции, и ее супруг — Ренэ Сливовский, литературовед, издатель и переводчик, автор работ по творчеству Тургенева, Чехова, писателей Серебряного века, Платонова, а также по русскому театру XIX в. Познакомились они в 1949 г. в Ленинграде, в общежитии Герценовского пединститута на улице Желябова (Б. Конюшенной), а поженились в мае 1950-го все там же, в Ленинграде.

“Россия, моя любовь” — не воспоминания, хотя по форме книга напоминает мемуары. Ее содержание составляют рассказы о разных людях и пережитых событиях. Портреты и письма людей, с которыми довелось встретиться авторам, перемежаются со спонтанно возникающими ассоциациями, забавными историями, возвращениями к прошлому и экскурсами в более поздние времена. Это книга о России и в первую очередь о замечательных людях, с которыми Сливовские дружили, переписывались, принимали у себя в маленькой квартирке на улице Новый Свет в Варшаве, с которыми вместе работали или просто общались за столом. Эти люди — русские интеллигенты середины и второй половины ХХ в. Сейчас это уже история, век минувший. Многие из тех, о ком вспоминают авторы, посвящая им отдельные фрагменты своей книги, а то и целые главы, ушли от нас навсегда, другие — навсегда уехали, а кому-то уже идет восьмой или даже девятый десяток. Одни из них — всемирно известные ученые, иных знают лишь специалисты в данной области или близкие знакомые. И к тем, и к другим Сливовские относятся с одинаковой теплотой и вниманием, следуя заветам Герцена, научную биографию которого они написали и издали в 1970-х гг.: важно не то, чем знаменит тот или иной человек, — важно то, каков он из себя, насколько интересен и симпатичен. Трудно поверить, что за тем самым столом из мореной сосны, за которым я сам не раз пил чай с хозяйкой этого гостеприимного варшавского дома, сидели когда-то Р. Якобсон и В. Шкловский. А Шкловский даже дремал в той же самой комнате на маленьком диване: как рассказывает Р. Сливовский, после обеда, когда enfant terrible русского авангарда увлеченно излагал какую-то историю, он вдруг тихо промолвил: “Я лягу”, — и в самом деле лег на двадцать минут, а потом встал и продолжал прерванное (с тех пор “я лягу” стало у Сливовских всем известным домашним словечком). Но, с другой стороны, самые интересные герои их книги — не писатели или ученые с мировым именем, а люди известные в более узких московских, петербургских или варшавских кругах: польский историк С. Кеневич, его московские коллеги И.С. Миллер, В.А. Дьяков и О.П. Морозова, петербуржец С.С. Ланда, а также литературоведы и критики: Б.Ф. Егоров, Б.Ф. Стахеев, С.Б. Рассадин, Ю.Н. Коротков и многие другие. И это только немногие из тех, о ком рассказывает эта книга. Но есть в ней и целые главы, посвященные тем близким друзьям авторов, которые запомнились им как особенно яркие личности.
Первым в этом ряду предстает Ю.Г. Оксман. Сливовские считают нужным подробно рассказать о его трудной судьбе, и это понятно: книга предназначена для польского читателя, который слышит имя Оксмана впервые. Для читателя русского будет интереснее прочитать о другом — о встречах с ученым, первая из которых состоялась в 1957 г., о его мнениях по поводу деятельности коллег (“Когда мы спрашивали о ком-нибудь, кого он ценил и уважал, он отвечал пространно, голосом полным симпатии. Если же речь шла о ком-либо, кто был ему противен, он реагировал убийственно-лапидарно: └Мер-р-рзавец!!!”” — с. 254). Нельзя не упомянуть и о том, что авторы поместили в книге ряд отрывков из неопубликованных писем, которые Оксман посылал им в Варшаву. И о “круге друзей” ученого — видных деятелей науки и литературы, с которыми Сливовские познакомились благодаря ему: К. Чуковский, И. Андроников, вышеупомянутый Шкловский с супругой — С.Г. Нарбут, Л. Опульская, И. Зильберштейн, в гостях у которого в сентябре 1970 г. авторы книги узнали о смерти Юлиана Григорьевича. Поражает фотография, сделанная на его похоронах литературоведом М.П. Громовым и подаренная Сливовским: Оксман в гробу, а над ним плачущий Шкловский…
Еще один “круг друзей” — это Б. Окуджава, Н. Эйдельман, С. Рассадин и их близкие, поколение “шестидесятников” в прямом смысле слова — люди, пришедшие в гуманитарную науку и в литературу и ставшие их совестью в “расширенные” 60-е гг. (1956—1968). И снова — живые портреты людей, их судьбы, их личные пристрастия, жесты, словечки, впечатления от их квартир, жен и совсем немного об их книгах, две из которых (биографию М.С. Лунина и “Грань веков” Н.Я. Эйдельмана) Сливовские перевели на польский язык и издали в Варшаве. Очередная глава посвящена писателям и их женам, в частности встречам с Верой Зощенко в Ленинграде, с Марией Платоновой в Москве и с двумя парижанками — Анной КашинцевойЕвреиновой и Татьяной БакунинойОсоргиной, которая послужила прототипом Тани в романе Осоргина “Сивцев Вражек”. Кстати, я с удивлением узнал, что этот роман, переведенный Р. Сливовским и готовый к печати, был изъят из плана варшавского издательства “Чительник” в 1989 г., на волне отказа от всего русского. Невольно вспоминается призыв А. Ледницкого, выдающегося русского и польского политического деятеля, одного из основателей Партии народной свободы (кадетов). Он прозвучал в 1919 г., после обретения Польшей независимости, и сводился к тому, чтобы люди не выбрасывали из домашних библиотек классиков русской литературы, так как потом всем будет стыдно. Об этом также вспоминают авторы книги в самом ее начале (с. 7).
Петербург появляется трижды — как послевоенный сталинский Ленинград, где прошли студенческие годы Сливовских (в соответствующих главах вниманию читателя предлагается настоящая мемуарная проза, повествующая об ушедших в прошлое реалиях тех лет), как Ленинград времен Бродского и Довлатова (на Невском симпатичные молодые люди говорили: “Гм, поляки, а хорошо смотритесь”) и, наконец, как современный “Питер”, сохранивший, как считают многие тамошние знакомые авторов, неизгладимые черты советского Ленинграда. На страницах, посвященных этому великому городу, мы встречаем историков — С. Ланду, В. ЛейкинуСвирскую и Ю. Штакельберга, у которого была такая длинная и густая борода, что когда он приехал в Варшаву, то дети в Лазенковском парке радостно бежали за ним и кричали: “Карабас-Барабас!” За питерской главой следует лотмановская, которая называется “Тарту, или Дерпт”; к ней примыкает обширный раздел, посвященный другу Ю.М. Лотмана — замечательному петербургскому историку литературы и культуры Б.Ф. Егорову и его семье. Глава начинается с фрагментов писем Ю.М. Лотмана в Варшаву, связанных с польскими публикациями его работ, а продолжается описанием увлекательного воздушножелезнодорожного путешествия по маршруту Ленинград — Москва — Таллин — Тарту (ездить из Ленинграда в Тарту на поезде или на автобусе иностранцам было “никак не положено) и рассказом о визите в дом Юрия Михайловича и его супруги З.Г. Минц. Это было 6 ноября 1965 г.; дети Лотманов были еще маленькие и лазали по книжным полкам “с ловкостью обезьян”. Р. Сливовский вспоминает, как реагировал на эту сцену их родитель, который с невозмутимым спокойствием произнес: “А это три кошки из нашего зверинца: Gris chat, Mi chat и просто Le chat” (с. 387). Так оно и было: сыновей звали Гриша (“серый кот”), Миша (“полукот”) и Лёша (кот — chat — с определенным артиклем le). Эти фрагменты живой жизни и живого, веселого слова особенно украшают книгу Сливовских, превращая ее в ценнейшее свидетельство недавней истории нашей гуманитарной культуры. Впрочем — не только гуманитарной, но и бытовой. Так, например, вспоминая количество выпиваемой по случаю каждого визита дорогих гостей водки и прочего спиртного, В. Сливовская иронически замечает, что русские люди, за редким исключением, обижались, если ктолибо из авторов отказывался выпить с ними все предлагаемые тосты (а их было много), и поэтому приходилось выливать водку в чай, в кофе или, за неимением лучшего, поливать водкой комнатные растения… “Сколько же я погубила цветов за все эти годы!” — вздыхает автор книги, которому нельзя не посочувствовать (с. 332). А сколько интересного можно прочесть о культуре материальной — о столовых, туалетах, банях, ленинградском родильном доме (единственный сын Сливовских, Анджей, родился в Ленинграде в 1951 г.) и о великолепных свойствах духов “Красная Москва”, которые, оказывается, можно применять как средство для отпугивания кобелей от суки в период течки!
В краткой рецензии невозможно перечислить все затрагиваемые авторами темы. К сказанному добавлю только, что кроме описаний встреч с московскими, питерскими и тартускими коллегами Сливовские рассказывают также о своих сравнительно недавних поездках на север и восток России, связанных с изучением польских ссыльных XIX в. Удивительно симпатичными выглядят в этих рассказах Вологда и Архангельск, сказочно-экзотическими — Казань, Иркутск и Прибайкалье, а вот далекий Якутск оказывается местом непростым, вызывающим смешанные чувства.
Книгу просто необходимо перевести и издать у нас. Русскому образованному читателю она будет интересна не только из-за целого ряда фрагментов неопубликованных писем деятелей нашей культуры, не только благодаря любопытным подробностям, но главным образом потому, что мы всё еще слишком плохо представляем себе то, что думают о нас умные, благосклонно, но не апологетично настроенные иностранцы и каким образом реагируют они на жизнь, к которой мы так давно и сильно привыкли, что порой не в силах замечать ее великолепия или, наоборот, странности и абсурдности.
В заключение хотелось бы привести слова авторов книги о Ю.Г. Оксмане, которые, как мне кажется, лучше всего передают ее внутренний пафос: “Юлиан Григорьевич был для нас символом отваги и непреклонности. Это благодаря ему мы поняли, что русские — не народ рабов и угнетателей в одном лице, не сообщество покорных слуг империи, служащих ей за любую цену, как часто говорят у нас, чтобы возбудить в себе незаслуженное чувство превосходства” (с. 259).
Остается только добавить, что в книге В. и Р. Сливовских помещены десятки фотографий из их личного архива, а также из архивов их родственников, друзей и знакомых.
В.Г. Щукин
Эдельман Роберт. СЕРЬЕЗНАЯ ЗАБАВА: ИСТОРИЯ ЗРЕЛИЩНОГО СПОРТА В СССР / Пер. Ирины Давидян. — М.: Советский спорт; АИРОXXI, 2008. — 400 с. — 1000 экз. — (История нашего спорта).
Бывают книги, появление которых трудно объяснить. К сожалению, данная относится к их числу.
Трудно сомневаться, что для англоязычного читателя книга (изданная Oxford University Press в 1993 г.) была интересна, занимательна и обладала серьезным познавательным потенциалом. Но зачем понадобилось 15 лет спустя переводить ее на русский и издавать солидным по нынешним временам тиражом во вполне научной серии, мы объяснить затрудняемся.
Что эта книга давала и, вероятно, до сих пор дает зарубежным исследователям? Прежде всего, стоит отметить личный опыт автора, пишущего в предисловии: “Эта книга явилась побочным продуктом моих многочисленных научных поездок в Советский Союз, начиная с 1965 г. <…> Просмотр спортивных игр, чтение о них, обсуждение и даже участие — вот то, что составляло значительную часть моего советского досуга. Эта книга, следовательно, есть плод моего двадцатипятилетнего личного опыта в качестве советского болельщика…” (с. 17). В работе отчасти воссоздана атмосфера и более ранних лет, насколько можно было ее себе представить по подшивкам газеты “Советский спорт” (ранее — “Красный спорт”). Отчасти колорит времени представлен и по книгам, и по интервью с различными людьми, особенно хотелось бы отметить общение автора с Аркадием Галинским — без всякого сомнения, лучшим советским спортивным журналистом, тонко интерпретировавшим события этого не столь простого мира. Ну и, конечно, следует определенно сказать, что правильным было решение автора сосредоточиться не на общих и потому идеализированных концепциях роли спорта в советской системе, а на конкретном его функционировании в сфере культуры. Автору неинтересны нормы ГТО и БГТО, система спортивных разрядов, школьный и армейский спорт, даже официозная показуха олимпиад, универсиад, спартакиад; хотя он о них и пишет, все-таки это далеко не главное в книге. Думается, что и отписочные “теоретические” разделы книги, не мешали и не мешают западному читателю использовать этот труд.
Но кому она нужна в современной России? Ведь абсолютное большинство фактов, так поражающих читателя западного, воспринимаются российским историком и знатоком спорта как достаточно тривиальные. Сколько-нибудь внимательный читатель спортивной прессы и книг, зритель телеканалов “Спорт” и передач по истории советского спорта на НТВ воспримет большую часть сведений, излагаемых автором как новые для мирового сообщества, в качестве общеизвестных. Мало того, история, скажем, приезда футбольной команды басков в 1937 г. в СССР теперь известна несравненно лучше, чем это представлено в книге. Мы знаем об инструкциях судьям и организаторам матчей, о том, как баскских футболистов поили и подсовывали им девочек, о скандалах вокруг игр. Мы знаем (или подозреваем) о той системе подкупа и договоров, которая царила в советском спорте, о нарушениях не только футбольных законов, но и законов государственных гораздо больше, чем сообщается здесь. Для нас не секрет, как достигались победы киевского “Динамо”, луганской “Зари” и днепропетровского “Днепра” в чемпионатах СССР по футболу. О “деле Стрельцова”, самом крупном советском футбольном скандале, любой мальчишка, интересующийся историей футбола, расскажет больше, чем написано в этой книге. Для читателя в США, отстраненно смотрящего на “соккер” вообще, а на его развитие в СССР тем более, этого достаточно. Русский читатель до сих пор не может не сопереживать гениальному игроку, которого родная партия и советское правительство обрекли на шесть с лишним лет лагеря и на участие в соревновании между цехами завода ЗИЛ. Не может не сопереживать потому, что в Стрельцове чувствовалась та стихийная одаренность, которая требовала воли. А этого ему разрешить не могли: партийно-комсомольские собрания, проработочные статьи в газетах, лишения честно заработанных званий, постоянный пригляд “органов” — вот что ждало гения, не произносившего ни слова против советской власти, а только демонстрировавшего абсолютную свободу на футбольном поле. Да, вне поля он был таков, что и теперь, читая более или менее объективные воспоминания (замечательно представлены они в книге А. Нилина о Стрельцове в серии “ЖЗЛ”), содрогаешься. Но разве Высоцкий или О. Даль, Ерофеев или Самойлов в периоды запоев были лучше Стрельцова или Воронина?
Автор пишет, что, “чтобы получить статус зрелищного, тот или иной вид спорта должен регулярно собирать на трибунах спортивных арен значительное число болельщиков, купивших туда билеты, и еще большее число зрителей — у телевизионных экранов. <…> [К]оличество таких видов спорта в СССР было крайне ограниченно. Только футбол, мужской баскетбол и хоккей удовлетворяли указанным требованиям…” (с. 13). Увы, это в корне расходится с реальным состоянием дел.
О 1930-х гг. нам в силу возраста говорить трудно, но, как кажется, тогда существовали два вида спорта, имевших значение не только агитационное, но и реальное: футбол и бокс. Футбол, без сомнения, — и автор здесь абсолютно прав — никогда не уступал первого места (хотя время от времени разрыв и сокращался до минимума). Но в разные годы по степени популярности за ним следовали разные виды спорта. После войны, в 1945—1950 гг. (и тут мы уже опираемся на свидетельство статистически значимой группы старших современников), тройку преследователей составляли бокс, русский хоккей и волейбол; в первой половине 50-х — волейбол, русский хоккей и бокс; во второй половине — волейбол, канадский и русский хоккей. С начала 60-х мы уже можем опираться на собственные воспоминания, дополненные различными свидетельствами современников и текстами. Первая половина 60-х — время канадского хоккея (в дальнейшем просто “хоккей”, так как последним заметным успехом хоккея русского был московский чемпионат мира 1965 г.), волейбола и баскетбола; вторая — хоккея, фигурного катания (напрасно совершенно не замеченного автором книги) и баскетбола; в 70-е гг. хоккей и фигурное катание практически сравнялись в популярности с футболом, баскетбол твердо занимал четвертое место, а в первой половине 80-х едва ли не вытеснил фигурное катание из тройки.
Поэтому картина, предлагаемая автором книги (футбол, а дальше несколько считаных страниц про хоккей и баскетбол), представляется нам неверной. Бокс, русский хоккей, волейбол, фигурное катание должны были в этой книге занять свое, и очень достойное, место. Без них картину русского зрелищного спорта представить себе невозможно.
Точно так же невозможно не добавить, что СССР — гигантская страна и в различных его точках разные виды спорта обладают далеко не равной популярностью. Болеть за команду своего города свойственно всем. Странно было бы видеть в Бостоне широкую торговлю майками “Нью-Йорк янкиз” или “Лос-Анджелес лейкерз”. Точно так же и в нашей стране: свердловский СКА (хоккей с мячом) всегда был несравненно популярнее футбольного “Уралмаша” и хоккейного “Автомобилиста”, да и женская волейбольная “Уралочка”, видимо, могла бы поспорить с ним за лидерство. Одно время женская волейбольная команда “Нефтчи” (Баку) явно превосходила популярностью все другие клубы этого города, кроме одноименного футбольного. В Литве на первом месте, безусловно, находился и находится баскетбол (впрочем, как раз об этом автор несколько раз упоминает, но никак не корректирует сложившуюся в книге итоговую картину). И подобных примеров можно приводить еще много.
Вряд ли можно приветствовать явную ангажированность автора. Достаточно открыть наугад собственно историческую часть книги, чтобы понять — он болеет за “Спартак”. И это сказывается в трактовке многих эпизодов. Например, на с. 308 он повествует про известное кровавое столкновение фанатов “Спартака” и киевского “Динамо” в 1987 г. в таких выражениях: “…гуляющие по городу и разглядывающие витрины игроки “Спартака” подверглись нападению киевских болельщиков”. Откуда это? Все известные нам источники говорят о том, что игроки пострадали после выигранного матча, а не до него. Если же это оговорка и имеются в виду болельщики, то стоит почитать размещенную на многих сайтах статью спартаковского фана по кличке Профессор, где выразительно описывается агрессивное поведение “спартачей” в Киеве. Еще более явно ангажированность просматривается там, где про арест братьев Старостиных рассказывается по мемуарам старшего из них, Николая Петровича (с. 112— 113). Правда, в предисловии, обращенном к русскому читателю, автор говорит: “…в действительности все было значительно сложнее” (с. 9), но что сложнее и как — читатель не узнает. А между тем достаточно было спросить себя: почему их арестовали в 1942 г., когда футбол как зрелище прекратился, чтобы понять — тут дело нечисто.
Еще многие разные мелкие и не очень мелкие уточнения просятся на язык, однако, пожалуй, не в них дело. По общему ощущению, книга эта, написанная — повторим! — увлеченным человеком, многое прочитавшим и осмыслившим, все-таки останется для русского читателя любопытным курьезом. А писать историю советского зрелищного спорта предстоит другим. Тем, для кого русский хоккей на тридцатиградусном морозе — не экзотика, а регулярное удовольствие, кто учился болеть с детства, отнюдь не разбираясь, кого представляет “Локомотив”, а кого “Водник”, кто прослеживал эволюцию великих команд, их болельщиков и покровителей, — одним словом, русским историкам.
Н.А. Богомолов
Благодарим книжный магазин “Фаланстер” (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27; тел. 629-88-21, 749-57-21) за помощь в подготовке раздела “Новые книги”.
Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии и сборники статей по адресу: 129626 Москва, а/я 55. “Новое литературное обозрение”.