Опубликовано в журнале НЛО, номер 6, 2005
ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ
Ревазов Арсен. Одиночество-12. Роман. — М.: Ad Marginem, 2005. — 496 с.
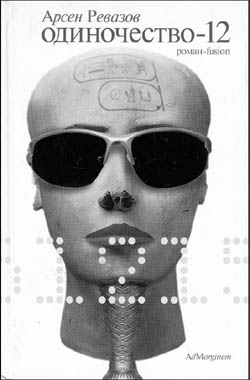
Приключенческая литература последнего десятилетия уходит корнями уже не в романы Жюля Верна или Александра Дюма и даже не в легенды о короле Артуре, а в блокбастеры и компьютерные игры-квесты. Которые, конечно, сами основаны на том же Артуре Конан Дойле, как и на всяких сказках и легендах, но все же слегка видоизменились, путешествуя от чистого приключения к кинематографическому action и спецэффектам. Современная приключенческая литература не может позволить себе быть скучнее фильмов и компьютерных игр.
«Постквестовые» сюжеты становятся все более механистичными. В главном бестселлере начала ХХI века — романе Дэна Брауна «Код да Винчи» — труп, найденный в начале книжки, указывает на картину, где обнаруживается еще одно указание, отсылающее еще куда-то. Герою остается ходить из одного места в другое и собирать все эти улики в строгой очередности — в точности как в компьютерной игре, где невозможно заметить сразу третью надпись, не увидев две первые. К тому же герой приключенческих книг становится все более неуязвимым: в некоторых «экшнах» у каждого персонажа есть несколько жизней, а любое игровое действие можно сохранить и сделать вид, что смерти не было. Это влияет не столько на сюжет, сколько на самоощущение героя: передвигаться по плоскости романа ему становится все легче, особого страха он не испытывает даже в самых темных закоулках, а злодеи, которых он встречает, обязательно загадают ему какую-нибудь загадку, прежде чем попробовать убить. Как ни странно, такое мироощущение ближе скорее к мифологической архаике, чем к временам тех же Верна или Дюма.
Благодаря глобализации современные приключения становятся более стремительными и однообразными: там, где герой «Трех мушкетеров» с трудом преодолевал расстояние между Парижем и Лондоном, загоняя лошадей и встречая засады на каждом шагу, отчего пространство, казалось, сопротивляется проникновению (эта особенность перемещений героев чувствуется уже в «Одиссее»), герои романа «Информационная крепость» того же Дэна Брауна с легкостью перемещаются из Испании в США, и пространство при их появлении не пружинит и не расширяется, а равнодушно встречает их теми же закусочными и теми же нерешенными задачами. Для того чтобы придать повествованию глубину, приходится вводить в сюжет принципиально иное время, древнюю историю — неважно, времена Христа, Вавилон или Древний Египет, — увязывая архетипические истории с современностью и представляя дело так, что рядом с нашим привычным и изученным миром существует нечто неизученное и могущественное — восходящий к доисторическим временам мировой заговор, например. В таких ходах не было особой необходимости, когда любые джунгли скрывали сотни тайн, а вокруг света можно было объехать не меньше, чем за 80 дней, да и то с чудовищными усилиями.
Роман «Одиночество-12» Арсена Ревазова, успешного московского бизнесмена, является чистым образцом описанного жанра «постквест». Герой, владелец небольшого рекламного агентства Иосиф, пытается расследовать страшную смерть своего друга — ему отрезали голову, и она пропала неизвестно куда. Одновременно с этим к Иосифу приходит странный заказчик с выбритым на затылке треугольником, требующий, чтобы принадлежащее герою рекламное агентство разместило во всех возможных средствах массовой информации несколько слов и ничего вроде бы не значащий ряд цифр, и запрещает под страхом смерти сообщать кому-либо о заказе. За каждое упоминание какого-нибудь из этих слов в СМИ агентство получит некоторую сумму денег. Ни эти слова, ни цифры мы называть по возможности не будем, потому что давно уже подозреваем, что такой заказчик у самого Арсена Ревазова действительно был, заказ этот разместил и Ревазов, как хороший рекламщик, написал книгу, о которой и идет речь. В каждой рецензии на эту книгу невозможно не упомянуть хотя бы несколько из заказанных слов — вот задание и выполнено (см., например, мою рецензию на этот роман в журнале «FHM» — 2005. № 8).
Разумеется, герой немедленно рассказывает обо всем своим близким друзьям, они тут же составляют нечто вроде сообщества трех мушкетеров, расследующих смерть четвертого, и называют себя «концессией “Одиночество-12”», сразу же упоминая роман Джозефа Хеллера «Уловка-22», чтобы никто не подумал про автора плохо. Тут же, конечно, начинается свистопляска: Иосифа и его друзей мотает то в тюрьму, то в сибирский монастырь, то на Хоккайдо, то в Израиль, то в Ватикан; в процессе мотания выясняются различные подробности тайны, и наконец вырисовывается глобальный заговор некоего «братства хатов», поклоняющихся египетской царице Хатшепсут и устроивших чудовищные мировые катаклизмы, включая Вторую мировую войну и Холокост. Герой, разумеется, становится настоящим героем, то есть человеком, без которого братство обречено погибнуть, а его друзья оказываются настоящими друзьями, то есть людьми, которые всегда спасут или хотя бы попытаются спасти и ради которых можно отказаться даже от мирового господства или чего-нибудь в этом роде. Финал у романа получился довольно эффектным: герой грозит хатам — точнее, очаровательной, но ужасной внутри хатке — заколоть себя жирандолью, если они сделают хоть что-нибудь плохое его беременной гeрл-френд и оставшимся мушкетерам. Но больше ничего голливудского в финале не происходит, рассказчик получает дозу некоего средства и скатывается в наркотический обморок 1.
Сам Ревазов назвал свое повествование «роман-fusion», то есть роман, в котором «понамешано». В интервью газете «Ex Libris НГ» он говорит: «Я же могу <…> от себя добавить только концепцию фьюжна. Отметить цитаты, скрытые и явные — от Гомера до Умберто Эко, включая Мураками, Переса-Реверте и других читанных мною авторов. Это действительно некий сплав, джазовый такой — когда техник много»2. В «Одиночестве», помимо чуть ли не прямого заимствования сюжета из «Маятника Фуко» Умберто Эко, есть цитаты и из песен, от Гребенщикова до Сезарии Эворы, и из анекдотов (с честными ссылками на сайт anekdot.ru); даже призыв о помощи девушка героя передает с помощью песни «Битлз». Но общее впечатление от романа — скорее как от странички виртуального дневника на сайте livejournal.com, чем как от джазового произведения: разные ингредиенты этого фьюжна весело сосуществуют в одном пространстве, не конфликтуя, но и не взаимодействуя напрямую. «Фраза “Вы что, все сговорились?” была из неприличного анекдота и поэтому неуместна в этом разговоре. Я испугался, не обидел ли я Лилю. Лиля не заметила контекст». Все эти составляющие «романа-фьюжна» как раз и создают контекст, или фон с ярлычком «современность», давая читателю возможность соотнести себя с рассказчиком: ненавязчивый саундтрек, музыка, которую слушаешь в процессе чтения. Ту же функцию выполняют и второстепенные персонажи книги, многие из которых являются реальными людьми. Так в книге появляется, к примеру, Антон Носик — журналист, создатель и редактор новостных сайтов и вообще фигура, весьма известная в российском Интернете. С одной стороны, такой прием позволяет раскрутить роман в среде общих друзей — тех, кто купит «Одиночество-12», узнав, что «там и про Носика есть». С другой стороны, это приближает жанр книги к «новому журнализму», литературе как бы необработанного, прямо пересказанного факта. Носик, кстати, уже появлялся в качестве героя современной литературы под своим собственным именем, — в частности, в романе израильского русского писателя Аркана Карива «Переводчик». А живущий в Иерусалиме Аркан Карив, в свою очередь, является одним из второстепенных героев «Одиночества-12» (его жилище, скорее всего, описано в романе с натуры). Узок круг этих революционеров. Сам же Ревазов вовсе не считает живых людей, появляющихся на страницах его романа, ни признаком «нового журнализма», ни попыткой заигрывания с читателем. «…Внелитературные реалии должны быть в живой литературе, это необходимо, — говорит он в интервью сайту “Полит. ру”. — У Данте в “Божественной комедии” половина персонажей — живые действующие люди (или недавно умершие), с которыми Данте дружил, полемизировал, некоторым мстил»3.
Кто может быть читателем всего этого? Может быть, после сказанного это прозвучит неожиданно, но роман Ревазова рассчитан не совсем на ту аудиторию, которая любит Дэна Брауна. Читатель Ревазова ценит скорее Брайана Истона Эллиса, Кристиана Крахта, Чака Паланика или, в крайнем случае, новомодного российского писателя Владимира Спектра: это яппи, добившийся карьерного успеха, но являющийся носителем экзистенциального ужаса. Для потребителей однообразных мистических триллеров Ревазов — слишком яппи, они не поймут, почему герой «был бы счастлив очутиться в доме египтянина времен Хатшепсут. Просто, чтоб посмотреть, какая там мебель», и оценить пассажи вроде: «На самом деле, мой кабриолет VW Beetle 1969 года был шикарен. Прост, красив, надежен и недорог в обслуживании. Никому в голову не могло прийти, что владелец PR-агентства ездит на нем из экономии. Просто у него (владельца) такой стиль. Немного вудстоковский. Sex. Drugs. Rock&Roll». Им будут только мешать цитаты из Иосифа Бродского и Михаила Генделева — в триллерах такие приемы призваны показать, что герои — люди образованные; для Ревазова же эти имена — просто часть его картины мира, как «ролекс» для героя романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат».
Однако Ревазов гораздо более человеколюбив, чем все вышеупомянутые «писатели поколения икс»: его героям некогда отвлекаться на экзистенциальный ужас, потому что автор вовремя подсовывает им действительно серьезные проблемы вроде любви, дружбы и борьбы с мировым злом.
Вообще же «Одиночество-12» можно назвать идеальным блокбастером, и с точки зрения прекрасных продаж, и с точки зрения структуры. Это набор кирпичиков, стандартных ходов, из которых выстраивается сюжет, а музыка, баечки, люди — клей, на котором держится текст. Но ведь и современному читателю, пережившему и постмодернизм, и прочие посты, уже все равно, кто автор каждого из кирпичиков — Мураками, Гомер или Ревазов. Гораздо важнее фон, на котором эти кирпичики громоздятся один на другой.
Мистический триллер, живая литература, новый журнализм, детектив-караоке, постквест — нанизывать определения можно бесконечно. Но есть жанр, который подходит «Одиночеству-12» больше всего: пионерские байки после отбоя. Рассказчик начинает с того, что пугает друзей страшным обезглавленным трупом, а потом, заинтриговав, начинает разворачивать сюжет, по дороге вплетая в него все, что недавно прочитал, увидел и услышал. Более того, некоторые из лежащих в той же палате пионеров тоже попадают в рассказываемую историю, просто потому, что они его друзья и им тоже было бы интересно поиграть в шпионов или в войнушку. Синие ночи взвиваются кострами, яппи, дети рабочих, внимают рассказчику, эра светлых годов все ближе и ближе, и фонарь из коридора — он же костер лесных разбойников — озаряет юные лица нездешним светом.
Ксения Рождественская
ПРУССКИЙ ШАНСОН
CD, «Cirque du Pevzner» Вадима Певзнера — «Вещь», 2003, Bad TaStE
«…Без катастрофы нет стиха, не бывает
стиха, который бы не открывался, как рана,
и который бы не ранил…»
Жак Деррида “Che cos`e la poesia”
«Прусским шансоном» Певзнер из иронических, вероятно, побуждений, обозначил жанр, в котором теперь трудится. Парадоксально – но интуиция не подвела, поэт не промахнулся. Только не «теперь», а лет 25 назад. Прусский шансон – подходящее определение для раннего Певзнера.
…и сухая костлявая дама
с попугаем в уродливой клетке
проплывет как торец нотердама [4]
в наших снах с димедрольной таблетки…
«никольском»
или:
…и видят хромовые боровы
что на витринах на майорова
что на витринах на майорова
бельишко выставлено в ряд
а на витрине пояс грация
а на витрине комбинация
и небо небо петроградское
в ней отразилось сединой…
«майорова»
В сущности, это отчасти ни что иное, как немецкий ( кино- и живописный) экспрессионизм. По пластическому рисунку, ракурсам и резкой светотени. Бедный сюжет песен (не поддающийся пересказу) почти не имел значения. Художественность достигалась монтажом, сменой ближних и дальних планов, гротескной изобразительностью. Лирическое «Я» выражалось не впрямую, не от первого лица (типа – «мне скучно» или «я вспомнил»), а экспрессией речевого потока, бурными эпитетами, острым характером взгляда на вещи. Позиция была последовательно байроническая, отрицающая благость не столько «совка», сколько мира вообще.
тоска тоска и лист печальный
плывет во мгле первоначальной
и мокнет шлак
дожди дома чужие лица
червяк в малиннике плодится
и жизнь прошла
«дачный вальс»
«Червяк в малиннике плодится…» — вот изнанка пасторали.

Одновременно – это была песня-поэзия необыкновенно заразительная. Радость и творческая полнота проживания заключались в самом пении-говорении, в словесной игре, в напоре метафор, фактуры и ритма. В свободной скоростной смене регистров – от убийственной иронии к лиризму, от лиризма – к абсурду. Богемно-«отвязанный» текст с грохотом низвергался на читателя-слушателя, словно ливень по ночному водостоку.
При этом надо учесть, что музыкальная составляющая песен действительно более всего была близка тому, что теперь именуется «шансон» — вальсы, марши, романсы, цыганочки, блатной перебор или щипок. При неочевидной оригинальности мелодической стилистики произведение вкупе производило могучее впечатление, в том числе и из-за исполнения – из-за незабываемой страстно-утробной интонации.
Эти песни оказали прямое или косвенное влияние на российский рок. На авторскую песню. На Псоя Короленко, Гарика Сукачева, Александра Башлачева. На Михаила Щербакова, Михаила Кочеткова, Дмитрия Строцева.
Их автору было 18 — 20 лет.
Почти двадцать лет Вадима Певзнера не было видно и слышно. И вот – новые песни.
лично у меня
есть такая вещь
это не понять
если видеть вещь
лично у меня
есть такие дни
это ни про что
просто у меня
это протокол
только без перил
лучше вымыть пол
и не видеть бил
и забить на бол
и не помнить век
это как кобол
или как побег…
«вещь»
Заголовок – здесь единственное значимое слово. Непознаваемая «вещь», «вещь в себе» — синоним тайны бытия и небытия. Остальное – «вода». Вот что пишет про эту воду сам автор:
«…Смысл», если это можно назвать смыслом, определяли только несколько слов из всей песни. Даже не обязательно слова – это могли быть междометие или глагол, эпитет или предлог, вздох, интонация, перпендикулярная «смыслу»… Весь же остальной текст независимо от грамматической, «идейной», сюжетной, аллитерационной и т.п. структуры оказывается автоматическим контрапунктом. В моем понимании «весь остальной текст», то есть 99 процентов всего словесного материала – есть просто ВОДА, другими словами – пение, говорение НИ О ЧЕМ: не о главном, не о существенном, находящемся за полями больших экзистенциальных откровений. Иногда, кстати, контрапункт может составлять все 100 процентов текстового материала песни…» [5]
Песня «Вещь» — тот самый 100-процентный случай. Можно прочитать этот текст как определение некоей наиболее общей «вещи» — через приписывание ей заведомо абсурдных свойств, т.е. в конечном счете через отрицание всех ее свойств вообще. Апофатика.
Можно представить, что это словесная джазовая импровизация. Но это не импровизация. На концертах Певзнер поет, глядя в бумажку.
Вот еще текст:
а песня есть проект
в котором нет объекта
а только ближний вектор
и дальний интеллект…
…а песня это темень
в которой много денег
но сколько не ис-чи
не подобрать ключи…
…а песня это блеф
в котором есть кино
в котором дядя пев
которому дано…
«песня»
Тут уже можно собрать осколки смыслов. Например: к тайне (и денежной в том числе) ключа не подобрать, или песня (или шире – художественная деятельность) – проектирование пустот (вспомним «Четвертую прозу» Мандельштама). Есть даже намек на биографическую подкладку – автор профессионально занимался кинематографом.
Имеется соблазн назвать эти новые песни «симулякрами». Ведь это действительно не столько песни, сколько «песни». Фантомы песен, подобия. Еле мерцающий образный ряд, призрачное ментальное и душевное движение. Ни один текст (ни музыкальный – мелодии более чем просты, монотонны как шарманка; ни интонационный – Певзнер отказался от экспрессии, поет теперь ровно-нейтрально; ни вербальный) не явлен в становлении, в динамическом неравновесии. Вещь – внутренне статична, длится механически.
Однако – вот еще:
на грани полного покоя
в другую сторону трубя
я приезжаю в бологое
внутри себя внутри себя
отполированные рельсы
и невидимая стена
я не откидываюсь в кресле
а чемоданы ставлю на…
…как посетителю кофейни
географического сна
мне одинаково до фени
и одинаково до дна
такой приход с кофейной гущи
что лучше света не ищи
теоретически могущий
в любую сторону души…
«бологое»
«В любую сторону души» — почти точная цитата из Б.Окуджавы. И это не случайно – музыкальная фраза в начале каждого куплета – калька с «Надежды маленький оркестрик»: «Когда внезапно возникает…»
Все же именно у этой песни – есть понятный, хоть и не сразу очевидный подтекст. Для каждого, жившего на два города (Москва и Питер), Бологое – пункт равновесия, точка выбора (или невыбора) пути. То есть – обитель свободы.
…вокруг космическая воля
на электрической сети
в любую сторону от поля
мне одинаково идти
«бологое»
Неуловимая свобода – вот центральная ценность, вот тема зрелого Вадима Певзнера. Попытка найти неуязвимую для окружаещего мира «Внутреннюю Шамбалу» — «Бологое», хотя бы.
Бард больше не играет сам на гитаре, диск записан с музыкантами – в театрально-цирковой, порой джазовой или рэповой стилистике. Автор ставит песню как вокальную пантомиму, как спектакль – абсурдный, даже макабрический, но неизменно бодрый. И никогда — «грузящий».
Можно предположить, что ранний, экспрессионистский Певзнер есть и в сегодняшем – так сказать, в опосредованном, «снятом» виде. Подобные метаморфозы характерны, кстати, для художников-модернистов. В поздней абстрактной геометрии обычно скрыта ранняя фигуративная живописность. В горизонтально-вертикальном Мондриане заключен и начальный его период – растительно-древесный. (Пример взят для наглядности, а не для…)
Иное дело, что в песне такой опыт, кажется, проблематичен. Песня – искусство непрерывно живое и удерживает к себе внимание не «снятыми» эмоцией и нарративом, а кое-чем посущественней. Певзнер отказался от метафорического и пластического дара, от лиризма и гротеска, как от пройденного этапа. Но новые его песни, хочет ли он этого или не хочет, — существуют для слушателя за счет его же собственных ранних вещей, именно ими обеспечено доверие к автору. Именно там осталась катастрофичность и «раненность». Нынешняя свобода выкуплена дорогой ценой.
Но полюбить мы успели того, двадцатилетнего…
P.S. Ради корректности следует сделать уточнение. «Мы» в предыдущем абзаце – это автор этих строк и несколько его ровесников. А существует немалый контингент продвинутой молодежи, для которого Вадим Певзнер начался только теперь, с чистого листа. И, судя по отзывам, для этой аудитории сегодняшний Певзнер – явление самодостаточное, наполненное чувством и обжигающим смыслом. И старые песни – в обратной перспективе – только подтверждают первое впечатление.
Что сказать? Дивлюсь интуиции российской публики и спокоен за художника.
P.S.S. Биографическая справка:
Вадим Певзнер. Поэт, кинорежиссер. Родился в Москве в 1961 году. С начала 80-х жил в Париже, обучался в Сорбонне. В США с 1990 года. Закончил аспирантуру Чикагского Института Искусств. Самиздатский сборник «Заметки Ни О Чем», CD авторских песен «Дачный вальс» (2000). Ныне живет в Москве и Нью-Йорке.
ВИДИШЬ ЛИ, ЧИТАТЕЛЬ?
Голубович Ксения. Исполнение желаний. — М.: Логос; Степной ветер, 2005. — 320 с.

Если удастся заметить буквы на оборотной стороне обложки — зеленые на зеленом фоне, — неясная вне контекста цитата сообщит, что «эта книга закончена». Если открыть «Вступление», можно обнаружить несколько риторических обращений к «читателю», которые вряд ли кому-нибудь придет в голову принимать на свой счет: «Видишь ли ты, читатель, как я — густую тьму, быть может, пару-тройку фонарей, а еще — руки <…>. Это руки моего деда» (с. 8). Если бегло пролистать страницы, «Исполнение желаний», скорее всего, покажется сложным или даже плохо пригодным для чтения текстом, где общеупотребительные слова — «желание», «причина», «укол», «вещь», «имя» — неотличимы от философских терминов.
Иначе говоря, здесь собрано все, что противоречит сегодняшним нормам «читательского вкуса». Расхожий «читательский опыт» побуждает, недолго думая, отнести книгу Ксении Голубович к герметичным повествованиям, жанр которых не назван, смысл затемнен, но мотивации прозрачны: самоописание, или, в совсем негативной модальности, — самопрезентация. Вообще личная история, история семьи и, в особенности, история собственного детства в последнее время становятся одним из самых востребованных ракурсов рассказывания (будь то беллетристика, эссеистика или интернет-дневник), личные свидетельства о недавно исчезнувшей, ушедшей в прошлое повседневности наделяются особой значимостью и тщательно архивируются, однако автобиография как таковая остается преимущественно жанром «публичных фигур», «писателей со сложной судьбой» и «любовниц великих актеров». Незавуалированный рассказ о себе требует дополнительных легитимаций и особого статуса — особого права рассказывать. («Авто-биография выводит из себя. Возмущает ум, вкус, чувство»6, — написал о многолетнем предмете своих исследований Филипп Лежен).
«Исполнение желаний» устроено так, что в нем нельзя не распознать автобиографию, более того, автобиографию «высокую», почти не защищенную самоиронией. В той системе координат, которая обычно примеряется к этому жанру, филолог и переводчик Ксения Голубович, конечно, была бы названа «молодым» писателем. Между тем «Исполнению желаний» уже предшествовала если не «автобиографическая», то, во всяком случае, тесно связанная с семейной историей книга того же автора — «Сербские притчи»7.
В противоположность «Сербским притчам», заметкам о путешествии на родину отца, «Исполнение желаний» привязано к домашнему пространству, а осью семейной истории назначается материнская линия. Хотя по ходу повествования коротко упоминаются родственники-черногорцы, образ семьи здесь в самом деле не ветвист, а линеен: прапрабабушка, прабабушка, бабушка, мама. Особое — важное и одновременно неустойчивое — место в этой генеалогической схеме занимает дед, отец матери. К середине книги пространство дома неожиданно расширяется, к комнатам членов семьи добавляются комнаты соседей по коммунальной квартире. Несколько страниц спустя история перемещается на лестничную клетку, движется по лестнице, настигая соседей снизу; наконец, рассказчица-героиня предпринимает несколько вылазок за пределы домашней территории — прежде всего, в Детский Сад, который тут же начинает казаться сложноустроенным двойником дома, «домом наоборот», затем путешествует по нескольким московским квартирам, а после — на Черное море (в масштабах «Исполнения желаний» — на край света): «Дом, или город, чье имя — Москва, кончается у самого Черного моря… И все, что в нем есть, омытое и обкатанное тысячью волн, лежит камнями на берегу, сложенное таинственным строителем» (с. 326).
К этой книге больше всего подошел бы эпитет, обычно применяемый к научным исследованиям, — она «методологически корректна». Но, компонуя детские воспоминания в строгом соответствии с идеальными моделями идентичности и социализации (от взаимодействия с «ближними» — к восприятию «других» и «дальних»), различая голоса, из которых складывается запутанная сценография памяти («бабушка говорила мне», «дед рассказывает»), начиная повествование с уже вполне стандартного для автобиографии «психоаналитического» сюжета о детской травме («Моя бабушка всегда говорила мне, что родилась я только благодаря ей» [с. 7]), Ксения Голубович занята далеко не только ре-конструкцией собственного — для методологической корректности следует сказать «авторского» — образа. Как ни странно, такой реконструкции, попыткам увидеть себя глазами «значимых других» отводится место довольно скромное, скорее служебное. В центре истории — а «Исполнение желаний» состоит из нескольких, прочно связанных между собой (об этом дальше) историй — всегда оказываются «другие».
Процесс рассказывания превращается в поиск кодов, ключей, которые позволили бы если не «понять», то, во всяком случае, удержать, сохранить воспоминания о близких. Имя, жест, манера обращаться с предметами, цвет штор в комнате — любой атрибут здесь может быть признан кодовым и развернут в длинную цепь метафор и интерпретаций. Физические недуги становятся ключевыми атрибутами особенно часто: больное сердце деда, горб прабабушки, «инфантильная» матка матери, дрожащие руки соседки Наташи. Любимые люди в книге Ксении Голубович уязвимы, чужие и нелюбимые — непроницаемы.
Этот способ воспринимать и описывать повседневное специалисты по английской литературе, возможно, связали бы с мистическим символизмом Йейтса — фигуры весьма неслучайной для автора «Исполнения желаний»8. Мне, однако, хотелось бы акцентировать другой ракурс столь настойчивой интерпретации повседневного опыта — ценностный. Воспоминание здесь сопряжено с расстановкой отчетливых ценностных ориентиров, которые и соединяют разнообразные «семейные» или «домашние» истории в общий текст, более того — сцепляют разрывы, обнаруженные в «общей», «большой» истории. Такие ориентиры в книге Ксении Голубович наделены двойственной природой, представляют собой симбиоз физического пространства и социальной метафоры, наиболее значимые из них — цвет (бесцветность) и лестница, вертикаль (хаос, беспорядок, смешение иерархий).
В первом «томе» (многоступенчатая рубрикация книги тоже сообщает об особой значимости иерархий — относительно небольшой текст делится на тома, части и главы) яркость и разнообразие красок вполне традиционным образом отождествляются с «жизнью», «сложностью», «красотой». Личные истории близких выстраиваются как истории тяжелого, чаще трагического сопротивления «тьме» или, что почти то же самое, «белизне» смерти. Повествовательница и главная героиня книги наблюдает за тем, как «тьма времен» прорывается через открытый рот прабабушки и рассказы о слишком далеком прошлом, прошлом «дореволюции»: «…На лице с пением открывалась кромешная тьма, — сродни той, что спала за скрипящими дверцами шкафа, — Зизи зевала. Вся она, все ее тельце <…> преображалось в огромный, не по росту зевок, и тьма изливалась наружу, как если бы маленькое лежачее тело Зизи и было тем последним, что еще отделяло нас от огромной и тихой ночи, когда всем нам пора будет спать… В той ночи, в ее тьме, скрывалось многое, чего нельзя было увидеть среди взрослых на свету <…> И постепенно <…> из нее начинали выходить “они” — старинные рассказы о прошлом, таящемся во тьме времен…» (с. 41—42). Бабушка вступает с «тьмой» в бытовое соглашение, обороняя рубежи домашней территории, охраняя семейную повседневность и от утрат, и от «излишка»: «С этой бездонной тьмой, прятавшейся, по моему мнению, в шкафах, в серванте, под обеденным столом, а еще в чулане — в местах, где хранились “вещи”, — бабушка будто все время вела свои переговоры, заключала сделки» (с. 118). Дед проводит молодость и зрелость под «черно-белым небом» — этот символ не знающей компромиссов принципиальности легко оборачивается символом «противоречия» и в конце концов терпит крах «в мире, где во имя общего счастья больше нельзя было доводить до совершенства и до полного сверкающего безумия ни образы добра, ни образы зла» (с. 94). Наконец, многоцветности противоположно то «мертвое настоящее», от которого героиню вовремя «прикрывает» мать: «сгоревшее», «посыпанное пеплом растраченного времени», «бессмысленное», «невозделанное» место, где смешаны иерархии, а «тьма» (или «боль») «превратилась в нечто, без чего мир уже не существует» (с. 195).
Во втором томе «Исполнения желаний» к этим значениям добавляются новые. Многоцветному дорефлексивному миру «вещей» противостоит мир «имен», «смыслов» — мир письма, черно-белый или бесцветный («Замечали ли вы, что у синей шариковой ручки как будто и нет цвета?» [с. 244]). Персонажи, имеющие дело с теми или иными атрибутами письма, оказываются хранителями «законов», «иерархий», смешение которых угрожает хаосом, бессмысленностью, разрушением. Во всяком случае, так видит своих соседей по коммунальной квартире героиня книги: наверху иерархической лестницы — старая учительница чтения, внизу — вор в законе, усеянный татуировками («чернильной росписью») и присылающий из зоны длинные письма. «Столь несхожие, столь противоположные друг другу, Юрка и Мариванна точно вносили и удерживали в квартире рискованный <…> перепад между верхом и низом, некое двуполое различие между жизнью и смертью, тюрьмой и домом» (с. 239). Именно в бесцветном, схематичном, безупречно чистом и невероятно одиноком мире смыслов обитает тот самый «читатель», к которому Ксения Голубович обращается столь старомодным образом на первых страницах книги: «И тогда я поняла, что печатные буквы <…> — это каждый раз один и тот же отдельный человечек, который жестами показывает, какой звук надо сказать <…>. Иногда мне казалось, что этого черного человечка-смысл зовут Я <…>. Маленькое “я” жестикулирует перед тем, кто смотрит на него с высоты своего роста, одиноко сидя на высоком стуле или табурете над книгой, кто сидит, замерев, очень высокий, склоненный над страницею, как потолок над комнатой, тихо и осторожно, один — совершенно один. Это — ЧИТАТЕЛЬ» (с. 219—222).
В конечном счете письмо воспринимается как результат смыслонаделения, окультуривания, «возделывания» тех областей опыта, которые связаны с «болью», «тьмой», «смертью». Акцентируя писательское желание соединить схематизм имен и многоцветность вещей, Ксения Голубович пытается показать, как это желание может быть исполнено, как столь непопулярная в последнее время процедура означивания, наделения смыслами способна быть не только сложной, но и живой. Оживление мертвого и обретение утраченного — сюжеты, которые используются в «Исполнении желаний» особенно часто. Такие сюжеты здесь предельно конкретны, практичны, почти технологичны. Рамкой действия при этом непременно оказывается «настоящее» — еще одно значимое, пожалуй, самое значимое для Ксении Голубович слово. «Настоящее», «hic et nunc» — еще «невозделанное», еще «бессмысленное» — остается отправной и конечной точкой повествования о прошлом, ради которой следует отбросить все, «кроме по-настоящему живого» (с. 205). Модус автобиографии нужен Ксении Голубович именно для этих целей. Имитируя вдохновенное «письмо для себя», которое обращено разве что к условному «читателю», одинокому бумажному человечку, бледной копии пляшущих на белом фоне букв, эта книга так или иначе попадает на многоцветную, «реальную», «нефикциональную» территорию узнаваемых вещей и общих воспоминаний.
В этом смысле разговор об «Исполнении желаний» требует «лирических отступлений»: не случайно Ксения Голубович предпосылает основному повествованию «лирическое отступление» — форму не только архаичную, но и весьма неожиданную для книги, которая целиком написана в модальности «мне вспоминается». Мне вспоминается сцена из странноватого фильма времен ранней перестройки — второстепенный герой отговаривает главную героиню от самоубийства: «Разве тебе не интересно, что будет дальше?» Не помня подробностей, я знаю, что этот вопрос каким-то сложным образом связан с названием фильма — «Новая Шехерезада». Собственно, усталость от выстраивания личной истории (и, как следствие, — утрата интереса к рассказыванию историй «чужих»), бессмысленность прошлого (даром что его яркие символы старательно архивируются) — это тенденции, которые «Исполнению желаний» абсолютно чужды. Эта книга очень успешно притворяется непригодной для чтения. На самом деле тебе, читатель, все время будет интересно, что дальше.
Ирина Каспэ
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО БАНАЛЬНОСТИ
Файбисович С. Рим. Разговор. — М.: Время, 2005. — 320 с.
На Рим за меня посмотри — тебе он доступен.
Овидий. «Элегии». Пер. С. Шервинского
Главная и почти непреодолимая трудность рецензирования книг Семена Файбисовича заключается в том, что о них практически невозможно написать ничего, что уже не было бы написано в самих этих книгах. Только дочитаешь до чего-нибудь, подлежащего внятному определению, — сквозного ли образа, любимой ли автором классической риторической фигуры или иному элементу конструкции текста, — как в следующей же фразе этот же автор обращается прямо к читателю, а скорее даже, именно к критику: а вы, мол, сообразили, что я всё про то же? А обратили внимание, как я тут структурку-то развернул, «с тезой и антитезой, и даже синтез был — как положено, если заметили»? Даже попытки вычленить из текста личность автора и отделить ее от образа повествователя им же — автором? повествователем? — опережаются, иногда и со ссылками на предыдущие, наверняка тем же критиком и прочитанные тексты, подписанные тем же именем: такой уж я, Семен Файбисович, большой и толстый, неврастеник и сластолюбец, знаменитый художник и доморощенный философ — в общем, личность вполне банальная, хотя и симпатичная.

В этом настойчивом, повторяющемся, и явном, и скрытом утверждении собственной банальности прячется единственная зацепка, позволяющая не поддаться на эту трехсот-с-лишним-(вместе с иллюстрациями)-страничную провокацию, не скомпоновать собственный текст, а вместе с ним и собственное мнение о книге из готовых, с издевательской услужливостью подсунутых автором формулировок.
Иллюстрации упомянуты именно здесь отнюдь не для красоты слога. Их, иллюстраций — а точнее, больших, прекрасно напечатанных авторских цветных фотографий, — в книге много. Правда, распределены они, на первый взгляд, не вполне логично: то целый тематический блок вполне документальной фотосъемки, то — подборка очевидных фотомонтажей. Визуальные работы в книге то существуют сами по себе, то оказываются иллюстрированным оглавлением (!), которое еще нужно догадаться воспринять именно как оглавление, — а то и вовсе в виде суперклассических книжных фронтисписов и распашных шмуц-титулов. И подбор самих фотографий, что по сюжетам, что по художественному качеству, кажется не менее удивительным: от захватывающих дух видов на купола и колоннады до раздавленной консервной банки, от ошеломляюще острого ракурса и предельно лаконичного кадра до банальнейшей, во всех рекламах и путеводителях повторяющейся «видовой точки». Да и что в наше время может служить лучшим символом банальности, чем вспышка «мыльницы» в Вечном городе — или в любом из других вечных городов?
Но даже и этот последний сюжет, как выясняется, в надлежащем месте автором уже рассмотрен, отработан и отрефлексирован с присущей ему дотошностью и в излюбленном им духе псевдоиронии и квазиэротизма. Точно так же и сами иллюстрации — все до единой — постепенно, в продолжение всей книги, получают свои объяснения, предыстории, трактовки и чуть ли не экспликации — иногда совершенно неожиданные. Все, при первом перелистывании казавшееся случайным, лишним или претенциозным, — серия фотоштудий на тему мотоциклов, неведомая античная статуя в откровенно непристойном ракурсе или до слез знакомый из курса истории искусств фасад замка Св. Ангела — все в конце концов оказывается безукоризненно точно, без зазоров пригнанным к тексту, более того — становится частью самого текста, что, как известно, в книжном искусстве есть уже высший пилотаж. Даже упоминавшийся уже цикл фотомонтажей оказывается не примитивным украшательским фокусом, а результатом довольно любопытного психологического эксперимента; а ошеломляюще безвкусный кадр с полупрозрачной фигурой, блуждающей по закатному небу, оборачивается столь же ошеломляющим, но вполне достоверным документом, фиксирующим безусловный факт: полет огромных птичьих стай над вечерним Тибром.
Фактов этих набирается так много, что, хотя и с известным риском, книгу можно использовать даже в качестве путеводителя. Это был бы не худший из существующих путеводителей: как бы автор ни упражнялся в самоиронии, он не в силах полностью исключить из текста ни своей топографической чуткости профессионального архитектора, ни пристальности взгляда художника-гиперреалиста, ни всего культурного багажа принципиального и последовательного постмодерниста. Но, в отличие от классических путеводителей, эта книга ни в коем случае не предназначена для выборочного чтения. Читать ее следует подряд и внимательно, и не только затем, чтобы уловить связь между текстом и иллюстрациями, но и для того, чтобы все это, вместе взятое, рассортировать. Процесс сортировки, правда, может затянуться почти до бесконечности: даже внутри одной фразы рядом с вещами полезными и интересными будут запрятаны очевидные и неочевидные цитаты, грубые шутки и тонкие ассоциации, стандартные восторги и ядовитые колкости, предназначенные, должно быть, одному-единственному, никому, кроме автора, не известному читателю. Но зато здесь же с книгой может произойти и еще одно, еще более принципиальное превращение. Если вычесть все цитаты и банальности, все, очевидно доступное вычитанию, — останется то, что и было на самом деле: конкретный человек и конкретный город, да еще и в конкретных, совершенно не туристических, не идиллических обстоятельствах. Начать хоть прямо с названия. Ведь «Рим. Разговор», кажется, отсылает к строке «Поговорим о Риме — дивный град»? Да вовсе не обязательно. Может быть, более точными для характеристики книги были бы другие строки того же автора: «Рим далече — / И никогда он Рима не любил». Героем книги оказывается настоящий Рим, любви не подлежащий и в любви не нуждающийся, действительно вечный и абсолютно самодостаточный. Сколько о нем ни рассказывай, какими словами его ни описывай и какие картинки ни демонстрируй — это ничего ему не прибавит, ничего не убавит; а значит, Рим — это идеальный предлог для разговора, а разговор о Риме — идеальная возможность говорить обо всем, кроме Рима. И в первую очередь, разумеется, о самом себе. Чем автор, собственно, и занимается на протяжении всей книги.
Не он первый, конечно. Но и об этом он, разумеется, тоже написал в своей книге «Рим. Разговор».
Елена Герчук
ВЕРЛИБР В САДУ
ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Лебедев А. Скупщик непрожитого: Избранное. — М.: Текст, 2005. — 185 с.
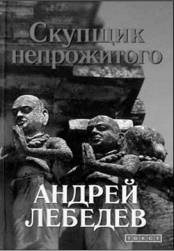
Андрея Лебедева, живущего и преподающего в Париже сочинителя, автора четырех книг, составителя разнообразных антологий и талантливого блогописца9, критики давно и стабильно привыкли сравнивать с Сашей Соколовым — в приведенных в конце книги выдержках из рецензий это имя возникает наиболее часто. Следом за Соколовым идут Набоков, Кортасар и Виан. «Соображая на четырех», эти авторы, по мнению рецензирующих, и инициируют феномен прозы Лебедева.
Не будем пока деконструировать это сравнение (более чем лестное во всех его частях, но справедливое, по нашему мнению, скорее всего, применительно к Виану), а посмотрим, как относится к нему сам автор «романа-пурги, феерического twist & shout», то есть как Лебедев обозначает своего «Скупщика». Книга начинается так:
— Так кто он: Бог или дьявол? — сдвинув брови на восток, спросил Папарадзе.
— По новейшим сведениям, представитель общества с безграничной безответственностью «Четыре с половиной», — пояснил Марихуан Матус.
Мы плыли в гондоле по Сене. Я сидел на корме. Впереди показались башни Кремля. <…> Палисандрия, — объявил Матус. — Скоро высаживаемся» (с. 11—12).
Как видим, Лебедев не то что не скрывает, но сознательно готовит читателя: к тому, что его ожидает, и к тому, что от него ожидается определенная искушенность.
Сочинения, требующие такой искушенности, у критиков — так же часто, как Лебедева сравнивают с Соколовым, — ассоциируются с борхесовским «садом разбегающихся тропок». Здесь же, кажется, мы находимся в несколько другом саду — «саду других возможностей» (Л. Петрушевская). Лебедев в своей прозе постоянно реализует эти «другие возможности», не пренебрегая очевидным (аллюзии на известных авторов и т.д.), пририсовывает за ним перспективу, снабжает свое повествование «двойным дном».
Так, «сдвигающий на восток» брови Папарадзе — это не только мгновенная отсылка к веселому сюрреализму виановского стиля (сам Папарадзе, неутомимый и жовиальный затейник, похож на Полковника из книг Виана, а сам Виан возникнет позже, в главе 41), но и указание на географические и ментальные восточные корни прозы Лебедева10. Созерцательное и сиюминутное фиксирование окружающего восходит к японскому жанру лирической прозы «дзуйхицу» (китайский аналог «бицзи», корейский — «пхэсоль»).
«Фиксирование» становится важной чертой «Скупщика непрожитого»; это касается не только бытовых реалий или оттенков чувств, но и прямого каталогизирования. Так, под конец романа на нескольких страницах приводится полный список хотя бы единожды упомянутых героев книги — прием для Лебедева привычный: он и раньше составлял списки несуществующих картин, странных мест в городе, городских сумасшедших и т.д.11 Это «неиерархизированное творение представляет собой сгусток сосуществований и одновременность событий»12 (в терминологии этой книги — сжатое «до нескольких мгновений объективного, то есть разделенного всеми, удовольствие», с. 12). Оно является своего рода «диаграммой сил, чистой записью внешнего», которая «не допускает никакой “внутренности” и еще не сообщается с Единым как таковым. Это “творение”-диаграмма, тем не менее, заставляет разобщенные объекты (или инстанции объектов, такие как видимое и высказываемое) входить в формальное сочетание, в котором “внешность” остается, но приводится в движение своим “силовым” схватыванием»13.
Возвращаясь к восточным реалиям, нельзя не вспомнить, что таковые с удовольствием использовал в «Школе для дураков» Саша Соколов — и вот, пожалуйста, герои выплывают к Палисадрии — явная отсылка к названию последнего романа Соколова. Но — очередное двойное дно перспективы — дело тут не в одной только, к тому же более чем прозрачной, аллюзии. Мы имеем дело не только c культурным смешением (за время скольжения на гондоле по Сене герои на протяжении одной страницы успевают увидеть еще «вестминстерский профиль Красной стены» и Тадж-Махал, а через страницу возникает Нью-Йорк), «мультикультурностью» аллюзийного поля книги, но еще и с такой любопытной вещью, как mental mapping, или психогеография (герой выражается несколько иначе, составляя «метагеографическую карту [своего] сознания», с. 23). Это наука, первые ростки которой можно найти в урбанистических пассажах Бодлера, оформилась как дисциплина в 50—60-х годах прошлого века и занимается «исследованием специфических влияний и эффектов городской среды (улиц, проспектов, бульваров, дворов, тупиков, площадей, памятников, дорог, архитектурных сооружений) на чувства, настроения и поведение индивидов и социальных групп, обитающих в этой среде»14.
Теперь вернемся к сюжету книги. По ходу ее герой — «автор» — бродит по Парижу со своим другом Папарадзе, скрывается от «скупщика непрожитого», этакого потомка черта из «Доктора Фаустуса» и родственника «помощника пожирателя времени» из вошедшего в книгу рассказа «История про задумчивых», скупающего «пустые», не удержавшиеся в памяти годы, как в своих личных воспоминаниях (о школе — привет еще раз Саше Соколову), так и в воспоминаниях, поделенных на двоих с его любовницей Шахерезадой, или Иолантой Чайковской. Воспоминания эти, ежедневно ими с удовольствием творимые, заводят их не только на дальние парижские улочки, но и еще дальше: «…перепутав учебник ботаники с пособием по физике, я терял на бегу и его, мчась за ней. Кто-то невидимый, но с бородавкой насылал на нас Гольфстрим; мы в последний момент уворачивались, прильнув к квадратному корню. Переждав буйство вод, удалялись на яках в Австралию. Там, расположившись на солончаке, отдыхали. Отдых — у меня в этом месте воспоминаний всегда краснеют уши — переходил в любовь» (с. 35). Герои попадают даже в тундру — правда, видят ее только в своих общих любовных фантазиях, но не менее отчетливо, чем наяву.
Сам процесс их ви╢дения, их оптика лучше всего, пожалуй, определяется музыкальной цитатой из текста Лебедева (а музыкальные аллюзии, буквально наводнившие весь текст, и список слушаемых любовниками дисков представляют собой отдельную и весьма интересную тему для разговора) — «Love is blindness» группы U2. Продолжим цитату из одноименной песни из их альбома «Achtung Baby» (1991) — «I don’t want to see».
Любовное ослепление — дело, казалось бы, более чем обычное. Но, как и все обычное, реализуется оно у Андрея Лебедева не совсем обычно.
Слепота героев довольно выборочна. Они не замечают каких-то плохих вещей (например, мающегося где-то на заднем фоне скупщика), а к хорошим вполне внимательны. Поэтому, несмотря на заявление — «…рок продолжает играть нами, ремикшировать, сэмплировать нас» (с. 73), — мир вокруг героев постоянно находится в состоянии ослепительной радости: «Тепло дома, бирюзовые черные шашки и черные белые, милые чудачества кальяна, воображавшего себя дрессировщиком змей… Жизнь поистине баловала нас маленькими ноябрьскими радостями и не желала останавливаться в своем великодушии» (с. 20). В состоянии своего «бытового эпикурейства» герои становятся весьма приметливы к мелким житейским деталям: «Он (кот. — А.Ч.) отказался от мисок и ел исключительно с вилки. Шкафы превратились в газ, свет ночника — в плазму. Вино насвистывало “Под мостами Парижа” и “Кукарачу”. Чангмайский буддист, отлив бензин, рисовал кисточкой на своем одеянии солнечные сплетения иероглифов “вань” и “зин”. Япония отправляла на Курилы гуманитарную помощь и ждала, когда там заколосится бамбук. Тундра фонила» (с. 94). Вещность эта не только говорит об обостренном — от радости жизни, благодарности — взгляде, но с головой выдает природу текста, больше всего обязанного не Соколову или Набокову, а, несомненно, Виану, а также двум упомянутым в эссе «Возможная автобиография, 1962—1970» авторам — Томасу Пинчону и Амосу Туту-оле. Книгу Пинчона «V» Лебедев характеризует как «приключенческий роман, написанный вдогонку собственному отрочеству повзрослевшим психоделиком» (с. 162), а о романе Тутуо-лы «Моя жизнь в лесу духов» говорит совершенно однозначно: «Но сколько общего! Ежеабзацная трансформация сюжета, рассказчик, которого несет так, что единственной заботой является придание повествованию хотя бы минимального правдоподобия. Но не сюжетного, какое там! Синтаксического, риторического, аллюзивного» (с. 163).
Поэтому никакого противоречия в том, что герои слепы от любви, а что-то видят получше других, нет — речь идет о «синтаксическом и риторическом», то есть ритмическом, правдоподобии. (Это ритмическое правдоподобие, заметим в скобках, реализуется в нашей литературе крайне редко, в частности — в ориентированной на западные образцы поэзии, например в верлибрах и стихопрозе Ильи Кригера15.)
Верлибр, впрочем, это совсем не то же самое, что любовный сонет. Так, несмотря на сугубую лиричность текста, присутствующую в ней из-за любовной интриги, речь отнюдь не идет о чем-то приторном, так как на саму любовную тему наложен своеобразный иронический фильтр. Эта авто-редактура реализуется прежде всего в словесном обыгрывании самого слова «любовь» — «Вера, Надежда, Любой» (с. 81), «Песнь торжествующих любых» (с. 82) и «кавычки любовь» (с. 125).
«Любой» и «любых» здесь слегка заземляют лирический пафос, но служат, кажется, и еще одной задаче — показать не общность, универсальность чувства, но то, что в создании любовной интриги / content’а книги / ее текста (а для стилиста Лебедева интрига равна тексту, если не меньше его) может поучаствовать любой. Лебедев, как К. Бое в фильме «Реконструкция», в котором встреча любовников изображена через взгляды разных персонажей, производит настоящую вивисекцию любовной интриги, деконструируя ее. Точнее, даже не ее саму, а средства, которыми она создается, и — возвращаемся к теме оптики — формы, с помощью которых она может быть увидена.
Оптика в книге отнюдь не сингулярна, мы скорее сталкиваемся с мозаичным, почти фасеточным зрением. Происходящее дано нам отнюдь не только с точки зрения героев, погруженных в не рефлексируемый ими как таковой текст. Нет, герои выведены за пределы текста и одновременно погружены в него, что дает им возможность наблюдать за текстом и самими собою. Поэтому мы можем воспринимать текст и с точки зрения автора («я с ужасом побежал в направлении следующей главы», с. 50), героини, озабоченной движением сюжета («…что варежку раззявил? Ты план следующей части составил?», с. 64), «многонедоумевающего читателя» (с. 135), критиков… Мало того, «автор-герой» и «автор-автор» не только отделены друг от друга, но и само «я» автора распадается на две личности («…мне нетрудно придумать восемь моделей женских брючных костюмов? — спросил я самого себя», с. 65), а потом и на различные субъекты («…я читал свою жизнь по дереву. Ты читал свою жизнь по дереву. Он читал. Мы вернемся» [с. 18—19]).
Различные оптики, впрочем, не распадаются, не дают распасться этому по-виановски лиричному и сюрреалистичному тексту, представляющему собой едва ли не единый верлибр размером с повесть, — наоборот, имеют тенденцию объединить его за счет все-го многообразия взглядов. Когда это произойдет, тогда, если использовать другую цитату из «U2», «all the colours will bleed into one» и станет видно делёзовское Единое.
Александр Чанцев
ОДНОВРЕМЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
Тавров Андрей. Парусник Ахилл. Стихотворения и поэмы. — М.: Наука, 2005. — 327 с. — (Сер. «Русский Гул-ливер»).

«Листопад, зажатый в кулаке, / клювом воздух пьет и речи ищет». Что это за листопад, кто он: человек, предмет, движение души? На такие вопросы, возникающие в стихах московского поэта Андрея Таврова, однозначный ответ, к счастью, невозможен. Принципиальные качества этих стихов — сложность языка и необыденность представленной ситуации. Стихи Таврова — попытка вернуть в поэзию философское начало. Говорить о пути личности, не поступаясь многомерностью, не сводя этот путь к усвоению готовых принципов. С предельным напряжением взгляда («Он жжет ресницы, их переплавляя в грифель») герой поэзии Таврова исследует мир, где одновременны Артемида и танк, где «ты вделан в падающую звезду, как крот в ходы». Это наш мир, где новый Вергилий в заново сотворенной четвертой эклоге описывает не благодать грядущего Золотого века, а сложность пространства и расщепленность личности.
Я вхожу в свое зеркало, плещет пространство в затылок,
и спина моя кажется мне уходящим Орфеем,
что бредет впереди, и окликнуть себя я не в силах,
я звалась Эвридика, и мы оглянуться не смеем.
На таком пути перед человеком возникают невозможные задачи, но и отказаться от их решения невозможно. Только стихи (или равная им по концентрации смыслов проза) способны воссоздать эту противоречивую, разрешающуюся каждый раз приближенно, ситуацию.
Большую часть сборника занимает поэма «Psyhai» (по-гречески это означает «души», но в языке Таврова это означает, например, «бабочки»), состоящая из четырех книг по десять песен в каждой, каждая песня — из трех частей по 35 строк. (Другие вошедшие в сборник стихотворения связаны с «Psyhai» образно, стилистически и тематически, поэтому весь «Парусник Ахилл» можно рассматривать как единую книгу.) Тавров в авторском предисловии описывает «Psyhai» как утопию, ориентированную на «Божественную комедию» Данте и «Cantos» Эзры Паунда — как поэму, чьей целью является эстетическое воссоздание утраченной цельности мира. «Герои “Psychai” — Ахилл, Симпл, Sanktus и Мальчик-с-пальчик… дублируют маршрут Дантова восхождения, ибо это разные бабочки, которые лишь со временем станут одной», — комментирует Тавров свой замысел в предисловии к книге. Там же читаем: «…Цельный и сплошной человек кончился. Его надо… собирать заново». Но так ли нужна эта цельность (ведь и Паунд знал, что она утрачена), если даже один человек множественен? «Глянь в него сверху — увидишь мишень годовых колец», как сказано в стихах Таврова. Там же написано, что кожу его изнутри протыкают зубы волчицы, пронизывают языки огня и пение ангелов. Язык, которым пользуется Тавров, направлен именно на встречу с этим множеством. Главное орудие его поэзии — не столько метафора, сколько номинативный ряд. Вызов слова — открытие плотины ассоциаций. И даже Бога (или богов) можно попытаться понять через предметы, в том числе и вполне современные.
Он сенбернар, землей оброс ошейник,
лепясь как ласточки гнездо со всех сторон,
тем садом, что на линзе лег в очешник,
он шел, вылепливая время, как гончар,
назад, как рак, впадающий в себя.
Если в средневековых бестиариях было допустимым и даже традиционным сравнивать Христа с пеликаном, то почему нельзя попытаться понять Бога через спасающего людей под лавинами сенбернара? А Венера в мире Таврова
…лежит, как будто стриж зигзагом
ее соединил, и отразился в зеркале, и, взвизгнув, улетел,
светла, как лопасть самолетного винта.
«Psyhai» — «Божественная комедия», переписанная для современного человека — автономной личности, включенной в различные психологические и культурные контексты. Результат неожидан и интересен. Напряжение, личное усилие, которым пронизана и создана поэма Данте (что проанализировал Мераб Мамардашвили), ни после Данте, ни в результате сделанного Тавровым переосмысления не уменьшилось.
Выдержишь — уходи. Не обернись, говорю.
Континенты ползут по лопаткам, отклеиваясь, как в март.
Ты сам себе род и родник, в язык заложенный старт…
Но «Божественная комедия» — описание встреч. Современный путь — вереница превращений.
Я пульсирую сам в себе, как бедро любви на фоне мокрого нимба,
перебрасывая на белые щеки удары drum’а.
Я разрастаюсь во льве-занавесе в вертикальный
зрак, и лев разваливается, как мишень на побережье 71-го…
Данте историчен: «Комедия» полна неостывшей современности. Тавров — предметен, в «Psyhai» из недавней истории — только Великая Отечественная война, упомянутая потому, что в ней участвовал отец героя-повествователя, а другие отсылки к истории — Александр Невский или сражение англичан с Непобедимой армадой — воспринимаются в его стихах скорее как источник образов. Путь (ведь поэма Данте — описание пути героя, а у Таврова, как уже сказано, таких путей описано четыре) рождается из себя самого. «Оплакав себя, я вместе с богини руками, / себя самого на воздушных носилках отнес к винноокому морю». Человек на пути — одновременно ведомый и ведущий. «Они были беззвучные имена, которые я принес. / Это они меня сюда привели, как заводит в поля стопа…»
Данте встретил Беатриче только в раю, но помнит о ней, начиная с первых строк поэмы — и до финала. Герой Таврова никогда не упускает из вида любимую даже физически. «Девочка, puella, стриж, рассыпавшийся альбом, / перевернутая скрипка и сна лиловый румын. / Грязна твоя пятка — лилия под плевком». Тавров стремится определить любимую так многообразно, как в средневековой апофатической теологии определяли Бога:
…Ты та, что уходит,
связывая тоннель с перчаткой, глазницу с безмолвной ванной,
золотой, как внутренность взрыва бомбы.
Или:
Твои ноги прозрачны, словно по ним пробежала медуза.
Яблочко ореховой мандолины, дочка, чуточка, дом! —
Европа материка, похищенная языком.
Кроме этого вновь и вновь рисуемого портрета, есть часто портрет двойной: «мы-персонаж», повествователь вместе с любимой.
Мы были Римом, стянутым стежками,
и ливнем безымянным, целокупным,
смешавшимся с самим собой в стакане.
Мир без любимой безнадежно беден. «Воздуху не щелкнуть застежкой, не расстегнуть на себе платья, / без тебя ему не дойти до себя из сквера». Центр «Psyhai» — любимая. Рай — ее зрачок. «Она — тот Бог, что невидим и мальчиком вдет / в ушко иголки». Разумеется, любовь — также и тяжесть, отчаяние и опустошение.
Я лежу вне причин и вне слов — за лопаткой твоей,
черной ласточкой снов и предсмертным загибом ресницы.
Мир кружится в щепоти пустой, что намного полней
колбы красного рта, парусов опрокинутой птицы.
Тавров мог бы сказать о своей книге то же, что Лоренс Даррелл об «Александрийском квартете»: это «исследование современной любви», неостанавливающейся, динамичной, неожиданной и ускользающей.
Бог появляется не как итог, а как очередная попытка понять происходящее.
И Ты был тяжел на коленях Марии, как ствол
дорический или дельфин, что запрыгнул на сушу,
как баржа, груженная ядрами, в пахоте вол.
Тавров не стремится к тривиальному, клишированному описанию трансцендентного. «Дождь хлестал, / и мыло мылилось. И щелочь ела веки / льняного серафима за клавиатурой». Высокое незачем приподнимать. «Ибо кто ты, чтобы серьезничать рядом с Богом», — поэтому игра не исключает Бога, а предполагает его.
Путь к универсуму не кончается: его завершение — путь. Путь личности в принципе незавершим, не имеет окончательной цели, и потому любое продвижение неоднозначно и неокончательно. Завершающие песни всех четырех частей «Psyhai», названные, как и у Данте, «Небо звезд» и «Перводвигатель. Эмпирей», мало отличаются стилистически и содержательно от начальных песен, которые называются «Земля» и «Луна»16. В итоге четырех частей остается та же горечь, что есть в начале. «Симплициссимус, я восходил к Огню — / Он творил траву и никого не спас». После пути (не в итоге, потому что итога быть не может) чело-век понимает и видит больше, но остается таким же раздробленным. «Расчетверен, я расходился в четырех набиравших звук / посейдоновых ртах, разбрызгивающих луч. / Я был каплей дождя, сжатой тисками в хрящ». Путь дает обогащение идущего, но не итог. В итоге — вопрос, а не ответ. Последняя песня всей поэмы начинается со строфы:
В это небо кто костью врастал и в холме себя хоронил,
кто сирень из-под глаза на серп из ребра поменял,
кто шмелем его шлем приоткрыл, словно розой могил,
в эти полые Дантовы ядра забрался, облился, пропал?
Кто в свой след, как в лазури пяту, по колено входил?
В итоге поэмы и книги нас ждет соприкосновение с множеством как множеством.
Лепестки и плоты, что восходят к Источнику вспять,
в них Спиноза и Плиний, и плющ, и Париж, и висок,
в них А. Зуев, Амшей Нюренберг и очнулись, и спят.
Лао-цзы и дракон, Гитлер, ветер, Веласкес, песок,
и Рембо, и колонна, Европа, костелы, набат.
В универсуме предметы сливаются. В мире Таврова они встречаются, обогащая и дополняя друг друга. Потерянное тоже живет и значит. «Значит — утопленная подкова, пропавшая буква…»
Всякое дело человеческое не идеально. Возможно, автора ограничила ориентация на идею единого универсума. Четыре книги «Psyhai» предполагались как варианты пути, но они мало отличаются друг от друга. Индивидуальность любимой не слишком понятна: скорее, это представление персонажа о ней, какая она должна или могла бы быть. Иногда одические интонации выглядят слишком тяжеловесными, риторические восклицания — «перегретыми», речь в целом — чрезмерно архаичной: «И этой декорации конец / пришел вослед за летом. Здесь недавно / хотел и я сопрячь волну Улисса…» и т.д. Афоризмы в стихах Таврова бывают слишком ригористичными: «Взойди туда, где повесть / о нас нетленна…» — нетленных повестей, к счастью, нет, потому что нетленное — мертво. Такая жесткость, излишний ригоризм сказываются и в автокомментариях: жалко, например, что эффектный образ «золотогубый пророк» — это именно и только Артюр Рембо. Тавров склонен к чрезмерному, барочно-пышному наслоению ассоциаций: порой ожидаешь большего отбора. (Стихотворения Таврова обычно имеют название. Может быть, эта тематичность — стремление автора дать содержательный центр движению образов, рискующему превратиться в хаос?) Много сравнений, безнадежно разделяющих явления: если одна часть сравнения соединена с другой только через «как», им никогда не встретиться и не быть друг c другом никогда — а похоже, в конечном счете, все на все. Мне кажется, что в стихах Таврова более плодотворны не установления подобий, а превращения, мерцающее существование. Тавров, видимо, часто предполагал свою задачу в развертывании символов, а неосимволизм чреват редукцией языка, когда все множество понятий будет лишь указывать на весьма ограниченный набор «высших значений». Но реально, к счастью, Тавров гораздо чаще следует традиции не символистов, а Мандельштама, речи через ассоциации и предметы, направленной на индивидуальное: «Рысь и роза одно, потому что они окно». Да, как возможности встречи, источники смыслов и ассоциаций, собеседники. Но не как символы. Рысь, дантовский символ сладострастия, не может быть без натяжек уподоблена священной розе, хотя логически вроде бы все верно: и то и другое — знаки, отсылающие к иному.
Жесткая композиция и ориентация на универсализм входят в противоречие с языком «Psyhai». Мир поэмы излишне упорядочен внешним заданием, порой он выглядит даже статичным. Хотя «Psyhai» — все-таки история роста личности, и только поэтому — постижения высшего.
Задачи, которые ставит перед собой Тавров, чрезвычайно сложны и интересны, тем более что они, к сожалению, мало характерны для современной русской поэзии. Тавров, начавший печататься в 1990-е, воспринимается как автор следующего поколения после Ивана Жданова, Алексея Парщикова, Аркадия Драгомощенко, Ольги Седакова — хотя по возрасту старше некоторых из них.
Видимо, на Таврова очень давит традиция классической философской поэзии, опиравшейся на универсальность ответов. Но языком своих стихов, создающим пространство для воображения, движения и поиска, Тавров прокладывает путь новой философии — противоречивой, вероятной, единственной, живой. Его книга — демонстрация не всеединства, а огромного разнообразия мира.
«Алмазная бабочка режет окно». Земля не меньше и не больше неба. Смычок скрипки ангела движется в печали, что идет от небес, в восторге, что вновь приближается к земле. Каждое движение — одновременно в печали расставания и в восторге будущей встречи. Есть благодарность существующему за существование. «Благодарю дерево, что несет муравья, / и ребром синеву и клюет, и ест, / синей кровью бежит, бережет воробья, / небом ширится, вдохом, как в дождь колея. — / И за ствол, и за врытый под кольца крест».
Издательство «Наука» и Центр современной литературы Вадима Месяца открывают книгой Андрея Таврова серию «Русский Гулливер». Может быть, показательно, что именно «Наука» возвращает в современную русскую литературу сложное, неповседневное, действительно серьезное.
Александр Уланов
1) Впрочем, последняя глава романа явно предполагает возможность продолжения.
2) Ex Libris НГ. 2005. 25 августа.
3) Арсен Ревазов: «Литература — это занятие для джентльменов» (http://www.polit.ru/culture/2005/08/01/revazovint. html).
4) Здесь и далее в цитатах — грамматика и пунктуация В. Певзнера.
5) Певзнер В. Заметки Ни О Чем. М.: Самиздат.
6) Лежен Ф. В защиту автобиографии: Эссе разных лет / Пер. Б. Дубина // Иностранная литература. 2000. № 4.
7) Голубович К. Сербские притчи. М.: Логос; Гнозис, 2003.
8)См. капитальный сборник переводов стихотворений и прозы, составленный Ксенией Голубович: Йейтс У.Б. Видение: поэтическое, драматическое, магическое. М.: Логос, 2000.
9) То есть автора blog’а (англ.), — ведущегося в более или менее общедоступном режиме интернетовского дневника.
10) См. в романе: японский ресторан, «ты буддишь» (от буддизма), разговор о Лао-цзы и др. японские и китайские реалии.
11) См., например, эссе «Материалы для списка сумасшедших»: http://www.topos.ru/article/1256.
12) Делёз Ж. Логика смысла. Фуко М. Teatrum philosohpicum. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 342.
13) Бадью А. Делёз. Шум бытия. М.: Прагматика культуры; Логос-Альтера / «Eccо homo», 2004. С. 118.
14) Бренер А., Шурц Б. London calling // Логос. 2002. № 3/4 (http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/lond.html).
15) Так, миниатюра Кригера «Женя» не только по стилистике, но и по содержанию (герой «Скупщика непрожитого» весьма ревностно относится к своему шампуню) напоминает рецензируемую книгу:
«Я шла по улице, слушая хохот кларнета. У меня тек майонез, я слизывала его.
Сначала я услышала его, потом увидела. Он был невысок и нараспев сказал:
— Вы невероятно красивы, когда перепачканы майонезом. Давайте встретимся еще неоднократно! И я
ответила:
— У меня есть муж. Он вздорный человек.
— Ваш муж не помешает нам.
— Но вы не знаете моего мужа, дона Алонсо. Он ревностно любит майонез» (см. на сайте «Полутона»: http://polutona.ru/?show=1001071).
16) В первой части — «Ахилл и Галатея» — первая песня называется «Земля. Стихии».