Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2005
НОВЫЕ КНИГИ
Ранкур-Лаферьер Д. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПСИХОАНАЛИЗ / Пер. с англ. — М.: Ладомир, 2004. — 1018 с. — 2000 экз.
Перед нами объемистый том, включающий в себя две книги («Пьер Безухов. Психобиография», «Лев Толстой на кушетке психоаналитика») и четырнадцать статей, посвященных анализу отдельных явлений литературы — от Пушкина и Гоголя до Войновича и А. Зиновьева, плюс интересное «Приложение» — повесть С.А. Толстой «Чья вина?», ее полемический ответ на «Крейцерову сонату» Льва Николаевича. Общее впечатление от этих трудов весьма двойственно. Американский исследователь умеет увлечь читателя, он талантлив, эрудирован, но не высокомерен, а, наоборот, судя по его стилю, простодушен, откровенен, добр и просто влюблен в русскую литературу. Некоторые его выводы и наблюдения интересны, оригинальны и заставляют задуматься, ибо проливают новый свет на, казалось бы, давно известное и устоявшееся в нашем литературоведении.
Но есть в работах неутомимого фи-лолога-психоаналитика и нечто, вызывающее у меня отторжение. Слишком уж он зациклен на своем Фрейде (лишь cлегка подновленном), слишком многословно, с бесчисленными повторениями и вариациями доказывает дорогую для него фрейдовскую idée fixe. Суть ее можно выразить в одном выражении «mother-fixation» (полная зависимость младенца от матери, от ее кормящей груди). Этот психосоматический феномен вполне реален, он талантливо прослежен хотя бы в повести Зощенко «Перед восходом солнца» (о которой Ранкур-Лаферьер тоже упоминает). Но в орбиту этого явления фрейдист-ортодокс вовлекает «комплект» всякого рода сексуальных аберраций — тут и «“оральные” аспекты в воззрениях Толстого», и его же «кастрационный комплекс», и «мазохизм как антидепрессант», и «взаимное порабощение полов» (я привожу заголовки разделов из книги об авторе «Крейцеровой сонаты»), и многое тому подобное. Иной раз дело доходит до смешного. Исследователь пишет: «Избавление от изжоги является лишь одним из проявлений нарциссической погруженности Толстого в самого себя, его заряженности идеей самосовершенствования» (с. 767). По поводу этой «изжоги» скажу — Фрейд гениально уловил сам факт связи «низших» слоев нашего существования с высшими проявлениями психики, выстроил систему взаимоотношений между ними, но психоанализ — при всей его внешней изощренности — все-таки оказался слишком механистичен. Оттого и толстовские герои (а во многом, хотя, слава богу, не во всем, и сам Лев Николаевич) оказываются у Ранкур-Лаферьера, — видимо, вопреки его субъективным намерениям — не столько сложными личностями, сколько марионетками особого «психоаналитического» театра, исполняющими роли «андрогинов», склонными к гомоэротизму, пребывающими «в тенетах сумасшествия», в «размытых границах самости». Но там, где ученый на время освобождается от фрейдистских схем и прибегает к технике «свободных ассоциаций», обращается к другим методам анализа, его ждет успех. На основе громадного документального материала ему удается, например, внести уточняющие штрихи в психологический портрет позднего Льва Толстого, в крайне противоречивый мир все более запутывающихся отношений писателя с самим собою и с окружающей его социальной действительностью.
Но при этом исследователь — незаметно для самого себя — часто забывает о… литературе как таковой! Хотя вроде бы и пишет о ней. Он ищет и находит в ней не столько поэзию и поэтику, сколько аргументы (намеки, косвенные доказательства) в пользу своих идей. Хорошо, например, то, что он печатает повесть Софьи Андреевны, ее ответ на «Крейцерову сонату». Но ему не пришло в голову сопоставить эти два произведения в художественном плане, а именно тут они несоизмеримы. Или взять ранкуровскую «психобиографию» Пьера Безухова. Ученый, можно сказать, ломится в открытую дверь, доказывая, что вымышленный персонаж, лицо фикциональное, может восприниматься читателями как реальный человек. Об этом говорил еще в XIX в. Теккерей. Но, доказав очевидное, наш филолог-фрейдист тут же укладывает Пьера на свою психоаналитическую «кушетку» и подвергает его всем тем процедурам, какие он проделывал с творцом этого героя, Львом Толстым. При этом на протяжении двухсот пятидесяти страниц Ранкур-Лаферьер умудряется почти забыть о том, что Пьер Безухов — это все-таки художественный образ, творение искусства. Я говорю «почти», потому что исследователь, конечно, помнит о фикциональности толстовского текста, время от времени прибегает к понятиям «образ, ирония, метонимия, ассонанс» и т. д. Но внимание его фиксировано именно на биографии героя, на его личности. Причем настолько, что Ранкур-Лаферьер дает свой вариант романа, свой образ Пьера Безухова, лишь внешне похожий на толстовский персонаж. В книге «Лев Толстой на кушетке психоаналитика» исследователь «беспощаден» к гениальному писателю, изображая его прежде всего как страдающего садомазохиста, запутавшегося в собственных комплексах и отравляющего жизнь близким. Строгой рукой психоаналитика критик пытается «улучшить» «Войну и мир», причем придирки его, мягко говоря, не всегда корректны (впрочем, тут возможны и неточности русского перевода). Так, читаем: «Толстой слишком тщательно конструирует (? — В.В.) душу Элен» (с. 527), писатель «уделяет слишком много внимания» подозрениям Безухова относительно его жены (с. 333), дает «путаный синтаксис абзаца» (497), хотя на самом деле текст, рисующий внимание Наташи к рассказам Пьера о его жизни в плену, достаточно прозрачен. Исследователю «совершенно неясен» абзац, рисующий кормление Наташей ее трехмесячного младенца (с. 503), поэтому он тут же объясняет нам этот «неясный» пассаж: оказывается, «Наташа понимает, что младенец заменяет ей мужа <…> более того, она как бы дает понять, что является для Пьера матерью» (с. 503). Вот это уже совершенно непонятно, по крайней мере для тех, кто слабо знаком с фрейдизмом. И так далее.
Каков же Пьер Безухов-Ранкурский? Прямо скажем, он довольно несимпатичная личность. Брошенный в детстве матерью, будучи незаконным сыном графа, он ведет безалаберную и буйную жизнь, ездит к гулящим девкам, дерется, но испытывает чувство вины «при мысли о женитьбе на образе матери» (с. 342) («хорош» стиль!), то есть на Элен Курагиной. Отмучившись в первом браке, пережив некий «негативный эдипов комплекс», «обогащенный <…> гомосексуальным влечением к противнику» (то есть к Долохову) (с. 369), герой впадает в альтруизм масонского и социально-реформаторского плана, замешанный, конечно, все на том же гомоэротизме. Пребывание в плену дает ему силу обрести «самость», которая представляет «достижение в нарциссической сфере» (с. 510). Но, к разочарованию американского «психобиографа», эти «психологические достижения» Пьера во многом аннулированы его женитьбой на Наташе, хотя «регресс не вполне полный» (с. 510). Да и вообще оказывается, что не такой уж Лев Толстой реалист, ведь «у читателя создается впечатление, будто Пьер и в огне не горит и в воде не тонет», и эта сказочная «несгораемость» персонажа делает его «нарциссическим двойником то ли самого Толстого, то ли читателя» (с. 511—512). А поскольку Лев Николаевич у Ранкур-Лаферьера предстает в не очень-то привлекательном свете, то подобное двойничество не прибавляет симпатии и к фикциональному «бастарду».
В заключение бросим беглый взгляд на цикл статей, открывающих книгу. В них исследователь демонстрирует свои обширные познания в области собственно литературоведения и языкознания — он хорошо осведомлен в русской теории литературы (статьи «Потебня, Шкловский и парадокс “чужого голоса”», «Гоголевский смех и группа Бахтина»), проявляет свои замечательные способности в сфере структуралистского стиховедческого анализа при разборе стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» (статья «Гений чистой красоты и Вавилонская блудница»). Но и в этих работах декларированный автором метод «свободных ассоциаций» снова сводится к жесткой схеме фрейдистских комплексов. Таков, например, его разбор сна Татьяны, в котором (во сне) все сплошь сексуально: «дрожащий, гибельный мосток» — это «девственная плева» девушки (с. 165), и т.д. Любопытно сопоставить этот «ортодоксальный» психоаналитический подход с анализом сновидения героини, который дан в книге Т.М. Николаевой «От звука к тексту» (М., 2000. С. 551—562). Московская специалистка по текстологии пытается применить в данном случае методику К.-Г. Юнга, и ее выводы оказываются радикально иными, чем у Ранкур-Лаферьера.
Под занавес повторим — как бы мы ни относились к работам ученого из США, одно несомненно: они созданы человеком пытливого ума, талантливым, эрудированным, и его выводы, наблюдения, как минимум, заставляют нас серьезно задумываться над тем, что многим кажется бесспорным.
В. Вахрушев
A HISTORY OF WOMEN’S WRITING IN RUSSIA / Ed. by Adele Marie Barker and Jehanne M. Gheith. — Cambridge University Press, 2002.
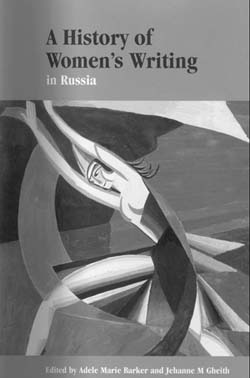
Жанр «истории литературы» занимает в филологической традиции значимое и почетное место. Такого рода фундаментальный труд, охватывающий длительный период литературного развития, — наглядное доказательство действенности той или иной научной парадигмы, при помощи которой получает объяснение множество литературных фактов. Смена культурно-исторической парадигмы необратимым образом требует пересмотра прежней истории литературы, вернее, самой концепции ее построения. Думается, что вопрос о том, как сегодня писать историю русской литературы, не принадлежит к числу праздных. Одна из возможностей описания литературного процесса — через гендерную проблематику — реализована в рецензируемой книге.
При разделении литературы по гендерному признаку маркированными членами оппозиции оказываются женская литература и сама фигура женщины-писателя — на фоне привычных представлений о литературном творчестве как о традиционно «мужском» занятии. История женской литературы», таким образом, преследует двоякую цель: с одной стороны, доказать равноправие полов в сфере литературного творчества, а с другой стороны — продемонстрировать специфику «женской» литературы как определенной культурной традиции. Эта парадоксальная двойственность изначальной установки составляет любопытную специфику гендерного анализа истории литературы.
Заметим, впрочем, что и традиционная история литературы — русской, в частности, — может быть названа гендерно маркированной — как «история мужской литературы», в чем легко убедиться, открыв оглавление или именной указатель любого фундаментального историко-литературного труда.
Авторы статей, вошедших в рецензируемую книгу, стремятся определить место и роль женщины в художественном творчестве в России начиная со времени Киевской Руси и заканчивая новейшими произведениями современной российской словесности. Читателю представлены путь женщины в литературу (из героев в авторы) и ее литературная судьба — в соотнесении с общим процессом развития изящной словесности в России.
Первая глава, посвященная древне-русской литературе, — единственная, где речь идет не впрямую о «женской литературе» (т.е. о сочинениях женщин), а о «Женских образах в литературе русского Средневековья» — как следует из заглавия. Женские персонажи в данном случае оказываются важными не только сами по себе, но и как прототипы литературных героинь последующих эпох или образцы реального поведения. Так, по мнению Розалинд Маккензи (Rosalind McKenzie), Ульяния Осоргина (Осорьина), героиня житийно-биографической повести XVII в., может быть названа прототипом солженицынской Матрены («Мат-ренин двор»); а самоотверженность протопопицы Настасьи Марковны, верной жены Аввакума, сопровождавшей его в ссылке, сродни мужеству княгини Натальи Долгорукой или жен декабристов.
История самих женщин-писательниц начинается с середины XVIII в.: сочинения женщин в различных жанрах: поэтических (Екатерина Урусова, Марья Сушкова, Александра и Наталья Магницкие, Марья Поспелова), прозаических (Наталья Неелова, Марья Извекова, Мария Лисицына, Александра Хвостова), драматических (Елизавета Титова — «Густав Ваза, или Торжествующая невинность»; Марья Извекова — «Альфонс и Флорестина, или Счастливый оборот»), а также их роль в литературной жизни второй половины XVIII — начала XIX в. рассмотрены во второй главе («Сапфо, Коринна, Ниоба: амплуа и жанры женского письма, 1760—1820»). Более обстоятельный рассказ о женщинах-поэтах той же эпохи и нескольких следующих десятилетий представлен в главе «Неопытная муза: женская поэзия первой половины XIX века», где достаточно подробно охарактеризовано лирическое творчество Анны Буниной, Елизаветы Кульман, Надежды Тепловой, Евдокии Ростопчиной, Каролины Павловой, Елизаветы Шаховой, Юлии Жадовской, Надежды Хвощинской.
Литературные стратегии писательниц и их сочинения — в контексте общественной жизни середины XIX в. — рассмотрены в разделе «Женщины 1830-х и 1850-х гг.: альтернатива периодизации». Противопоставление литератур 1840-х и 1860-х, по мысли автора этой главы, не актуально для женской прозы середины века (речь идет прежде всего о прозаических произведениях), развитие которой характеризуется скорее преемственностью традиции, чем жесткой литературной борьбой и взаимным неприятием либералов 1840-х гг. и радикалов-шестидесятников. Женская светская повесть 1830-х — начала 1840-х гг. («Вечера на Карповке» Марьи Жуковой, 1837—1838; «Суд света» Елены Ган, 1839) схожа по тематике с романами и повестями, написанными через 20 лет (повесть Надежды Соханской «После обеда в гостях», 1858; роман Авдотьи Панаевой «Женская до-ля», 1862): женская судьба, семейное и общественное положение женщины, ее права — равно остаются в центре внимания как в 1830-е, так и 1860-е гг.
Традиция женской литературы не ограничивается непосредственно художественным творчеством, но включает также автобиографии и мемуары, демонстрирующие «женский взгляд» на собственную жизнь, жизнь окружающих людей и, шире, взгляд на эпоху. Мемуарное наследие XIX — начала XX в. представлено в книге (в главе «“Частица души”: женская автобиография в дореволюционной России») именами «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, Авдотьи Панаевой, Надежды Соханской, Марии Каменской, Екатерины Юнге, Анастасии Цветаевой, Анастасии Вербицкой, Валентины Дмитриевой.
Различным путям женского литературного творчества на рубеже XIX— XX вв. посвящены главы «Женщины русского символизма: по ту сторону алгебры любви» и «Реалистическая проза, 1881—1929». Отдельные главы рассказывают о судьбе женщин-писательниц за пределами России, причем авторы обращаются не только к литературной жизни парижских эмигрантов — глава «Женщины русского Монпарнаса» (Париж, 1920—1940), но и к куда менее исследованной «восточной тропе изгнанья» — дальневосточной эмиграции (глава «Восточная тропа изгнанья: русские женщины-писательницы в Китае»).
Роль женщин-литераторов в культурной жизни по эту сторону границы представлена главами «Женщина и пол в поэзии постсимволизма и сталинской эпохи», «Женский век (1945— 1985)», «Своими словами? Советские писательницы: в поиске личности». Примечательно, что значительное внимание уделено «официальной» литературе советского времени, подробно рассказывается о творческой судьбе Веры Инбер, Антонины Коптяевой, Веры Пановой, Галины Николаевой — писательниц—лауреатов Государственной премии СССР.
Поэзия и проза последних десятилетий XX в. рассмотрены в разделах «Женская поэзия с начала 1960-х», «Живучесть памяти: женская проза с начала 1960-х». Завершает книгу глава о современной женской прозе: «Проза “перестройки” и постсоветской эпохи: вспышка и угасание».
Взгляд на историю литературы с точки зрения участия в ней женщин, с одной стороны, значительно сужает перспективу исследования, главным образом за счет уменьшения — чисто количественного — материала, но, с другой стороны, позволяет пересмотреть и реинтерпретировать отдельные эпизоды литературной жизни. Одной из особенностей гендерной оптики (если продолжить визуальную метафору) окажется стирание границ между «большой» литературой и литературой второго или даже третьего ряда, между «официальной» и диссидентской литературой, что позволяет говорить о более целостной картине культурной жизни в определенную эпоху.
К примеру, литературная жизнь второй половины XVIII — начала XIX в. представлена не только культурной деятельностью Екатерины II, Е.Р. Дашковой, Елизаветы Херасковой, Екатерины Княжниной-Сумароковой, Анны Буниной, но и литературными труда-ми Екатерины Урусовой, Марьи Поспеловой, Александры Мурзиной, Любови Кричевской. В пределах одной главы с официально признанными писательницами: Верой Пановой, Антониной Коптяевой, Галиной Николаевой — соседствуют Евгения Гинзбург, Лидия Чуковская, Наталья Баранская.
В главах книги, рассматривающих различные периоды истории русской словесности, находят место как сочинения именитых писательниц, так и произведения авторов, чьи имена мало что говорят даже компетентному читателю. В этом отношении полезен помещенный в конце книги «Библиографический указатель авторов и их произведений», где можно найти краткие сведения (иногда, впрочем, чересчур лаконичные) о жизни писательниц, о которых так или иначе идет речь в книге, а также информацию о публикациях их произведений.
Еще одна особенность «Истории женской литературы в России» связана уже не со спецификой гендерного подхода, а со своеобразием описываемого объекта — маркированностью женского начала в русской культуре. Образ русской женщины, со всеми его культурными коннотациями, чрезвычайно важен для авторов книги, причем одинаково интересным оказывается как образ женщины, создаваемый и реализуемый в жизни, так и женские образы, представленные в художественных произведениях. Так, в первой главе книги хронологически последовательно рассмотрены женские персонажи различных произведений древнерусской словесности. Такой ракурс, разумеется, обусловлен тем, что в этот период весьма затруднительно говорить о женщинах-авторах, но, как кажется, более важное обстоятельство — возможность показать на материале древнерусской литературы, принимая во внимание важность влияния фольклорных мотивов, истоки образа русской женщины, связанного с христианским культом Богоматери и более древним, языческим, — «Матери сырой земли».
Наряду с литературными женскими образами, в книге рассматриваются различные варианты поведенческих стратегий писательниц, литературные маски — в этом отношении показательно название второй главы «Сапфо, Коринна, Ниоба: амплуа и жанры женского письма, 1760—1820», однако эти амплуа лишь перечислены и определены весьма лаконично: «Характерен для классицистической традиции образ <…> греческой поэтессы Коринны, которая, если следовать легенде, отличалась скромностью <…> и в то же вре-мя честолюбием <…>. Типичным образом поэзии сентиментализма <…> была Сапфо, <…> несчастная отвергнутая возлюбленная пастуха Фаона, чувствительная подруга и наперсница юных дев. Другим женским образом, который стал приобретать важность начиная со второй половины 1790-х гг., был образ Ниобы» (с. 49), явившийся воплощением «женской добродетели», которая состояла в том, чтобы быть «вер-ной женой и заботливой матерью» (с. 50). Заметим, однако, что в следующей главе («Неопытная муза: женская поэзия первой половины XIX века») достаточно подробно говорится о литературной маске Сапфо — приме-нительно к одной из «печальных русских Саф» — Анне Буниной, а также об образе Коринны, который играл значимую роль в творчестве рано умершей Елизаветы Кульман (ср. ее цикл «Стихотворения Коринны…»).
Важный сюжет, рассмотренный в книге, — отношение женской литературы, женских литературных стратегий к «мужской» традиции. Несовпадение мужских и женских представлений о роли женщины в литературной и общественной жизни, а также разрыв между литературными или публицистическими декларациями и реальным поведением их авторов оказываются хорошо видны «с женской точки зрения». Такого рода контрасты сильны в эпоху символизма, когда в женщине видят неземную Прекрасную Даму, воплощение божественной благодати и красоты, музу-вдохновительницу, отказывая ей в праве на независимое от этих «функций» существование. Стратегия женщин в литературе этого времени строится относительно системы координат, заложенной «мужской» традицией. Поликсена Соловьева старается дистанцироваться от роли музы-вдохновительницы, Вечной Жены, выбирая «бесполый» псевдоним Аллегро и предпочитая писать стихи от мужского лица; З. Гиппиус искусно меняет литературные маски, а загадочный образ Черубины де Габриак полностью создается в соответствии с представлениями о том, какой должна быть женщина-поэт.
Не менее симптоматичное явление — полемика вокруг романа Авдотьи Панаевой «Женская доля» (1862), который жестко раскритиковал Д.И. Писарев в статье «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби», обвинив автора в том, что она выступает против женской эмансипации. Такая ситуация выявляет характерный парадокс в отношении «женского вопроса»: «<…> с одной стороны, либералы и радикалы выступали за права женщин, но с другой — не замечали, игнорировали мнение самих женщин на этот счет или не желали принимать его во внимание» (с. 95).
Многообразие аспектов литературной жизни, показанных в главах книги, соответствует установке авторов, которую они формулируют во «Введении» как «жизненность», «текучесть жизни» («livingness»). В связи с этим особое значение приобретает анализ культурного и «жизненного» контекста, значимого для интерпретации как произведений, так и литературных стратегий их создательниц. Таким образом, важнейшая задача всего исследования — запечатлеть эпоху, когда жили и творили те или иные авторы, «их литературную жизнь, определить их место в преобладающе мужской литературной традиции» (с. 1). Вопрос о существовании традиции для самой женской литературы оказывается принципиальным: каждая глава по отдельности (заметим, что разделы книги охватывают достаточно длительные временные промежутки, в пределах которых подчеркивается общность, преемственность, схожесть тематики и авторской установки) и книга в целом предполагают положительный ответ. Сочинения русских писательниц представляют собой, с одной стороны, значимый вклад в магистральные пути литературной жизни, а с другой — особую традицию, которая часто оставалась не учтенной в масштабных историко-литературных описаниях.
При бесспорном интересе книги и концепции истории литературы, в ней предложенной, нельзя не обратить внимание на неточности и ошибки: оказались перепутаны имена поэтесс начала XIX в.: Екатерина (Катерина) Тимашева, которой посвящали стихотворения Пушкин и Баратынский, названа Елизаветой (с. 62), а рано умершая поэтесса Елизавета Кульман, наоборот, Екатериной (с. 62). Много явных опечаток в цитируемых в примечаниях русских текстах: «А нежности сердец / Дал властвовать над нами» (с. 60); «<…> утоб дамам не писать, в котором есть законе? / <…> Пиши! не будешь тем ты менше хороша; / В прекрасной быть должна прекрасна и ыа» (с. 61); «На стол наш ярко освещаный, / Толпы крылаты летят» (с. 151); «<…> И на девическом руке — / Не-нужный перстень Соломона» (с. 151) и др.
Такого рода небрежности, а также не всегда верно указанные места и даты рождения и смерти писательниц затрудняют обращение к этому фундаментальному труду как к своего рода «энциклопедии женской литературы», на что «История женской литературы в России» вполне могла бы претендовать как по замыслу, так и по охвату материала.
Алина Бодрова
ПРАВО НА ИМЯ: БИОГРАФИЯ КАК ПАРАДИГМА ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: Вторые чтения памяти Вениамина Иофе: 16—18 апреля 2004. — СПб.: Норд-Вест, 2005. — 202 с. — 500 экз.
Содержание: Рейтблат А. Нравственные мотивации биографа; Беленкин Б. Маргинальные биографии: нарушение словарных схем; Дубин Б. Границы и ресурсы автобиографического письма; Риттершпорн Г.Т. Жизненный путь, индивид, масса, история, биография и автор; Колоницкий Б. Оскорбления императорской фамилии и антидинастические «народные» слухи эпохи Первой мировой войны; Сорокина М. «Свидетели Нюрнберга»: от анкеты к биографии; Митцнер П. Историк литературы и биография; Божков О. Население биографии: свои и чужие; Флиге И. Гулаг как создатель биографического источника. Биографии Гулага: норма и маргинальность; Цветаева Н. Ценностное измерение биографических нарративов; Петровская Е. Фотография в биографическом контексте; Кузовкин Г. Принуждение к исчезновению: по материалам ведомственных инструкций НКВД—МВД (1930—1950-е); Шор-Чудновская А. Политическое значение биографического метода; Елисеев Н. Стрельников — Сокольников. Эхо биографии народного комиссара финансов в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго»; Марголис А. Биобиблиографический словарь политкаторжан второй половины XIX века; Морозов К. «Социалисты и анархисты — участники сопротивления большевистскому режиму…»: методологические и источниковедческие проблемы составления словника; Северюхин Д. «Самиздат Ленинграда. 1950—1980-е»: опыт литературной энциклопедии; Шилов Д. Биографика в региональных энциклопедиях; Божков О. Эскиз биографии (портрета) друга: Валерий Борисович Голофаст (1941—2004).
DE LA LITTÉRATURE RUSSE: Mélanges offerts àMichel Aucouturier / Publiés sous la direction de Catherine Depretto; préface de Viatcheslav Vs. Ivanov. — Paris: Institut d’études slaves, 2005. — 520 p. — (Culture & sociétés. De l’est 42).

Содержание: Depretto Catherine. Avant-propos; Иванов Вяч.Вс. Вместо предисловия; Autoportrait d’un slaviste [Беседа К. Депретто с М. Окутюрье]; Гаспаров Михаил. Мишель Окутюрье и французская силлаботоника; Жолковский Александр. Русское инфинитивное письмо на rendez-vous: Фет/Мюссе; Пастернак Елена, Пастернак Евгений. Толстовская критика Шекспира и ее значение для Пастернака; Proyart Jacqueline de. Lyrisme de temporalitédans Le Docteur Jivago; АннаХан. Заметкикпонятию«метонимического героя» в эстетической концепции и художественной прозе Бориса Пастернака; Иванов Вяч.Вс. «Изувеченный» (le mutulé) в описании бунта в романах Пушкина и Пастернака; Nivat Georges. Essai sur la rencontre poétique d’AndreïBiély et d’Ossip Mandelstam; Struve Nikita. Le mystère Innokenti Annenski; Henry Hélène. Les poèmes sous les poèmes: «Le trèfle humoristiqueèd’Innokenti Annenski; МихайловАндрей. Из наблюдений над «маленькой поэмой» Сергея Есенина «Возвращение на родину»; Sémon Marie. Anna Akhmatova, l’orante; Lossky Véronique. Akhmatova, Tsvétaeva et le politique; Флейшман Лазарь. Поэтесса-террористка; Lanne Jean-Claude. L’avant-garde ressuscitée: le statut de l’avant-garde dans la Russie postsoviétique; Backés Jean-Louis. Eichenbaum et le mot «symbolisme»; Niqueux Michel. Un ma-nifeste antiformaliste: «Le mont Chauve» de S. Klytchkov (1922—1933); Galmiche Xavier. L’«autre défamiliarisation» de la litttérature expressionniste tchèque; Hel-ler Leonid. Des signes et des fleurs, ou Victor Chklovski, Broder Christiansen et lа «sémiologie formaliste»; Pozner Valé-rie. La fin du baroque et l’art de la continuité. Victor Chklovski des années vingt aux années trente: un virage théorique?; Depretto Catherine. «Notre amitiéest ancienne et salée»: la correspondance des formalistes russes; СмирновИгорь. Поздний романтизм и авангард-2 (Об одном источнике Козлиной песни Константина Вагинова); Breuillard Jean. Le Doscours sur l’éloquence de Vassili Tre-diakovski; БочаровСергей. Петербургскоебезумие; Monnier André. Nouveaux regards russes sur Pouchkine; Catteau Jacques. «La beautésauvera le monde»; Troubetzkoy Laure. Le retour de la pro-vince russe: du «texte pétersbrourgeois» aux «testes locaux»; ЧудаковаМариэтта. НаполяхкнигиМ. Окутюрье Le Réalisme socialiste ииныхегоработ; Theinhardt Markéta. Réalisme socialiste et surréalisme: Karel Teige; БелаяГалина. Ложнаябеременность: [ПрозаИ. Эренбурга]; Cadot Michel. Nous autres d’Evguéni Zamiatine ou la contreutopie prophétique (Remarques sur la réception de Zamiatine en France); Epelboin Annie.Écriture, censure, autocensure dans l’oeuvre de Platonov; Autant-Mathieu Marie-Christine. Le système de Stanislavski: avatars d’une théorie du jeu; Abensour Gérard. Meyerhold face à Pouchkine; Мейлах Михаил. Детективный Пушкин, или История одного преступления; Buhks Nora. Comment être heureux ou l’idéologie de la soumission: Tolstoïet Tchernychevski; Conte Francis. Symbolique de la barbe dans la culture russe; Bérard Ewa. Le «rétrospectivisme» du Monde de l’Art et le Paris fin de siècle; ПесковАлексей. Русская идея русской историософии: Истоки и смысл русского коммунизма Н.А. Бердяева; Scherrer Jutta. L’«Âge d’argent» revu par la «culturologie» russe; Berelowitch Alexis. Eléments pour l’histoire d’une génération; Bibliographie des travaux de Michel Aucouturier.
Гончарова О.М. ВЛАСТЬ ТРАДИЦИИ И «НОВАЯ РОССИЯ» В ЛИТЕРАТУРНОМ СОЗНАНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА. — СПб.: Изд-во Христианского гуманитарного ун-та, 2004. — 381 с. — 3000 экз.

Название книги О.М. Гончаровой рассчитано на специалистов: для профессионального историка литературы подобного рода «вечные» темы продолжают звучать заманчиво, обещая, как минимум, подтверждение или опровержение собственных гипотез… Книга, однако, предназначена для другой аудитории, к сожалению, не всегда способной разглядеть интригу в «скучном» названии, — для студентов, которым ее наверняка порекомендует преподаватель в качестве дополнительного учебного чтения. Учебного потому, что результат исследования не противоречит сложившемуся в научной литературе представлению о синтетическом образе России, выработанном русской культурой конца XVIII в., когда «старое и новое, русское и европейское, прошлое и современность сливаются в неразрывном целом» (с. 315). Показано это, что существенно, на программном материале (Херасков, Фонвизин, Радищев, Карамзин), уже знакомом студентам-филологам и не нуждающемся в популяризации. Именно эта аудитория и названа в аннотации к изданию как наиболее предпочтительная, что свидетельствует о точном видении автором и своего читателя, и жанра, в котором книга написана. В этом ее бесспорное достоинство. Книгу О.М. Гончаровой можно рассматривать как модель нового вузовского учебника, емкого и точного, в котором концептуально обобщено главное, сказанное наукой о дихотомии свое—чужое в русской культуре конца века, и предложен свой ракурс ее прочтения.
Смысловой осью книги О.М. Гончарова делает идею пути — ментального освоения «национального» пространства (географического / культурного / духовного). В этом смысле выбор материала более чем оправдан: первая глава, «Литературное открытие русского пространства: Россия в записках путешественников XVIII века», посвящена жанру «путешествий», наиболее, как считает автор, «показательному литературному явлению времени» (с. 16). В фокусе авторского интереса — специфика осмысления русского пространства писателями-путешественниками. Из достаточно обширного списка выбирается несколько имен: М. Невзоров, Ф.В. Растопчин, М.Н. Муравьев, П. Сумароков и в наибольшей степени М.Н. Карамзин, тексты которых, главным образом, и анализируются. Твердо обозначена и референтная для автора научная традиция: Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, В.Н. Топоров, М.Б. Плюханова. Речь идет, однако, не столько о географической России, сколько о формировании в рамках путевого жанра «нового национального сюжета», обращенного к собственному культурному прошлому: «Казань для Невзорова это прежде всего город древнего Казанского царства <…> путешествие по России позволяет видеть своеобразное пространство между прошлым (чаще всего забытым или дискредитированным как отвергаемое старое в новой культурной парадигме) и настоящим, между древностью и современностью» (с. 39— 40). В роли другого или чужого здесь выступает национальное прошлое, культурный разрыв с которым снимается в тексте «путешествий»; «Сведения исторического, этнографического или статистического характера <…> становятся общезначимым основанием для диалога с другим, т.е. забытым или непознанным собственным» (с. 40). Идеальной питательной средой, по мысли Гончаровой, для подобного диалога становится жанровая специфика — сентиментальность — «путешествий». Прошлое реанимируется «чувствительностью», воображением, памятью путешественника, т.е свойственной жанру напряженной рефлексией по поводу увиденного. Этот акт переводит описываемый объект в новую ценностную категорию, в достояние внутреннего мира, «пейзаж души», как позже назовет это Жуковский. Таким образом, дихотомия свое — чужое (старое — новое) интересует О.М. Гончарову, прежде всего, как возможность ее преодоления в ментальном пространстве, в поле «национальной авторефлексии» (с. 51).
Содержание второй главы, «Возвращение к себе как национально-религиозное возрождение в русской масонской мистике XVIII века», продолжает заявленный сюжет, поначалу оставаясь в рамках известных масонских текстов и их научных интерпретаций (Тукалевский, Лонгинов, Флоровский, Г.В. Вернадский). Идея духовного восхождения, в мистической литературе традиционно ассоциировавшаяся с возвращением = дорогой к внутреннему Храму, понималась русскими розенкрейцерами, считает О.М. Гончарова, как обращение к собственным религиозным и национальным истокам. В этом, по ее мнению, состоит одно из основных культурно-философских завоеваний русского масонства XVIII в. В присущем масонскому мировоззрению идеологическом синкретизме, преломившем «свое и чужое, прошлое и настоящее, личность и государство, духовное и мирское» (с. 60), О.М. Гончарова, вслед за Тукалевским, усматривает концепт новой «русской идеи», противостоящей современной церкви и официальной культуре XVIII в. Масонские поиски «внутренней Церкви» и путей «самопознания» манифестировались, считает О.М. Гончарова, как национальное самообретение и в этом смысле носили «компенсирующий характер для русского самосознания, ищущего национальной и религиозно-духовной <…> идентичности» (с. 69).
Сказанное могло вызвать сомнения и вопросы, если бы не материал, который выбирает О.М. Гончарова в качестве примера художественного воплощения этих идей. Это поэма М.М. Хераскова «Владимир Возрожденный». Вообще надо заметить, что, как только перед глазами исследовательницы оказывается художественный текст, чтение книги становится по-настоящему увлекательным. М.М. Херасков — фигура у филологов непопулярная. В действительности же — писатель непрочитанный (нерасшифрованный) и потому недооцененный. Глава о Хераскове одна из лучших в книге. О.М. Гончарова рассматривает поэму в контексте эпической трилогии о Петре («Плоды наук»), Иване Грозном («Россияда») и Владимире Святом («Владимир Возрожденный»), определяя их как «особый эстетический феномен, лишь внешне связанный с национально-историческим повествованием» (с. 71—72). На самом деле перед нами модель русской истории и культуры, которая отражает основную идею масонской религиозно-мистической историософии — идею рекурсивности и подобия, «возвращения к “началу”, истокам, собственному Я, к тем первоосновам национально-исторического и религиозного бытия, которые заложены “святым просвещением” Владимира» (с. 91—92). «Все три поэмы с их аналогичной структурой составляют своеобразный цикл и читаются в обратном порядке, эксплицируя идею возвращения и повтора: Петр повторяет Иоанна и Владимира, Иоанн — Владимира, Владимир — Христа» (с. 91). Не менее важным, по мнению О.М. Гончаровой, является и то, что в обратном порядке пишет их и сам Херасков, проходя тот же путь в своих национально-религиозных рефлексиях. «Таким образом, — заключает исследовательница, — историософская концепция Хераскова акцентирует внимание на повторяющейся ситуации кризиса-порога, который разрешается каждый новый раз новым “первотворением”, “новым царством”. Каждая “новая держава”, хотя и созданная в ситуации катастрофы, описывается как усвоение прежних, внутренне присущих идеалов и ценностей» (с. 91). В этом и состоит, по Гончаровой, национальная специфика русского масонства, для которого «возвращение в историю становится формой обретения себя, способом <…> национального соединения и познания сокровенной Истины» (с. 94). Все прочее — от анализа символики до определения поэтического алгоритма текстов Хераскова — сделано с безупречной точностью и внутренним видением материала. К этому необходимо добавить, что под таким углом творчество Хераскова до сегодняшнего дня, как ни удивительно, не рассматривалось, хотя религиозно-мистический характер его сочинений был очевиден.
Убежденность, с которой О.М. Гончарова развертывает свою концепцию, может порой показаться навязчивой: многое, само собой выходящее на поверхность, — очевидно и, в общем, не требует столь тщательной проработки. Подобная чрезмерность (=избыточность) может быть связана с «осознанной необходимостью» обращения к материалу, который ни при каких условиях не может быть в данном контексте проигнорирован, как, например, творчество Радищева и Карамзина. Так это или нет, но порой присущее автору чувство ответственности (хочется сказать, долга) приводит к «интеллектуальной» перегруженности текста. Такое ощущение оставляет глава-монография о Радищеве («Опыт европейской философии и традиции русской духовности в творческих исканиях А.Н. Радищева»), и, главным образом, ее первый раздел «Философское мышление А.Н. Радищева и его эстетическая реализация в художественном пространстве—времени», который и стилистически и психологически выпадает из общего полотна книги. Язык О.М. Гончаровой ясен и плотен, в нем равно и счастливо сочетаются высокий профессионализм, сдержанность и обаяние. Первая же часть главы о Радищеве написана холодно и броско и воспринимается как «чужой голос», озвучивающий «неродной» материал, хотя речь идет как раз о «Путешествии из Петербурга в Москву» (достаточно наткнуться на такие нетипичные для автора стилистические жесты, как «псевдомиметизм просветительской прозы» или «Радищев <…> конгениально использовал и реализовал философию факта»). Хотя именно в этой части проблематика книги погружается в общественно-политический контекст эпохи, и возникает выведенный в название образ заблудшей и другой «новой России», явленной Радищевым в «Путешествии». Во втором разделе главы («Национальные духовные традиции и концепция человека в творчестве А.Н. Радищева») О.М. Гончарова «возвращается к себе» и повествование обретает прежнюю органику: Радищев становится живым, человек естественным и, значит, истинным, «Путешествие» — «путем к внутреннему самопознанию русской личности» (с. 202), что, в представлении О.М. Гончаровой, неразрывно связано, так как сама идея естественного человека, главная идея Просвещения, по ее мнению, «превращается у Радищева в концепцию национального человека, чья связь с естеством определена его принадлежностью к естественным традициям многовекового русского духовного опыта» (с. 213). Многомерность антропософии и самой личности Радищева вырастает из точно высвеченных автором и глубоко воспринятых Радищевым «Жития протопопа Аввакума» и религиозной антропологии Г. Сковороды.
Заключительная глава, также близкая по форме к монографии, посвящена творчеству Карамзина («Образ целого национальной культуры в творчестве Н.М. Карамзина»). В этой обширной главе все сделано честно и добротно, много Лотмана и Успенского, еще больше, соответственно, Карамзина, и вся она посвящена, собственно, комментарию к его фразе о том, что Россия должна быть «целой» и тогда «ход вещей сделается правильным постоянным; новое и старое сольются в одно». С этих слов глава и начинается. Приблизительно ими же заканчивается книга. По-настоящему ценным представляется в этой главе первый раздел — «Текстуальное целое в творчестве Н.М. Карамзина 1790-х гг. как единство формосмысла», где, надо сказать, также ощутимо присутствует личность исследовательницы. В ней предложено и осуществлено то, что сама О.М. Гончарова называет «исследовательской стратегией», применение которой в данном случае представляется убедительным и эффективным. Перед нами комплексный подход к анализу журнального десятилетия Карамзина, которое автор предлагает рассматривать не только в перспективе интересующей ее проблематики, но и как единую программу авторских замыслов от «Московского журнала», «Аглаи», «Аонид», через «Пантеон иностранной словесности» и «Вестник Европы» до «Истории государства Российского» (раздел «Исторический облик целого культуры в “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина»). Такой ракурс открывает новую перспективу в осмыслении материала. И по-новому разворачивает к нам Карамзина.
В заключение несколько слов о третьей главе книги («Национальные традиции в инновационных текстовых моделях русской литературы XVIII века (комедия И.А. Крылова “Подщипа”»). Ничего общего с громоздким и неэлегантным названием содержание главы не имеет: она, на наш субъективный взгляд, — главная изюминка и самая большая удача книги. О.М. Гончарова дает совершенно оригинальную и захватывающую трактовку комедии Крылова, переворачивая традиционные представления о ее знаковой и эстетической природе, истинных причинах цензурного запрета и пр. и безупречно вписывая в общую концепцию исследования. Поставленная между Херасковым и Радищевым, глава о «Подщипе» производит эффект освежающего душа, покоряя филигранностью филологического анализа, зоркостью и научным остроумием. Нет сомнения, что этот материал будет широко востребован профессиональной аудиторией.
Таким образом, новая российская словесность предстает в книге О.М. Гончаровой сферой «реализации национальной памяти о себе», о своих корнях, создавая «емкий дискурс» о России как едином «родовом доме», объединяющем культурные полюса и восстанавливающем распавшееся в начале XVIII столетия «национальное Я».
Л.О. Зайонц
Полевой Н.А. КОМЕДИИ И ВОДЕВИЛИ / Сост., вступ. ст., коммент. С.В. Денисенко. — СПб.: Гиперион, 2004.— 624 с. — 3000 экз. — (Российская драматическая библиотека. IV).
Первые три тома «Российской драматической библиотеки» были посвящены драматургам XVIII и самого начала XIX в. — П.А. Плавильщикову, Я.Б. Княжнину и И.А. Крылову. Очередной том включает пьесы более позднего периода — 1830—1840-х гг. При этом Н. Полевой представлен не историческими мелодрамами («русскими былинами»), которыми он составил себе имя в драматургии («Дедушка русского флота», «Иголкин, купец новгородский», «Ломоносов, или Жизнь и поэзия», «Параша Сибирячка» и др.) и с которыми ассоциируется у историков театра и литературы его театральная деятельность, а комедиями, жанром для него достаточно маргинальным (достаточно упомянуть, что «Ермак Тимофеевич» и «Параша Сибирячка» прошли при его жизни в Александринском театре более 50 раз, а самая популярная из его юмористических пьес — «Комедия о войне Федосьи Сидоровны с китайцами» — всего 10, другие же комедии и водевили — вообще всего по 2—3 раза).
Однако у подобного нетривиального выбора могут быть свои основания. Во-первых, он дал возможность представить читателю совершенно забытую сторону творчества Полевого (причем 5 пьес — переводы и переделки с французского — публикуются впервые), а во-вторых, на мой взгляд, читательски сейчас его комедийные пьесы воспринимаются с гораздо большим интересом, чем драмы и мелодрамы. Все-таки Полевой — выдающийся журналист, талантливый критик и прозаик, а драматург он достаточно средний. Но, в отличие от исторических пьес, его комедии содержат богатый бытовой материал и ценны в этом аспекте.
Вот, например, «Чересполосные владения» (1838) — водевиль с элементами сатиры (высмеян уездный стряпчий), в котором, что любопытно, не привычная любовная, а социальная мотивировка — межевание. Для социально-критической тональности пьесы характерна, например, такая реплика одного из персонажей: «Тяжба во всяком случае хуже дуэли, когда соперник ваш богат, а вы бедняк. <…> Дуэль — что ж такое? Там случай решит, а тут ассигнации всегда прямо попадают в карман судьи — случая нет, и — тот верно выиграет, кто выстрелит в секретаря хорошим зарядом беленьких…» (с. 18). В комедии «Отец и откупщик, дочь и откуп» (1841) высмеяны купцы-откупщики. Кандидат в откупщики так, например, характеризует свою будущую деятельность: «Стану лгать, обманывать, клясться, лить воду в вино, обирать целовальников, поведу двойные книги, велю обмеривать, подталкивать, продавать дороже, лишками делиться с кем надобно…» (с. 115). А уже разбогатевший откупщик хочет заказать свой «портрет, так, во весь рост, как есть, во всей арматуре», причем художник должен быть итальянцем, немцем или французом, но ни в коем случае не русским (с. 82). В водевиле «Выборы, или За спором дело стало» сатирически изображена закулисная механика выборов дворянского предводителя.
В комедии «Страшная тайна» Полевой, один из самых увлеченных адептов романтизма в России, по сути, высмеивает оба извода российского романтизма. Помещик Ягунов воплощает романтизм «неистовый» (из его лексикона: «кровавой местью заплатить за оскорбление», «упиться кровью гнусного обольстителя», «зарезать, умертвить, уничтожить его», с. 221), а помещик Щелкушкин — мечтательный, он своим идеализмом смахивает на Ленского. Любопытно, что написана эта комедия в 1843 г., году переломном, когда после выхода в 1842 г. гоголевских «Мертвых душ» (которые, впрочем, Полевой подверг резкой критике) стала очевидна исчерпанность поэтики романтизма в русской литературе.
Заметное место в представленных пьесах занимает литературная проблематика. В комедии «Первое представление “Мельника, колдуна, обманщика и свата”» она вообще на первом плане (в число основных действующих лиц входят Сумароков, Тредиаковский, Аблесимов), как и в переведенной Полевым пьесе Мольера «Критика на “Школу женщин”».
В пьесе «Комедия о войне Федосьи Сидоровны с китайцами» выведен и высмеян русский поэт-эпигон классицизма Грамоткин и китайский поэт Мяу-Бяу-Пхун, оба предельно сервильные и склонные воспевать власть.
Нередко Полевой характеризует персонажей, показывая их отношение к книгам и литературе. Так, купец-откупщик (в пьесе «Отец и откупщик, дочь и откуп») считает, что стыдно быть изображенным на портрете с книгой (с. 83), а его дочь признается: «Я ничего не читаю — что это: лир [читать (фр.)] — прослыть синими чулками! Ведь мне не гувернанткой быть!» (с. 88). Помещица же из комедии «Чересполосные владения», напротив, начиталась книг Радклиф и Жанлис и, естественно, увлекается приезжим, который читает романы, пишет романсы и у которого к тому же имя такое же, как у героя популярного романа.
Комментарий к пьесам подготовлен старательно, но несколько по-школьному, т.е. комментируются Амур, Афродита и Парнас (с. 566, 567), гиль (с. 569), браво (с. 570) и даже ревматизм (с. 575), балык, кулебяка (с. 559) и тяжба (с. 560), но при этом не поясняется, что слово сказка (с. 139) употреблено Полевым в значении рассказ, описание событий. Метафизику комментатор определяет как «метод мышления, противоположный диалектике, рассматривающий явления действительности не в их развитии и взаимосвязи, а в состоянии покоя, разрозненно» (с. 591), дословно выписав определение из старого «Словаря иностранных слов» (см., например, 17-е издание. — М., 1988. С. 306). Но дело в том, что подобное понимание метафизики стало общепринятым в марксистской традиции, во времена Полевого так называли учение о сверхчувственных принципах и началах бытия.
На с. 578 С. Денисенко пишет о «выборах в губернские предводители, которые осуществлялись уездным дворянским собранием <…>», что неверно. Уездное дворянское собрание избирало уездного предводителя, а губернское дворянское собрание избирало кандидата на пост губернского предводителя. Его еще должен был утвердить губернатор. Вот почему героиня, считающая, что этого поста достоин только ее муж, тем не менее волнуется, «не заупрямится ли губернатор» (с. 168; комментатор эти слова никак не поясняет).
Раскрывая анонимы и псевдонимы, комментатор почему-то не указывает, что Л.Л. (с. 572) — это псевдоним В.С. Межевича, хотя это было легко установить по словарю псевдонимов Масанова, анонимная рецензия в «Северной пчеле» в 1842 г. (с. 577) приадлежит ему же (см.: Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 562). Большую анонимную рецензию на «Драматические сочинения и переводы» Полевого, помещенную в журнале «Репертуар и Пантеон», С.В. Денисенко предположительно атрибутирует И.П. Песоцкому на том основании, что он был издателем этого журнала. Однако Песоцкий был только издателем и на литературной ниве не подвизался. Странным образом исследователь забывает, что в 1844 г. у Песоцкого был соиздатель по журналу, к тому же являвшийся его редактором. Это все тот же Межевич, и, видимо, ему и принадлежит данная рецензия. На с. 565, цитируя отклик рецензента, С.В. Денисенко передает подпись под рецензией в «Северной пчеле» в 1839 г. как «Ф. -ин» и указывает, что это псевдоним Ф.В. Булгарина. Но у Булгарина такого псевдонима никогда не было. На самом деле рецензии в газете подписывались «Ф. —ни», и автором их был журналист и драматург Ф. Кони.
Предисловие к тому в значительной степени носит компилятивный характер, но некоторое представление о драматургии Полевого и о степени ее изученности (точнее — неизученности) оно дает.
А.Р.
Ф.И. ТЮТЧЕВ: Школьный энциклопедический словарь / Сост. Г.В. Чагин. — М.: Просвещение, 2004. — 440 с. — 5000 экз.
Фолиант в коричневом переплете с портретом поэта вызывает что-то похожее на благоговение: разделы и рубрики охватывают почти все стороны жизни и творчества поэта, словарь богато иллюстрирован.
Том открывается статьей В.И. Коровина «Поэзия Тютчева». Здесь дается периодизация творчества поэта, группируются по темам его стихотворения. Вызывает сомнение категория «ночная лирика», ибо ею объединены стихи из других категорий: философской, пейзажной, любовной. Историко-литературные, историософские рассуждения, раскрывающие понятие «художественный мир Тютчева», изложены четким академическим языком, но удивляет «дозировка» материала: около 18 страниц отведены религиозно-политическим идеям в произведениях Тютчева, примерно 10 — пейзажной лирике, а на характеристику любовных стихотворений и жанрово-стилевого своеобразия поэта автору хватило и пяти. Тенденция налицо! В этом еще более убеждаешься, когда читаешь статью Л.В. Тодорова «Общественно-политическая лирика Тютчева». Написанная эссеистическим стилем, она полна эмоциональных всплесков и преувеличений. Например, рассматривая стихотворение Тютчева «Неман», автор заявляет, что 1812 г. имел для Федора Ивановича «непреходящее значение», хотя известно, что поэт-мыслитель отреагировал на это событие русской истории достаточно вяло.
Далее читатель ждет описания пейзажной и любовной лирики. Но, увы, этих рубрик нет. Следует статья того же автора «Лирические персонажи Ф.И. Тютчева». Это — «выдающиеся политики XIX в. и великие творцы русской литературы». Всего 20 персоналий. А потом еще «многочисленные адресаты проникновенных и трепетных стихотворений Тютчева» (с. 46).
И вот главный раздел энциклопедии (почти полторы сотни страниц) «Анализ стихотворений», выстроенный в алфавитном порядке. Рассмотрено 275 стихотворений. Список неполный, но для школы — и это перебор; если этот список сократить раз в пять, то получится примерно то, что нужно учащимся. В основной части словаря не представлены такие шедевры, как «Не говори: меня он, как и прежде, любит…», «Есть и в моем страдальческом застое…», «Как над горячею золой…», «Нет, моего к тебе пристрастья…», «Пошли, господь, свою отраду…». И в то же время базовая глава перенасыщена политической лирикой. Но не все из 50 политических стихотворений поэта «отличаются не-превзойденной образностью» (с. 41), как уверяет юного читателя Л. Тодоров.
В этом разделе серьезный анализ предлагают человек пять — Т.А. Алпатова, А.М. Марченко, В.В. Никульцева, И.О. Шайтанов и С.С. Шумилова. Большинство же авторов, похоже, поняли свою задачу упрощенно: анализ художественной структуры они подменили скучными текстологическими сведениями, перенесенными сюда из известных однотомников и двухтомников Ф.И. Тютчева, и в то же время поставили перед собой цель приподнять сегодняшних школьников над филологическим уровнем Евгения Онегина, который не мог отличить ямба от хорея. Лишь немногие исследователи, прежде всего А.М. Марченко, учат читателей понимать и типовую и индивидуально-контекстную содержательность стиховой формы.
В конце словаря представлены давным-давно написанные статьи «Ф.И. Тютчев в музыке конца XIX — начала ХХ в.» (С. Дурылин) и «Тютчев — переводчик» (К. Пигарев). Стержневая же часть справочника подготовлена «московской школой», хотя ясно, например, что разбор стихотворения «Умом Россию не понять…», выполненный Б.Ф. Егоровым в 1977 г., лучше предложенного Ф.В. Тарасовым, а анализ стихотворения «Тихой ночью, поздним летом…» (И.А. Киселева, Л.С. Титова) уступает в меткости и проникновенности комментарию Н.Я. Берковского (1962). По толкованию «религиозных» исследовательниц получается, что прелестная миниатюра написана не потому, что поэт был растроган и умилен лунной ночью по дороге в Овстуг, а потому, что набожный начетчик Тютчев наконец-то подыскал пейзажную иллюстрацию к двум-трем библейским фразам.
Удручают, наконец, в основной части словаря (как, впрочем, и в других разделах) «темные пятна» стиля. Если шараду из шестнадцати строчек, сочиненную М.А. Розадеевой (с. 87), еще можно разгадать при известном профессиональном опыте, то ребус Г.В. Чагина вообще непостижим. Судите сами: «То, что стихотворение это (“Я встретил вас — и все былое”. — В.П.) действительно относится к графине Амалии Максимилиановне Лерхенфельд, подтверждается простым тематическим сопоставлением с стихотворением “Я встретил вас — все былое”» (с. 84).
Раздел «Публицистика» написан Б.Н. Тарасовым. Исходная позиция его выражена в следующих словах: «Для адекватного восприятия историософии и публицистики Тютчева необходимо иметь представление о целостном и полноценном горизонте и контексте его мысли, в котором свое место занимает и своеобразие личностных устремлений поэта» (с. 188). Создавая такое представление, исследователь оказался в цейтноте, и разговор о конкретных статьях Тютчева свелся к скороговорке. Кроме того, тут не сказано ни слова о мастерстве Тютчева-публициста. Грустно наблюдать, как талантливый исследователь следует в русле религиозно-политического конформизма наших дней.
Раздел «Письма», подготовленный составителем, сначала обнадеживает. Тут приводятся суждения о тютчевском эпистолярии И.С. Аксакова и А.С. Пушкина. Первый из них свидетельствовал: «Письма Тютчева, собранные вместе, стоили бы любого серьезного, многотомного литературного произведения». Сам Г.В. Чагин говорит, что «впервые записочки Погодину несут в себе подобные элементы классического письма». Какие именно подобные? Ограничившись далее тремя цитатами из посланий Тютчева, автор статьи пустился в пространные текстологические и арифметические выкладки, а закончил работу тематическим распределением писем. А ведь можно бы сказать о тютчевских зачинах, фабульных переходах, концовках, ритмико-интонационном строе. Некоторые его письма — например, к родителям об Элеоноре — звучат как стихотворения в прозе.
Информация о роли цензуры в жизни Ф.И. Тютчева изложена Г.В. Чагиным обстоятельно и с интересными гипотезами.
Наиболее же удачной, если учитывать ориентацию на школу, нам представляется глава «Ф.И. Тютчев и мифология». После лаконичного обоснования выбора темы С.М. Телегин дает словарик античных богов в восприятии Ф. Шеллинга и Ф. Тютчева. Логическим продолжением справочного списка становится параграф «Мифологическое сознание и натурфилософия в поэзии Тютчева». Отчетливо объясняются читателю категории «пан-теизм», «анимизм» и «антропоморфизм», а затем они иллюстрируются 50 стихотворениями Тютчева.
Глава «Ф.И. Тютчев и православие», написанная М.А. Розадеевой, нужна в подобном словаре, но, к сожалению, она не характеризует широкий спектр религиозных мотивов поэта. Раскрывает автор свою тему старательно, но тенденциозно. Если во времена расцвета вульгарного социологизма за каждым кустом усматривали царя, то теперь М.В. Розадеева везде видит Бога. На нескольких страницах ряд назойливых повторов: «православный космос» захлестывает в ее Тютчеве все. Комментируя стихотворение «Е.Н. Анненковой», М.А. Розадеева пишет: «…этот текст на фоне близких ему картин рая В.А. Жуковского и М.Ю. Лермонтова поражает адекватностью (! — В.П.) изображения посмертного существования души» (с. 288). Поздравляем М.А. Розадееву и завидуем ей: она уже побывала в раю.
Рассмотрение историко-литературных аспектов творчества поэта открывается главой «Ф.И. Тютчев и русская литература XVIII — начала XIX века» (Т.А. Алпатова). Ранняя, зрелая и поздняя лирика рассмотрена в ее связях с поэтикой классицизма и неоклассицизма. Интересно прослежены «черты стилевого колорита», в частности античного, в стихотворениях «Probleme», «Поэзия», «Наполеон», «Колумб», «В Риме», «Mal’aria». Точность словоупотребления сочетается в этой главе с глубоким проникновением в художественную ткань произведений.
В составлении главы «Ф.И. Тютчев и русская литература второй половины XIX века» участвовало несколько исследователей. Вышло по пословице «У семи нянек…»: в этом времен-ном периоде оказались Е.А. Боратынский, Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, Н.М. Карамзин, М.Ю. Лермонтов, М.Н. Муравьев, но отсутствуют И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, А.А. Фет, Ф.М. Достоевский. Раз уж «вторая половина XIX в.» «вобрала» литературу XVIII и начала XIX в., то удивляет в этом ряду отсутствие К.Н. Батюшкова. От него ведь тоже протягиваются к Тютчеву «творческие нити»: что-то из «легкой поэзии» (например, мотив изящного сладострастия), экстатичность, «гедоническое восхищение южным миром» (Б. Бухштаб).
В разделе «Ф.И. Тютчев и русская литература ХХ в.» тоже есть лакуны: отсутствует Н. Заболоцкий, не названы многие поэты, продолжающие тютчевскую традицию (по мнению В. Кожинова, это Вас. Казанцев, Ю. Кузнецов, Е. Курдаков, Виктор Лапшин, Б. Сиротин; по мнению И.О. Шайтанова, — И. Шкляревский, А. Кушнер, Ю. Кузнецов, А. Прасолов, Н. Рубцов, Д. Самойлов).
Хотя в конце словаря приведена информация о музеях и библиотеках, носящих имя поэта, но статья В.Н. Касаткиной «Ф.И. Тютчев в критике и отзывах современников и потомков», по сути, является завершающей. Здесь мы находим около полусотни фамилий исследователей и перечень тематических сборников. Главное достижение тютчеведения 1980-х гг., по мнению автора, — это два тома «Литературного наследства» (1988—1989). Забыты, однако, монографии Я. Зунделовича, А.Л. Осповата; из перспективных молодых филологов проигнорированы И.В. Козлик, И.Б. Непомнящий. И вызывает возражение резюме: «Можно признать, что наступило время углубленного, без тенденциозности изучения творчества Тютчева и его судьбы» (с. 397). Не наступило, и вряд ли наступит! Если литература — «зеркало», то и литературоведение — тоже. Что отражает оно в данном случае? Православную клерикализацию и политизацию творчества Тютчева.
Итак, в содержащейся в словаре информации для школы слишком много (в количественном плане), для науки — мало. Получился какой-то красочный юбилейный недоносок.
В.Ф. Погорельцев
Зёльдхейи-Деак Жужанна. РОЛЬ НЕМЕЦКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ВЕНГЕРСКОЙ РЕЦЕПЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (XIX ВЕК). — München: Verlag Otto Sagner, 2004. — 130 s. — (Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik. Т. 46).
Темой исследования является посредническая роль определенной национальной культуры, ее языка — причем на протяжении, по существу, целого века — во взаимодействии литератур двух народов, далеких друг от друга в отношении языковом, отличающихся и тенденциями, и темпами литературного развития. Такой книги в славянской филологии еще не было.
Работа охватывает обе стороны своеобразия, отличающего ход восприятия в Венгрии XIX в. русской литературы: значение в этом процессе как немецких критических статей о ней, так и немецких переводов. Те и другие служили источником сведений — и самих текстов — для венгерских литераторов и переводчиков.
В первой главе рассматривается начальный этап — 1820—1840-х гг. В этот период выделяются статьи критика Ференца Тольди, основоположника венгерского литературоведения, сторонника — вслед за немецкими теоретиками искусства (Г.-Г. Гервинусом и др.) — романтического направления в нем. По немецким источникам Тольди первым (в 1828 г.) информировал венгерскую публику о русской поэзии, выделив Жуковского и поэмы Пушкина. А его ученик, писатель и переводчик Габор Казинци, не только продолжал в статьях 1838 и 1840 гг., опираясь на немецкие работы, сообщать венгерским читателям о еще неизвестных им произведениях В. Одоевского, Гоголя, Пушкина (называя «Пиковую даму», «Капитанскую дочку», «Повести Белкина» шедеврами русской прозы), но и сам перевел «Выстрел» (1844). Причем исследователь, соотнося этот перевод с предшествующим («Silvio», 1839, без имени автора, пер. Ф. Гёдри), указывает на большую близость перевода Казинци к пушкинскому оригиналу — и устанавливает причину этого, выявив еще один немецкий перевод-посредник (к которому последний и восходит!), более совершенный по сравнению с немецким источником Гёдри.
В главе анализируется также первое переложение на венгерский «Бэлы» Лермонтова (1841), сделанное писателем и фольклористом Яношем Кризой. Указывается на сокращение подробностей, характеризующих среду, мысли повествователя, отмечено сильное влияние в его стиле языка немецкого перевода-посредника (К.-А. Фарн-агена фон Энзе). Автор рассматривает здесь одновременное развитие в Венгрии самой теории перевода, место в ней принципов, сформулированных Тольди, в их соотношении с немецкими концепциями Ф. Шлейермахера и И.-В. Гёте, с мыслями В. Белинского.
Вторая глава — «Восприятие русской литературы в 1850—1860-е годы» — занимает, думается, центральное место в книге. В эти годы, как пишет автор, в Венгрии «начинается период более основательного ознакомления с русской литературой» (с. 27). При переводах продолжают доминировать немецкие тексты-посредники, но сами первоисточники сведений теперь привлекаются и более весомые, чем прежде. Как установлено Ж. Зёльдхейи еще в работе 1963 г., первая же статья о России и русской литературе после разгрома (с помощью царских войск) венгерской революции 1848—1849 гг., опубликованная анонимно в либеральной газете «Budapesti Hirlap» в апреле 1855 г., была переводом с немецкого отрывков из книги Герцена «О развитии революционных идей в России».
Здесь позволю себе заметить, что было бы интересно уточнить, с какого немецкого издания делался перевод: с журнального (под названием «Von der Entwicklung der revolutionäгеn Ideen in Russland. Aus dem russischen Manuskripte» работа печаталась в январе — мае 1851 г. в «Deutsche Monatschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», ред. А. Колачек; причем текст, по отзыву Герцена, был «искажен редакцией и переводчиком» — Герцен А.И. Собр. соч. М., 1961. Т. 24. С. 183) или с отдельного издания, вышедшего в Гамбурге, в издательстве Гофмана и Кампе, в конце мая 1854 г., уже с именем автора, но под смягченным по цензурным соображениям названием: «Russlands soziale Zustände» — и с изменениями в тексте (см.: Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1851—1858. М., 1976. С. 199). Предполагаю, что в руках венгерского переводчика оказалось именно второе — недавнее и компактное, книжное — издание, но точный вывод об этом, а следовательно, и о том, какие изменения внесены уже им при переводе на венгерский, — возможен лишь после сличения самих текстов.
Эти нюансы важны для дальнейшей конкретизации картины того углубления интереса к русской литературе в венгерском обществе и критике, значимым толчком к которому послужила статья Герцена. Но и теперь ясно: даже представленная анонимно, во фрагментарном и неточном двойном переводе, она доносила до читателя силу убеждения в гуманистической, художественной ценности этой литературы! Так, спустя немного времени сотрудник той же будапештской газеты Ф. Шаломон в споре на ее страницах с французским критиком Ж.-Ж. Ампером уверенно отстаивал самостоятельность русской литературы, указывая (в сущности, вслед за статьей Герцена) на оригинальность поэзии Пушкина, отнюдь несводимой к перепевам или влиянию Байрона. С оценками в этой статье Ж. Зёльдхейи соотносит усиление в венгерской литературной среде интереса к творчеству Лермонтова, Гоголя. В том же, 1855 г. вышел, в частности, «первый на венгерском языке русский роман» — «Герой нашего времени» в переводе с немецкого, выполненном поэтом Яношем Вайдой и публицистом Жигмондом Фальком.
Констатируя заметное увеличение с 1860-х гг. числа переводов и статей о русских писателях, автор отмечает «постепенно создающееся более дифференцированное и разнообразное представление о русской литературе» (с. 31—32). В анализе же «интересного и своеобразного» венгерского перевода гоголевской «Шинели» (1861) она выделяет новую тенденцию: стремление переводчика (им был крупный писатель «народно-национальной школы» Янош Арань) — при нейтральной стилистике немецкого перевода-посредника найти в родном языке, в его просторечии, диалектной лексике — соответствия стилистической манере Гоголя. Но и в этом случае Ж. Зёльдхейи остается верна чувству меры. Полемизируя с утверждениями о конгениальности стилистического мастерства венгерского перевода «Шинели» авторскому, она возражает против их необоснованной категоричности, ибо усиленный «фольклоризм» этого перевода ближе к стилю «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «не характерен» для «Петербургских повестей».
Большое внимание в этой главе уделено перипетиям появления в стране прозы Тургенева (начиная с переводов в 1858 г. «Муму», отдельных очерков «Записок охотника») — и вскоре, уже в 1860-е гг., завоеванию ею горячего интереса у венгерского читателя. Он «был первым современным русским беллетристом, обратившим на себя внимание венгров» (с. 35—36). Последовательность же освоения его романов, начатого не с «Рудина» (переведен в 1870 г.), а с перевода в 1862 г. «Дворянского гнезда» и положительной статьи о нем ведущего критика Пала Дюлаи, связанного с немецкой филологической традицией, — убедительно объясняется состоянием национального сознания и литературной ситуацией в стране. Лиризм романа, общечеловеческие аспекты его содержания, эмоциональность изображения любви, прекрасных картин природы были тогда ближе воспитанным на романтических произведениях венгерским читателям, чем проблемы отношений поколений и общественных группировок. (Потому перевод «Отцов и детей» вышел отдельным изданием в Будапеште лишь в 1889 г.)
Важное место в работе занимают сравнительные анализы отдельных стилевых компонентов венгерских переводов и их немецких текстов-посредников — в соотнесении с тургеневскими оригиналами (очерки «Свидание», «Касьян с Красивой Мечи», повести «Фауст», «Призраки»). Выясняются на конкретных примерах объективные сложности передачи смысловых тонкостей в замысле или характеристиках героев при этих двухступенчатых переводах, вызванные различиями в самих структурах языков или в стадиях их развития. И тем поучительнее обнаружить, как иными средствами, найденными в родном языке, достигается порой смысловая или эмоциональная близость к оригиналу. Вместе с тем, автор показывает, что небрежность в передаче переводчиком таких элементов композиции произведения, как эпиграф или стилистический лейтмотив, обедняет художественный смысл оригинала (см. на с. 47—48 о таких упущениях в немецком переводе Ф. Боденштедтом названных повестей, которые перешли, естественно, и в венгерский перевод М. Свенцицкого).
В этой же главе большое место уделено рецепции в Венгрии русской поэзии, ибо именно в 1860-е гг. начинается широкое знакомство с ней: выходят переводы ярких стихотворных произведений, опять-таки на основе немецких переводов-посредников. В появлении на венгерском многих из них — в том числе «Бориса Годунова», «Евгения Онегина» — велика роль Ф. Боденштедта (кстати, восторженного почитателя поэзии Петефи). Я. Арань, познакомившись со стихами Лермонтова по немецким переводам Боденштедта, на их основе, как убедительно доказывает Зёльдхейи, цитировал в одной из статей 1861 г. «Родину», чтобы, солидаризируясь с русским поэтом, выразить и свой протест против официального патриотизма. А его сын, поэт и критик Ласло Арань, в большой статье о Лермонтове (1866), включающей и переводы нескольких его стихотворений, прямо ссылается на Боденштедта как наиболее известного в Германии и мире переводчика и из его введения к книге переводов (Берлин, 1854) черпает биографические факты, отчасти творческие сопоставления. Но Л. Арань проявляет самостоятельность в соотнесениях ситуации в русской и венгерской литературах. В частности, он отмечает сходство между личноcтным характером, искренностью лирики Лермонтова и Петефи, отражающей страстность поэтов, их жажду свободы.
Переводы Боденштедта обратили к русской поэзии и взоры братьев Кароя и Имре Зилахи — поэтов, критиков, переводчиков. И. Зилахи издал первую в Венгрии антологию русской поэзии (1866), включившую пять поэм Пушкина, его стихи и «Бориса Годунова», а также «Мцыри» и «Демона» Лермонтова. Но в своем предисловии он, как и Л. Арань, не ограничил себя влиянием этого переводчика. Возможность свободнее судить о достоинствах русских поэтов укрепляется знакомством с суждениями и других немецких критиков (статью одного из них — Т. Опица — о Пушкине он перевел для будапештской газеты). Расширение информации способствует росту самостоятельности позиций венгерской критики в рецепции русской поэзии, в совершествовании требований к точности и благозвучности венгерских переводов.
Исключительную же важность для углубления этой рецепции и «для венгерской литератугы вообще», как показывает исследователь, сыграл перевод К. Берци «Евгения Онегина» (1866), «до наших дней считающийся шедевром венгерского художественного перевода» (с. 66). Переложив первые две главы с перевода Боденштедта, Берци понял, что «копия, сделанная с копии, выйдет <…> выцветшей», и принялся за изучение русского, прибегая далее к немецкому переводу лишь для контроля. Исследовательница показывает роль перевода Берци в создании в венгерской литературе жанра романа в стихах. С ним связано появление романов в стихах И. Зилахи, П. Дюлаи, Л. Араня, Д. Ревицкого и других писателей, прямо связывавших своих героев с пушкинским и с предысторией его характера. Это готовило венгерскую прозу к последующему изображению современных героев во взаимодействии со средой.
Пока же автор книги, верный принципу конкретности анализа перевода в сопоставлении с оригиналом, указывает на романтизацию стиля романа, начатую Боденштедтом и продолженную Берци, на смягчение или исчезновение иронии пушкинского текста и изменения в характеристиках героев, в частности упрощение образа Онегина: из русского «лишнего человека» он «превращается в сладострастного паразита». Вместе с тем, подчеркивает исследователь, именно благодаря «романтизации» перевода «Онегин» стал столь «близок к воспитанным романтической литературой венгерским читателям» (с. 71, 69).
В третьей главе, посвященной восприятию русской литературы в Венгрии с 1870-х гг. до начала XX в., рассматриваются те изменения в политической ситуации, которые повлияли и на характер литературных интересов. Обострение общественных противоречий в России, движение революционно-демократической молодежи «в народ», отражение ее протестных устремлений в понятии «нигилизм» — привлекли широкое внимание в Германии, Франции, а вслед за тем и в Венгрии. И хотя центральной фигурой русской литературы остается для венгров Тургенев, направление интереса к нему меняется. Читателя волнует теперь, в первую очередь, отношение писателя к нигилизму. По выходе «Нови» (1877) и вслед за тем двух немецких переводов роман в том же году выходит в венгерском переводе (К. Тёржа, «на основе немецкого текста-посредника»), притом сразу отдельным изданием.
Автор исследования полагает, что в 1880-е гг. наступает новый этап в рецепции русской литературы в Венгрии, связанный с выходом на арену молодого поколения писателей, которые настроены против академического консерватизма и провинциализма в литературе, против идеализации действительности народно-национальной школой, ратуют за более тесные связи с западными литературами и с современной русской прозой. А параллельно получает распространение натурализм во Франции и Германии, с его требованиями беспощадной правдивости в изображении неустойчивой действительности, с ее «переходными», душевно раздвоенными героями. Таким требованиям углубленного психологического анализа противоречивых характеров отвечали Достоевский и Толстой. На скрещении этих двух процессов литературной жизни — в Венгрии и Германии — и рассматривает Ж. Зёльдхейи первые, по существу, шаги к знакомству венгерского читателя с ними (предшествующие упоминания и даже отдельные переводы, статьи о них прошли незамеченными).
Завоевать читателя им предстояло лишь в следующем веке. Но «настоящее ознакомление» с Достоевским все же происходит в тематических пределах рассматриваемой книги — с выхода в 1888 г. «Преступления и наказания» в переводе Эндре Сабо (журнальный вариант — с названием, соответствующим оригиналу, отдельное издание — «Raszkolnikov», как в немецком переводе В. Генкеля). Первый венгерский перевод «Войны и мира» (на основе французского посредника) вышел в 1886 г., получив резко отрицательную оценку критики из-за грубейших ошибок и искажений текста. Во всех отношениях слабое переложение «Анны Карениной» на венгерский в 1887 г. с плохого немецкого перевода превратило произведение в ординарный любовный роман, а расширение круга владеющих русским в среде литераторов привело к рецензиям, полным возмущения «таким подходом к шедевру <…> одного из королей мировой литературы». Но подобные отзывы уже сами по себе знаменательны для будущего. Интересны и малоизвестные сведения о последующем распространении в Венгрии толстовского учения венгерско-немецким философом и общественным деятелем Й.-Г. Шмит-том.
За основным корпусом книги следует Приложение, в котором рассматривается иная форма иностранного (в частности, немецкого) посредничества в творческом процессе венгерского писателя, избирающего темой русскую жизнь. Анализ произведений Мора Йокаи «Роман будущего столетия» (1874) и «Свобода под снегом» (1879), истории их создания выявляет значительную роль немецких исторических, географических справочников и иных научных изданий для воссоздания российских реалий — при свободном пользовании их сведениями в утопическом сюжете первого — и вымышленных фабульных эпизодах второго, посвященного эпохе Александра I, декабристов, Пушкина («впервые представшего перед венгерским читателем как близкий к декабристам поэт свободы», с. 110).
Итак, перед нами книга, охватывающая единым внимательным взглядом процесс почти векового развития венгерской литературы — под углом зрения участия в этом процессе русской литературы в ее собственной динамике. Притом исследователь имеет дело с восприятием в разных кругах интеллигенции Венгрии иноязычных текстов, далеких по языку и отражаемым национальным реалиям. Таким образом, венгерская ситуация предоставила исследователю возможность изучения сложнейших форм взаимодействия двух литератур, исторически протекавшего через посредство третьей. Думается, проведенный в книге анализ открывает новые перспективы в исследовании определенных закономерностей развития мировой литературы.
С.Д. Гурвич-Лищинер
Успенская А.В. АНТИЧНОСТЬ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ВТОРОЙ ПОЛО-ВИНЫ XIX ВЕКА. — СПб.: Библиотека Российской академии наук, 2005. — 364 с. — 300 экз.
Книга принадлежит к очень интерес-ному и чрезвычайно распространенному жанру: это «монография для докторской диссертации» — сочинение, призванное служить подтверждением прав диссертанта претендовать на докторскую степень. А поскольку защита диссертации предполагает обращать внимание на «актуальность и новизну», на «вклад в науку, сделанный лично соискателем», и тому подобные скучные вещи, то и книга оказывается часто, что называется, «не живой»…
Приятно, что в данном случае монография, посвященная интерпретации роли античности в истории русской поэзии, выбивается из этого «правила». Вообще-то она вполне соответствует ваковским требованиям «актуальности» и «новизны». Недавно вышла, к примеру, обобщающая монография Г.С. Кнабе, посвященная феномену «русской античности», понятой не как совокупность очевидных реминисценций из мифологии, литературы и истории в творчестве тех или иных авторов, сколько как общее усвоение русской культурой важнейших сторон античного наследия.
С точки зрения подобной постановки проблема получила ряд серьезных историко-литературных проработок применительно к истории русской поэзии XVIII — первой трети XIX в. (от Державина до Лермонтова). Вопрос же о месте античности в поэзии следующего периода оставался исследованным поверхностно. Так, в существующих общих работах о лирическом творчестве, например, А. Фета «античная составляющая» этого творчества оказывается фактически не проявленной: то место, которое ей уделено в монографиях Б.Я. Бухштаба, Д.Д. Благо-го, Е.А. Маймина и др., мягко говоря, скромно и явно недостаточно, тем более что антологическая поэзия Фета сплошь и рядом представляется данью некоей «гимназической» традиции, а его блистательные переводы римских классиков часто объявляются «гимназическими (?) переводами», находящимися в стороне от магистрального направления лирического творчества великого русского поэта.
Согласно традиционной точке зрения, уже в конце «пушкинской» эпохи проявилась некая «исчерпанность античного компонента отечественной культуры» (Г.С. Кнабе) — и такие жанры, например, как «подражания древним» и «антологическая лирика», в период особенного интереса к «гражданской поэзии», пропагандировавшейся радикально-демократической критикой, — «ушли» во «второй ряд» и явили некоторое «эпигонство»… В данной же книге автор на большом материале показывает односторонность и неправомерность такой точки зрения. Дело не в том, что «античный компонент» ушел в «эпоху Фета» из русской культуры, — дело в том, что филологи недостаточно обратили на него внимания.
В первой главе («Антологическая поэзия 1840—1860-х годов») собраны пять отдельных и обширных «очерков» об использовании античных тем и мотивов в поэзии А.Н. Майкова, Л.А. Мея, Н.Ф. Щербины, Я.П. Полонского и А.К. Толстого. Очерки эти, сразу заметим, не свободны от популяризаторства, которое проявилось даже в самом подборе имен: список носителей «античных традиций» составили поэты определенной группы, включенные в число «выдающихся поэтов» и удостоенные отдельного сборника в серии «Библиотека поэта». «Не удостоенные» этой чести поэты попросту «выпали» из общего обзора — и среди «выпавших» оказались именно те, в творчестве которых античность занимала немалое место: Э.И. Губер, И.П. Крешев (он потом является в главе, посвященной переводам Фета), Н.В. Берг, М.Л. Михайлов, А.П. Сниткин, П.И. Вейнберг и т.д. Думается, что подобное пренебрежение к поэтам «второго» и «третьего» ряда в работе, исследующей некое историко-литературное явление, не вполне уместно: в творческих поисках «второстепенных» авторов общие тенденции времени сплошь и рядом проявляются ярче и явственнее, чем у «великих». У последних вообще иногда бывает трудно вычленить некие исходные «идеологемы», прямо выводящие, например, на собственно античные источники оригинальных творческих построений. Этот же упрек можно отнести и к главе пятой («Греческая трагедия в переводах Д.С. Мережковского»): в самой постановке проблемы не вполне понятно, почему из весьма обширного ряда русских поэтов конца XIX столетия выделен именно Мережковский, а не, скажем, переводчик Гомера Н.М. Минский или переводчик и интерпретатор той же греческой трагедии И.Ф. Анненский.
Глава вторая («Ф.И. Тютчев и античность») посвящена не столько поиску античных реминисценций в творчестве великого поэта, но и особенной «античной» психологии, определившей своеобразие тютчевской лирики. В творчестве Тютчева наиболее значимым было то, что он — «натура античная в отношении к художеству» (А.С. Хомяков). А.В. Успенская представила яркое сопоставление художественных систем Тютчева и Горация, по-новому рассмотрев известную проблему на целом ряде образцов лирики русского поэта и сопоставляемого с ним поэта римского.
Наиболее интересными и вполне новаторскими в книге оказались главы третья и четвертая, посвященные А.А. Фету («Антологические стихотворения А.А. Фета» и «А.А. Фет — переводчик античных поэтов»). Антологические стихотворения Фета рассматриваются с точки зрения некоей жанровой «игры» и изначально заявленного эксперимента, позволяющего испытать возможности самого, казалось бы, уже «исчерпанного» жанра. На этом пути Фет, как известно, достиг ярких результатов: ряд подобных его антологических «игр» автор отыскивает не только в специальном разделе его ранних сборников («Антологические стихотворения»), но и в таких, вовсе не «антологических», отделах, как «Элегии и думы», «Вечера и ночи», «Мелодии». Устремленность в античный мир проявляется в данном случае не в собственно тематике, но в попытке воссоздать яркое мировосприятие человека античности, как будто впервые открывающего для себя красоты природы, мира и человека.
Столь же яркой оказывается и глава, посвященная переводам Фета из античных поэтов. Правда, в ней В. Успенская традиционно останавливается на переводах из Горация — на том, что сам Фет считал основным в своем творчестве этого рода: только над книгами Горациевых од поэт работал более 40 лет, постоянно возвращаясь к ним и совершенствуя те или иные тексты. Между тем, явно недооцененными оказываются и те поздние переводы Фета из римской поэзии, которые традиционно называют «гимназическими переводами» («Энеида» Вергилия, «Любовные элегии» и «Метаморфозы» Овидия, стихотворения Катулла, Тибулла, Проперция и т.д.), занимающие несколько увесистых томов. А.В. Успенская очень изящно «обошла» их оценкой…
Весьма своеобразно осмысляется автором тот жанр русской поэзии, который имеет заглавия или подзаголовки типа «Подражания древним», «В антологическом роде» и т.п. Автор определяет их как «вариации на темы, заданные конкретными произведениями античных поэтов», «нечто среднее между вольными переводами и переложениями». Она прекрасно знает историю появления этого жанра, у истоков которого стояла «арзамасская» брошюра С.С. Уварова и К.Н. Батюшкова «О греческой антологии» (1820). Но жанр «подражания древним» в дальнейшем развитии «ушел» от традиции «переводности» к традиции «вариации». При этом темы для подобных «вариаций» могли быть самые разнообразные, далекие от «античности» в собственном смысле. Источниками переводов Батюшкова в первом «антологическом» цикле были, как известно, переведенные Уваровым подлинные тексты из Палатинской антологии. Но уже для своего второго цикла («Подражания древним», 1821) поэт взял тексты переводов И.Г. Гердера — причем часть из книги «Цветы греческой антологии», а вторую, большую часть — из книги «Цветы восточной поэзии». Сам Гердер, как известно, подчеркивал принципиальное различие в поэтическом мышлении «западных» и «восточных» древних, у Батюшкова же все тексты благополучно уместились в единый поэтический цикл, который вообще стал классическим образцом «нераздельного» цикла как такового. Сам же Батюшков «инструментовал» свой второй «антологический» цикл, опираясь именно на античную «подлинность».
Эта история показывает, что соотносить жанр «подражания древним» с «вольным переводом или переложением» — не очень корректно. Понятие «вольный перевод» (или «переложение») направляет усилия исследователя на поиск источника, и А.В. Успенская серьезно начинает искать античный источник пародии Козьмы Пруткова «Древней греческой старухе, если б она домогалась моей любви (Подражание Катуллу)» (с. 71—72). «Поиски» оказываются любопытны: сначала доказывается, что «образа похотливой старухи» у Катулла нет, зато есть у Горация (приводится серия примеров); затем высказывается сожаление, что у Горация нет «мотива преследования героя», зато подобный эпизод есть у Апулея. Потом проводится сопоставление: «…если у Апулея все серьезно, то у Пруткова иронически». Все это делается для того, чтобы доказать, что А.К. Толстой (автор пародии) «хорошо знал предмет»… Но можно ли относить к «подражанию древним» произведение только на основании указания на экзотически звучащее имя или на упоминание «древней греческой» бытовой данности?
Несколько странным кажется и разделение лирической поэзии Фета на два «направления» — «антологическое» и «мелодическое» (с. 160), тем более что оно ничем не аргументировано. И утверждение, что раздел «Мелодии» в его сборниках «получил свое название по тематическому принципу»…
Впрочем, это всё мелочи. Приятно, что наконец-то хоть чуть-чуть обратили внимание на целый пласт «русской античности», который раньше просто не хотели замечать…
В.А. Кошелев
Генералова Н.П. И.С. ТУРГЕНЕВ: РОССИЯ И ЕВРОПА. ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИТЕРА-ТУРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТ-НОШЕНИЙ. — СПб.: РХГИ, 2003. — 584 с. — 1000 экз.

Книга Н.П. Генераловой — это любовно выпестованная книга, каждая иллюстрация в ней подобрана с каким-то особо интимным чувством. Автор любуется и карикатурами на Тургенева, и фотографиями членов семейства Виардо, потому что они окружали Тургенева, орловскими и куртавнельскими пейзажами, потому что ими мог любоваться Тургенев (конечно, не мог: все деревья, даже если они росли во времена Тургенева, изменили свой вид), и даже страшненькой дочкой его Полиной, столь похожей на отца и потому-то столь непривлекательной. Автор откровенно любуется Тургеневым во всех видах и во всех спорах: с Герценом, с Фетом. И вопроса: прав ли Тургенев — перед ней не возникает. Признаюсь, что не испытываю к Тургеневу такого почтения, как автор книги, даже более: я много простить ему не могу и не хочу, а его авторитет «великого русского писателя» (с. 14) считаю должным всячески колебать (это, конечно, не значит, что не отдаю ему должного в исторической перспективе). Но именно потому, что вижу разницу наших вкусов, не могу относиться к книге Н.П. Генераловой скептически: я понимаю, что изнутри ее системы оценок все в Тургеневе хорошо и красиво, нарядно и парадно, все отвечает взыскующим требованиям знатоков. Более того, автор иногда оставляет академическую манеру изложения и вставляет в повествование, так сказать, беллетристические фрагменты, которые на-печатаны в книге курсивом, вот один маленький фрагмент: «Герцен в изнеможении закрыл глаза и, казалось, заснул. Иван Сергеевич посмотрел на него в последний раз и тихонько вышел из комнаты» (с. 237). Но я и тут не могу подпустить своего обычного скепсиса, и тут мне кажется, что так и надо.
Вижу я в книге только один недостаток: это не одна, а две книги. Первые четыре главы на самом деле отвечают титульному названию: «Россия и Европа»: «Возвращение [Тургенева в Россию после долгого отсутствия; последний приезд]»; «”…И острый галльский смысл…” Тургенев и Франция» — очень много про Жорж Санд; «“Долг Madame Récamier”. Тургенев и Гер-цен»; «Одинокий пир “русского философа”. “Довольно”, “Призраки”, “Дым”». Но последние три главы раскрывают иную проблематику, конечно, каким-то боком связанную с титульной, но все же совершенно самодостаточную; вот их названия: «Тургенев и Фет. Не-завершенный спор»; «Можно ли спорить о Тютчеве?» — эстетический спор Фета с Тургеневым; «Тургенев в письмах С. Энгельгардт к А. Фету». Внутренние причины такой двусоставности книги хорошо понятны людям, знающим, что последние годы Н.П. Генералова активно занимается Фетом и участвует в издании Собрания его сочинений. Но книги пишутся не только для тех, кто знаком с творческой биографией их автора.
Книга густо населена: людьми и темами. Пересказывать рассказы Н.П. Генераловой о том, с кем, когда, где и зачем встречался, общался, соглашался, спорил Тургенев по вопросам, волновавшим европейских писателей XIX в., просто невозможно. Ясное дело, что Н.И. Тургенев и А.И. Герцен, В. Гюго и Жорж Санд, М.А. Бакунин и Луи Виардо играют в этой книге важнейшую роль. Но без таких персонажей, как Э. Абу и Ж.Э. Ренан, М.М. Стасюлевич и Н.Н. Страхов, тоже не обойтись. Я сказал бы, что книга перенаселена: она построена по принципу комментаторских заметок, в которых, как в калейдоскопе, сменяют друг друга аргумент за аргументом, тема за темой. Но комментаторская заметка, к счастью, ограничена объемом, и поэтому ее легко воспринимать. В большом тексте, где один комментарий нижется на другой, эту калейдоскопическую гонку не всякий профессионал выдержит, переварит и запомнит. Не хочется, правда, говорить об этом свойстве книги как о недостатке, потому что то количество уточнений и дополнений, которое получает читатель, трудно оценить в полной мере: собирательская, исследовательская работа, на которой базируется книга, поистине подавляет.
Но Тургенева я все-таки не люблю. И та часть, которая посвящена Тургеневу и Фету, вызывает у меня внутреннее сопротивление. Попытаюсь сформулировать, почему. «Прошлое, — пишет Н.П. Генералова, — как бы мы к нему ни относились, не подлежит переделке. Мы можем извлекать из него уроки, можем принимать или не принимать его, но мы не можем вычеркнуть его из своей памяти, мы обязаны знать его» (с. 14). Однако нельзя полагать, что мы знаем или можем знать прошлое как нечто целое. Мы знаем не прошлое, а что-то из прошлого, и каждый из нас знает из прошлого что-то свое, поэтому наши образы прошлого никогда не совпадают друг с другом, что и интересно, что и следует учитывать. Так вот, знать, что Тургенев, как сам он похвастался, «Фету вычистил штаны», то есть исправил его стихи, — это одно историческое знание. И совсем другое знание состоит в том, чтобы знать, что за строчками:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья… —
стоит эротическая сцена в беседке, когда он шепчет, просит ее: отдайся, отдайся, — а она вроде бы и согласна, да робко так дышит: робко соглашается, робко сопротивляется… Правда пошленько? И противненько! А ведь у Фета было иначе, то, что Тургенев «вычистил»:
Шепот сердца, уст дыханье,
Трели соловья…
И никакой тебе эротики, в смысле чувственности, одно чувство, которое не может словом высказаться, только сердце говорит.
А дальше помните? В конце стихотворения Тургенев «вычистил»:
В бледных тучках отблеск розы,
Трели соловья…
Вот пошлость-то! Торжествующая, угрожающая, наступающая.
Грязноштанный Фет выглядел так:
Бледный блеск и пурпур розы,
Речь не говоря…
Где находится этот бледный блеск (первая звуковая метафора), где — пурпур розы (вторая), почему они соединены союзом и — ничего не ясно. И уж тем более не ясно — зачем к ним прицеплен деепричастный оборот второго стиха. Но зато — никакой пошлости, один полет любовников над своим еще не написанным Витебском.
Какой вывод мы должны сделать? Из того прошлого, какое знает Н.П. Генералова, следует, что Тургенев был и человек хороший, и «великий русский писатель». Из того прошлого, какое знаю я, Тургенев ничего не понимал в поэзии и правил стихи так, как, может быть, еще можно было бы править прозу. Тургеневу нравились лавровые листы мэтра, и он был не прочь, если бы они умножались. И меня его «демократические ляжки» раздражают не меньше, чем Льва Толстого. Отсутствие критического взгляда на героя книги не улучшает ее, не делает ее ближе современному читателю, живущему среди современных литературных проблем. А вообще книга хорошая.
М. Строганов
Белый Андрей. ПЕТЕРБУРГ: Роман в 8 главах с прологом и эпилогом / Изд. подготовил Л.К. Долгополов. 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Наука, 2004. — 704 с. — (Литературные памятники).
Сологуб Федор. МЕЛКИЙ БЕС / Изд. подготовила М.М. Павлова. — СПб.: Наука, 2004. — 896 с. — (Литературные памятники).
В прошлом году появилось два издания едва ли не лучших романов первой четверти ХХ в. в серии, к которой все русские читатели привыкли относиться как к академической, полностью удовлетворяющей всем потребностям самого изысканного читателя. «Литературные памятники», чья популярность, конечно, несколько упала, но репутация остается в высшей степени устойчивой, продолжают издание русской литературы. Но как они это делают, как работают подготовители книг — вопрос, требующий особого обсуждения.
Тем более он актуален, если мы вспомним не раз уже обсуждавшуюся проблему представления русской литературы начала ХХ в. читателям. Ведь до сих пор она значительной части исследователей кажется еще не ушедшей в прошлое и потому воспринимаемой с чисто читательской точки зрения, не осложненной рефлексией над особенностями построения текста, соответствием ныне печатаемого авторскому замыслу, реалиями, встречающимися в том или ином произведении, которые оказываются потаенными для сегодняшнего реципиента, но для современников были прозрачными.
Между тем, Андрей Белый задумывал и начинал писать «Петербург» почти сто лет назад (Л.К. Долгополов считает возможным вести генеалогию романа по крайней мере с 1907 г.), а «Мелкий бес», написанный много ранее, ровно сто лет назад был впервые опубликован (Вопросы жизни. 1905. № 6—11). Обычно около ста лет и требуется для признания писателя классиком со всеми вытекающими из этого последствиями — текстологической работой, собраниями сочинений, подробным комментарием.
Советская эпоха с канонизированием спешила, но при этом была весьма осмотрительна. Даже Горький, даже Маяковский, издания которых получали санкцию с самого верха, издавались весьма избранно. У Маяковского тщательно затушевывался футуристический период, и в связи с этим ряд важных текстов или вовсе не печатался (как манифест «Не торгуйте Лениным»), или прятался в раздел «коллективное» (как «Пощечина общественному вкусу» и другие манифесты), или лишался важнейших характеристических черт (как письмо к Л.Д. Троцкому, опубликованное в том полном собрании сочинений, которым мы все вынуждены до сих пор пользоваться, как «Письмо о футуризме»). Еще больше запретов было наложено на произведения и архив Горького. Что уж говорить о менее одобренных властью писателях! Выпущенное более или менее к столетию поэта собрание сочинений Брюсова было отцензуровано до непристойности. Через 20 лет после наиболее авторитетного собрания сочинений Блока «Литературное наследство» издало пять томов, едва ли не бóльших по объему, чем само это собрание. Сведения материалов воедино до сих пор нет, а темпы начатого академического издания не внушают оптимизма. Ну, и так далее.
Собрания сочинений Андрея Белого и Сологуба существуют. Но если разобраться, то получится, что это — «как бы» собрания.
Белый выпускался издательством «Республика» под редакцией В.М. Пискунова. До сих пор вышло пять томов (последний — в 2000 г.), и окончания ожидать вряд ли приходится. К тому же сама подготовка текстов во многом основывается на уже ранее вышедших (и очень неравноценных) изданиях: скажем, стихотворения печатаются преимущественно по тому «Библиотеки поэта» 1966 г., новаторскому для своего времени, но уже устаревшему.
Сологуб издается параллельно в двух фирмах: с одной стороны, это издательство «Навьи чары», выпустившее восемь томов стихов, два тома пьес и несколько томов прозы (кажется, шесть: проверка по каталогам библиотек оказалась невозможной); с другой — шесть томов прозы и том стихов, выпущенных издательством «Интелвак». Однако ни то, ни другое издание научной ценности не представляют, так как невозможно проверить, насколько они Текстологически адекватно подготовлены.
Мало того, работников, которые могли бы качественно готовить подобные издания, сейчас в России очень мало и становится все меньше. Поэтому каждую книгу, представленную на должном уровне, встречаешь с радостью.
Те две книги, которые ныне подлежат нашему рассмотрению, относятся к несколько разным категориям. «Петербург» был выпущен еще в 1981 г., обрел заслуженную известность и стал тем стандартным изданием, на которое ссылаются все серьезные литературоведы. «Мелкий бес» на таком уровне издается впервые. Но обе книги, безусловно, заслуживают внимания и разбора.
О первой можно рассказать более кратко, ибо принципы издания изменены не были. Это текст первой печатной редакции романа с приложениями некоторых других аккомпанирующих текстов. Последующие изменения (берлинская редакция, редакция «Никитинских субботников», которая рассматривается как вариант берлинской) лишь описаны, но не воспроизведены. Это заставило Л.К. Долгополова 15 страниц послесловия посвятить истории трансформации текста после публикации в сборниках «Сирин» и еще 17 страниц — текстологическим принципам своего издания. Для сравнения — тому же самому М.М. Павлова посвятила 4 и 4 страницы, нисколько не снизив научного уровня. Не включена в издание и пьеса «Гибель сенатора (Петербург)», опубликованная Дж. Малмстадом в 1986 г. в Беркли. Вся эта схема в новейшем издании воспроизведена без изменений. Тогда почему же стоит говорить об этой книге особо?
Готовя второе издание, А.В. Лавров с виртуозным мастерством, сохранив тот же объем, так отредактировал комментарии к изданию (55 страниц петита), что они стали полностью соответствовать нынешнему уровню источниковедческого осмысления как романа, так и всего творчества Андрея Белого. Достаточно сравнить первую и вторую редакции примечания 5 к первой главе (где идет речь об имени сенатора — Аполлон Аполлонович Аблеухов), чтобы почувствовать, как увеличиваются за счет комментария возможности трактовки романа.
В первом издании не были воспроизведены фрагменты статьи Чокана Валиханова о его прадеде Аблае, в которых говорилось о его сближении с Китаем и о том, что «потомство считает его святым», которые теперь введены в текст, проливая тем самым несколько изменившийся свет на облик персонажа. В характеристику А.Д. Облеухова вставлено библиографическое указание на сравнительно недавнюю статью о нем и краткая характеристика «общественного пафоса стихов Облеухова». В конце же примечания добавлено предположение о том, что имя Аполлона Аполлоновича связано не только с греческим Аполлоном, но и со «всемирным магом» Аполлонием из «Краткой повести об Антихристе» Вл. Соловьева.
В примечание 37 к той же главе добавилась цитата из статьи Иванова-Разумника (выбросить его имя цензуре в первом издании не удалось, но сократить до минимума сноски — да), а также из недавно опубликованного письма Муни к В.Ф. Ходасевичу; примечание 40 дополнено цитатой из гомеровского гимна; в примечании 42 появилась ссылка на то, как понятия субстанции и акциденции раскрывались самим Белым; в примечание 46 вставлена цитата из воспоминаний Н. Валентинова «Два года с символистами», ранее бесцензурных; примечание 47 расширено за счет предположения о том, что же это за «Сон Негра», который упоминается в тексте романа; в примечании 48 добавлены цитаты из стихов Белого и ссылка на работу о неокантианстве Белого, появившуюся уже после выхода первого издания; введено примечание 52а, — ну и так далее, и так далее. Таким образом, нынешним читателям, особенно тем, кто хотел бы воспринимать роман в полноте его смыслов, теперь настоятельно рекомендуем обращаться ко второму изданию, хотя изменения остаются почти тайной, об их смысле нигде не сказано сколько-нибудь внятно.
Объем романа Ф. Сологуба значительно меньше, потому в книгу вошли не только окончательный текст (седьмое издание, вышедшее в составе собрания сочинений в 1913 г., которое автор специально готовил), но и ранняя редакция, впервые печатаемая по рукописи полностью, драма (с не вошедшими в опубликованный текст фрагментами) и скандальный текст «Сергей Тургенев и Шарик», основанный на линии, присутствовавшей в ранней редакции, но изъятой из нее при публикации в журнале и лишь впоследствии напечатанной в трех номерах газеты «Речь» в 1912 г. Нет нужды говорить о том, какой эффект имел сам роман «Мелкий бес», однако и пьеса, и «Сергей Тургенев и Шарик» также немаловажны для истории русской культуры. Пьеса была поставлена в Киеве, а затем в Москве и Петербурге (не говоря уж о провинциальных сценах) и вызвала много откликов, в том числе и проясняющих смысл романа. Памфлетный фрагмент имел немаловажные следствия для истории литературы.
Таким образом, перед нами оказывается своего рода энциклопедия одного из лучших в русской литературе ХХ в. романов. А если добавить к этому, что в примечаниях к ранней редакции романа приведены варианты чернового автографа, то свод текстов становится еще более впечатляющим.
Сопроводительный материал к книге состоит из более чем стостраничной статьи «Творческая история романа “Мелкий бес”» и комментариев (где находят себе место и разночтения чернового и белового автографов ранней редакции), занимающих еще 125 страниц. И весь этот материал вряд ли возможно сократить без ущерба для смысла.
В статье М.М. Павловой дана подробная биография Сологуба от рождения до 1892 г. (когда он, получив место, вернулся в Петербург), охарактеризованы роман «Тяжелые сны» и рассказы 1890-х гг., являвшиеся непосредственными предтечами «Мелкого беса», изложена творческая история самого этого романа (от реальных историй, которые удается в той или иной степени восстановить, до их воплощения в художественной структуре; исторические обстоятельства, в тексте так или иначе отразившиеся; роль пушкинского начала в замысле; краткая характеристика уже сформировавшегося текста). Последний упомянутый нами пункт заслуживает особого разговора, уже начатого в рецензии А. Немзера (Знакомые незнакомцы // Время новостей. 2005. 15 марта): а достаточно ли для представляющей роман статьи только краткой характеристики?
В отличие от первого рецензента, мы полагаем, что автор пошел по верному пути, ограничившись впечатляющим перечислением разнообразных интерпретаций романа в мировом литературоведении и завершив его фразами: «Многообразие смыслов, их неодномерность, “неуловимость”, сосуществование и способность со временем только умножаться определили судьбу “Мелкого беса” и его жизнь во времени. ”Прехитрой вязью” игриво назвал Сологуб свое творение, — таковым оно продолжает оставаться и для нас, пытающихся угадать замыслы его сложного и лукавого сплетения» (с. 721). Автор статьи, исходя из совершенно оправданной презумпции бесконечности смыслов истинно символистского произведения, дает читателям путеводную нить, отказываясь сопровождать их по бесчисленным лабиринтам художественного смысла, не ограничивая потенциала самостоятельного поиска.
Далее в статье идет речь о ранней редакции романа (с особым вниманием к уже упомянутой линии «Сергей Тургенев и Шарик»), о попытках Сологуба напечатать его в разных журналах и издательствах и, наконец, о его публикации в «Вопросах жизни», о сути отличий черновых редакций (начиная с «картотеки пратекста» и прочих подготовительных материалов) от окончательной. Как кажется, все названное дает возможность внимательному читателю несравненно лучше и полнее понять роман, чем какие бы то ни было прежние публикации.
Есть ли в книге недостатки? При первом знакомстве их высвечивается совсем немного.
Так, странноватым выглядит помещенный в конце книги «Словник», где среди прочих есть пояснения ко вполне общепонятным словам «башибузук», «взъерепениться», «вожжаться», «епархиалка», «затрапез», «золоторотцы», «карачун» и т.п. Не говоря уж о том, что словник этот составлен из уже поясненных в комментариях понятий, все-таки вряд ли стоило читателям Сологуба специально пояснять, что такое «уполовник» или «штукарь».
Возможно, имело бы смысл собрать воедино все выявленные составителем литературные аллюзии, добавить в них несколько пропущенных (например: «Но сам Передонов спросил злым голосом: — Чему смеетесь? <…> Надо мной смеетесь? — спросил он» (с. 19) — несомненно, отсылает к Гоголю) и представить в таком виде читателю, поскольку далеко не всегда такие аллюзии ограничиваются конкретными указаниями.
Может быть, стоило отмечать переиначивания традиционных фразеологизмов, делаемые героями Сологуба: «Тебе с ней не котят крестить», «Венец делу конец», «У меня купец, у вас товар» и пр.
Остальные мелочи заслуживают редакторской работы, а не специальных замечаний рецензента.
Стоит отметить изящную суперобложку и солидный подбор иллюстраций, в том числе и печатаемых впервые.
Н.А. Богомолов
Kelly Catriona. COMRADE PAVLIK: THE RISE AND FALL OF A SOVIET BOY HERO. — London: Granta Books, 2005. — 352 p.
Я полагаю, что к «вечным русским вопросам», типа «Кто виноват?» и «Что делать?», следует решительно отнести и вопрос: «А был ли мальчик?» Специфика этого вопроса заключается не в том, что на него трудно ответить, а в том, что его трудно поставить. Эти страсти откипели давно, этому мифу слишком много лет, система, в которой он функционировал, рассыпалась окончательно. Так что Катрионе Келли незачем ставить этот вопрос. Ответ на него и ей, и читателю ясен. Но именно в силу своих почти уникальных (пере)зрелости и завершенности миф Павлика Морозова ожидал своего исследователя. В сонме других советских мифов ему принадлежит совершенно особое место. Он, несомненно, относится к немногим «избранным» парадигматическим, структурообразующим мифам любой тоталитарной идеологии. Дело в том, что все идеологии этого типа основаны на мифе не просто мученика, но мученика-ребенка (и именно мальчика). Так что «Бежину лугу» Эйзенштейна (экранизации мифа Павлика Морозова, 1936— 1937) соответствовали «Старая гвардия» итальянца Алессандро Блазетти (1935) с центральной сценой жертвоприношения мальчика Марио и посвященный гибели в Берлине Херберта Норкуса, этого нацистского «Павлика Морозова», «Юный гитлеровец Квекс» Ханса Штайнхофа (1933). Во время премьеры последнего Гитлер сам вышел на сцену и приветствовал гитлерюгенд, члены которого поклялись «быть достойными продолжателями дела погибшего юного героя». Если кто-то думает, что эта мифология потеряла силу, то это, конечно, зря: несомненно не только то, что она восходит к жервоприношению Авраама, но и то, что она была неслыханно эффективной в Европе всего полстолетия назад. А сегодня едва ли не каждый день новостные агентства приносят нам картинки «юных шахидов» (уже даже чуть ли не грудных детей, обвязанных муляжами смертоносных «поясов»), жизни которых бросаются в ту же топку ненависти и деспотизма. Так что думать, будто перед нами чистая археология, — увы! — преждевременно.
Сергей Эйзенштейн, сильно обжегшийся в свое время на мифе Морозова, подошел к нему в конце жизни с другой стороны, введя в «Ивана Грозного» мотивы «Бориса Годунова», чем вызвал не смятение, но гнев вождя: «мальчики кровавые в глазах» того определенно не мучили. Просто сталинский режим поставил работу с ними на поток. Ключевая роль именно этого мифа, делающая его анализ столь важным, состоит еще и в том, что в нем, в советской его аранжировке по крайней мере, сконцентрирована едва ли не вся «драматургия» советской эпохи — конфликт между долгом и чувством, личным и общественным, здесь и внутри-семейный конфликт, и поколенческий.
То, что советская мифология не была «монолитной», как утверждали советские пропагандисты и западные кремленологи, известно давно. Но вот показать, как сделала это Катриона Келли, насколько многослойной была советская идеологическая доктрина, основанная на различных мифологемах, адресованных разным возрастным и социальным группам, удается едва ли не впервые. Дело в том, что «Павлик» выделился из большого проекта о культурной истории детства в России, поэтому автор так свободно чувствует себя в специфической детской мифологии (обычно исследователи работают с мифологией сугубо «взрослой»). Тут, однако, оказывается, что мифологемы в сталинской культуре работали практически параллельно на разных уровнях. Так, миф образца 1932 г. стал неудобен спустя всего лишь несколько лет, в эпоху отказа от революционных эксцессов, возврата к традиционным семейным ценностям и решительного «укрепления института семьи». Между тем, в детской мифологии он продолжал существовать как бы в другом измерении.
Удивительна — прямо-таки постмодернистская — стилевая гетерогенность книги. Начинается она как детектив («Смерть в тайге»), затем переходит в полноценную социальную историю (первая глава — «Мир Павлика»), плавно перетекающую в занимательное краеведение с элементами этнографии и путевой прозы (глава вторая — «Местный герой»). Потом следуют анализ судебных материалов и история расследования с элементами легалистики и детектива (третья глава — «Расследуя убийство»), из которого можно понять, как менялось «дело Морозова», например, на каком этапе появился «кулацкий заговор». На смену уголовной хронике приходит культурная история распространения и анализ структуры нового мифа (в четвертой и пятой главах — «Классовый боец. Мальчик-мученик» и «Всесоюзный герой»). Автор подробно сравнивает, например, историю Павлика с делом Бейлиса, показывая взаимосвязь мифологем превращения христианского мученика в советского, роль Горького в развитии мифа и т.д.
Политический детектив сменяется новой формой жизнеописания. Дело в том, что у Павлика Морозова не было биографии. Его жизнь началась фактически после его смерти, поэтому биографию ему придумывали задним числом. Оказалось, однако, что его настоящей биографией стала вымышленная, т.е., собственно, миф о Павлике, который жил самостоятельной жизнью многие десятилетия. Эта замечательная виртуальная «биография» разворачивается перед читателем в последующих двух главах (шестой — «Затмение Павлика» и седьмой — «Павлик после Сталина»). Трансформация мифа Павлика оказывается вплетенной в советскую детскую культуру: Морозовский миф растворяется в героической детской литературе 1930-х гг. типа гайдаровского «Тимура и его команды», в культе пионеров и комсомольцев-героев периода войны и послевоенных лет (типа культа молодогвардейцев), адаптированных в романах и поэмах о «Молодой гвардии», Зое Космодемьянской, Володе Дубинине, Вале Котике и многих других. Те из них, кто не был уже пионером, по крайней мере воспитывались на «подвиге Павлика» и совершили мученический акт самопожертвования, подобно своему юному кумиру предвоенных лет.
И все же время берет свое: культ Павлика начинает тускнеть. Первые признаки этого автор видит в том, что после войны Павлик все больше и больше превращается в историю. Каменея в монументах, именах пионерских дружин, школьных музеях, он «соскальзывает в историю» (или на «свалку истории»?). Миф все еще усиленно поддерживается властью, но после смерти Сталина начинается его практически неудержимое свободное падение. Дело в том, что культура хрущевской эпохи отличается от сталинской постановкой немыслимых ранее вопросов (например, о разрыве «связи поколений»), рождаются молодежная культура, подростковая бунтарская культура и т.д. Официальной детской мифологии, в центре которой оставался один из трех великих советских Павлов (Власов — Корчагин — Морозов), было весьма неуютно в этом окружении. Автор блестяще показывает отношения Павлика с «новым поколением». Имя «юного героя» окончательно каменеет в официозе и оказывается частью живой культуры разве что в циничных частушках, типа (на выбор!): «Бедный Вовочка лежал / В луже крови розовой — / Это папа с ним играл / В Павлика Морозова» или: «Павлик Морозов варил холодец, / По полу ползал безногий отец»…
В принципе, в цинизме такого уровня любая мифология завершается, и тут можно было бы поставить, кажется, точку. Как поставил ее за несколько недель до смерти один из главных пропагандистов морозовского мифа (он даже говорил о нем в своей речи на Первом съезде писателей в 1934 г.) Максим Горький: «Конец романа. Конец героя. Конец автора». Но все же остался у Катрионы Келли тот самый последний вопрос: «А был ли мальчик?» Этому вопросу она и посвятила последнюю главу, звучащую совсем уж постмодернистски в книге-жизнеописании: «“Реальная жизнь” Павлика Морозова?» А действительно, была ли (возможна ли?) эта самая «реальная жизнь» и насколько она релевантна? Здесь мы вновь возвращаемся к политическому детективу, в развитие которого внес в свое время огромный вклад Юрий Дружников своей книгой «Вознесение Павлика Морозова». Катриона Келли неоднократно обращается к версии Дружникова. В ее руках находился исходный архивный материал ОГПУ — «Дело» Павлика Морозова. Материалы эти не подтверждают версии о придурковатом ребенке, убитом самими огэпэушниками. Не подтверждают они и официальной версии — о том, что ребенок был убит за свою пионерскую работу и верность пионерской присяге, да и версии о «кулацком заговоре». Вообще говоря, фактически отказываясь от тероии заговора и отбрасывая всю эту такую привлекательную «конспиративную» историю, окружавшую морозовский миф, Катриона Келли делает в высшей степени рискованный, с писательской точки зрения, жест. И именно здесь она одерживает свою окончательную победу: история стоит без конспиративных подпорок. Блестяще рассказанная, исчерпывающе глубоко исследованная, законченная. После стольких десятилетий Павлику Морозову наконец повезло. Он получил поистине роскошный памятник. Спи спокойно, «юный герой»!
Евгений Добренко
Служевская Ирина. ТРИ СТАТЬИ О БРОДСКОМ. — М.: Квартет-Пресс, 2004. — 144 с. — Тираж не указан.
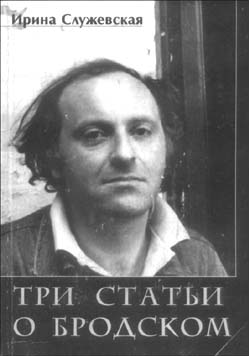
Это, конечно, не статьи. Чисто импрессионистично, эссеистично впечатление автора, что при разбивке на три одного сверхдлинного предложения Бродского (из «Разговора с небожителем») речь потеряет мощь. Что есть мощь? И можно сказать наоборот, что при та-ком разбиении речь приобретает спокойствие, размеренность, освобождаясь от доли истерики, свойственной затяжке говорения. И молчание небожителя — опять-таки не обязательно слабость. А фраза «по-видимому, сосуд, соединяющий стихи с сердцем пишущего, действительно, существует, и без него стихи превращаются в труху» (с. 103) кажется слишком перегретой даже для эссе. Это — ряд наблюдений. Но почему бы и нет?
Особенно интересно обращение Служевской к поздним стихам Бродского, где просматривается отказ от речи, передача ее предметам. «Крики чаек требуют “конца грамматики“, отказа от “букв вообще”. Для Бродского прежних лет такое требование неслыханно» (с. 32). Превращение человека из говорящего в смотрящего и слушающего. Служба миру — взгляд со стороны. «Прозрение у Бродского, в отличие от классического варианта, <…> опирается не на дар, сообщенный небом, а на отказ или, скорее, освобождение — от радостей и тяжестей земли» (с. 14).
Достаточно подробно прослежена эволюция Бродского в направлении пустоты как области очищения, области абсолютной свободы. Интерес Бродского к бесчеловеческой белизне. Парадоксальность свободы в распаде, в падали — освободиться от целого даже такой ценой. Трансформируется субъект лирики: «…им становится никто. Что для лирики, чье существование зиждется на целостности и определенности лирического сознания, — просто взрыв, подрывание основ» (с. 20). Не будет никакого отождествления читателя с лирическим героем — не с кем. Персонаж — «принципиальная незаполненность, свобода от определений, корней, привязок к любым измерениям» (с. 21). Текучесть. Человек без свойств. (Впрочем, вряд ли у Бродского человека заставляет ощутить себя «совершенным никто» только «стремление освободиться от того, что все равно предстоит потерять по своей, а скорее — чужой воле» (с. 66). Служевская сама показала метафизические, а не политические основания этого самоопустошения.)
«Мир, в котором героя нет, назван его портретом. Природа, существующая вне человека, есть форма его не-бытия и одновременно — его воплощение» (с. 28). И Бродский говорит о «виде издали на жизнь» — не о воплощении, а, скорее, о взгляде. Теперь автопортрет — предложение другим не взгляда на свое лицо, а своего взгляда на мир. Анонимность — свобода и переход во взгляд.
Некоторые наблюдения Служевской выводяет на дальнейшие размышления. «Интонация наблюдателя, предлагающего читателю не выводы, а, прежде всего, факты, черты и детали реальности, — для Бродского способ поэтического существования, позволяющий раскрыть любые эмоции и самые ранящие истины острее и сильнее, нежели это возможно при другом — открытом, романтическом — выборе» (с. 76), — но почему это происходит? Не потому ли, что читающему предлагается не готовая чужая страсть, а пространство для его собственной страсти?
Служевская касается столь острой темы, как ограниченность Бродского. Она называет его поэтику «поэтикой высказанности, охватывающей предмет бесконечными витками суждений, поэтикой, доверяющей прямому корневому значению своих орудий. Ни символики, ни напевности, ни ассоциативности (в мандельштамовском ключе), ни подтекста. Лобовой поток смыслов, напористо рвущихся к сути» (с. 47). Не показывает ли само обилие написанного о Бродском, что он принадлежит старому поэтическому миру, о котором можно говорить привычным языком (для нового мира этого языка еще нет)? «Риторическое ядро существует в каждом стихотворении Бродского. Его непререкаемость предполагает заведомую однозначность смысла, чему энергично и успешно сопротивляется генетика, родовая мощь стиха, нацеленного на многозначность и неисчерпаемость того же смысла» (с. 56). Возможно, Бродский осознавал это и стремился это преодолеть — не отсюда ли также и его движение к пустоте и голосам предметов? Но всякий действительно важный переход осуществляется медленно и не имеет определенной грани. Принадлежащее к поздним стихам «На столетие Анны Ахматовой» выглядит еще «старым Бродским» — здесь приобщение к вечности осуществляется в духе горациевской еще традиции, через речь.
Элегантно объяснение инверсий. «Сравнение “за сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, как сказуемое за подлежащим” говорит о неприязни Бродского к обоим типам прочной связи явлений (времени и грамматике). В сущности, это объяснение не только философии, но и поэтики Бродского, где любовь к инверсиям прочитывается как восстание против установленного порядка слов» (с. 86).
Важно рассмотрение любого текста в контексте всего сказанного поэтом, всякой идеи — в связи с другими. «Если категория пустоты у Бродского предстает достаточно близкой к аналогичным категориям дзэна, то это сходство экзистенциального опыта, <…> точка пересечения духовных путей, затем расходящихся в разные стороны» (с. 29—30). Действительно, у Бродского и речи нет об иллюзорности личности, и очень скептическое отношение к разного рода абсолютам.
Третья статья, о цикле «Часть речи», понимаемом как преодоление боли от разлуки, растворение ее в языке и предметах, весьма описательна — вплоть до построчного пояснения тек ста, пересказа, чреватого упрощением. «Наша цель — пережить стихи как опыт наслаждения» (с. 58), то есть для хорошего школьника, заинтересовать. Но и в этой простоте есть с чем поспорить. «Говоря “Седов”, Бродский, конечно, имеет в виду ледокол» (с. 70). Но почему не самого полярника, чье тело чернеет на снегу? Ледокол-то, в конечном счете, из льдов выбрался. Татарские мотивы в третьем стихотворении цикла явно отсылают к фамилии адресата — Басманова. Басма — ханская печать, восточная краска для волос. «Одичавшее сердце все еще бьется за два» — почему эту строку Бродского Служевская сводит к описанию сердечного приступа? Может быть, это сердце, привыкшее биться и за сердце той, с кем рассталось, — и не желающее эту привычку терять? В седьмом стихотворении цикла явственно звучит мотив не только ностальгии по детству, но и честности в открытом пространстве. Конец семнадцатого стихотворения можно соотнести не с убийством, а с самоубийством — лужей крови и суетой около вскрывшего вены. Завершение цикла Служевская трактует чрезмерно оптимистично: «…свобода и стихи, стихи и свобода — радостный, верный, нежданный конец сюжета» (с. 134). Но в последнем стихотворении оледенение, которое в начале цикла было снаружи, пробралось внутрь человека: «Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это — города, человеков, но для начала — зелень». Такова цена свободы по Бродскому. «Необитаемость, несущая сетчатке свободу от отражений, как душе свободу от земных связей, делает воздух домом поэта. Место родины заменяется тотальной пустотой как условием свободы духа» (с. 16). Пустоту Бродский проверял на обитаемость еще в «Осеннем крике ястреба» — «астрономически объективный ад». Но, как показывают также и наблюдения Служевской, Бродскому все-таки во многом удалось освоить это пространство.
Александр Уланов
Благодарим книжный магазин «Фаланстер» (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27; тел. 504-47-95) за помощь в подготовке раздела «Новые книги».
Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии и сборники статей по адресу: 129626 Москва, а/я 55. «Новое литературное обозрение».