(Рец. на кн.: Хейнонен Ю. Это и то в повести Даниила Хармса «Старуха». Helsinki, 2003)
Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2005
Хейнонен Юсси. ЭТО И ТО В ПОВЕСТИ ДАНИИЛА ХАРМСА “СТАРУХА”. — Helsinki: Helsinki University Press, 2003. — 232 с. — (Slavica Helsingiensia. 22).
Работа финского слависта Юсси Хейнонена — первая монография, целиком посвященная анализу повести Хармса “Старуха”, но далеко не первое исследование этого произведения: “Старуху” из всех произведений Хармса изучают, кажется, больше всего, в этом отношении с ней сопоставим только цикл “Случаи”. В начале книги Хейнонен дает очень подробный библиографический обзор, но его монография — не подведение итогов, а самостоятельная, новаторская интерпретация произведения Хармса. Проблема, сформулированная тут, — “Старуха” как трансформированное представление евангельских событий — поставлена, насколько мне известно, впервые. Уже поэтому рецензируемая работа заслуживает внимания специалистов.
Наиболее важное достижение Хейнонена — исследование того, как сочетаются в повести Хармса “литературное” и “религиозное”. То есть: в какой мере религиозные аллюзии в повести отсылают к Библии и православным богослужебным текстам как к культурным “кодам” (в терминологии Ю.М. Лотмана), а в какой — к личному трансцендентному опыту или, по крайней мере, к личной тоске по трансцендентному. О том, что повесть “Старуха” имеет религиозный смысл, писала еще Анна Нахимовски, один из первых исследователей Хармса; а то, что весь текст “Старухи” можно считать своего рода аналогом молитвы, утверждал британский литературовед Р. Айзлвуд 1. Хейнонен ссылается и на Нахимовски, и на Айзлвуда, но делает более сильное утверждение, чем эти исследователи: он сопоставляет сюжет повести не только с актом молитвы, но и непосредственно с ветхо- и новозаветными событиями. По его мнению, “Старуха” — религиозное произведение, в зашифрованном, иносказательном виде представляющее страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. Старуха — гротескное изображение Христа в состоянии крайнего унижения (кенозиса). Повесть Хармса может быть прочитана как реинтерпретация событий Страстной недели, которые в трансформированном, неузнаваемом для профанного сознания виде воспроизводятся в Ленинграде 1940 г. И если старуха — это аналог Христа, то путь героя воспроизводит движение современного человека к Богу: сначала он не узнает в старухе мертвого и воскресающего Христа (согласно интерпретации Хейнонена, пропажа чемодана с мертвой старухой в поезде — аналог воскресения), но затем постигает, что все, происходящее с ним, несмотря на абсурд, — действие Божественного промысла. На протяжении всей повести герой борется с Богом и лишь в финале смиряется перед Ним; поэтому повесть может быть понята и как аллегорическое изображение борьбы Иакова с ангелом у реки Иавок (Быт. 32: 24—30).
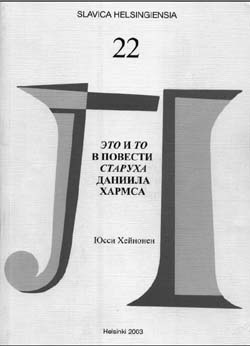
Учитывая то, что Хармс был глубоко верующим и церковным человеком, убежденным в том, что в его жизни присутствует мистический, трансцендентный опыт, такая интерпретация не только допустима, но и вполне перспективна, она позволяет увидеть новые уровни содержания повести. Основной вывод Хейнонена сформулирован в последней фразе его работы: “…то, что не-выразимо в обиходном или научном языке, отчасти доступно художественному тексту, который в этом отношении уподобляется тексту сакральному. Хотя старуха, с одной стороны, сама говорит о находящемся за пределом выразимого, с другой стороны, она показывает, к каким парадоксам приводят попытки говорить о нем, напоминая при этом о вечном стремлении человека переступить эти пределы” (с. 221).
Это заключение намеренно полемично по отношению к (уже классической) работе Жана-Филиппа Жаккара “Даниил Хармс и конец русского авангарда”. Напомню финал книги Жаккара:
“…следует рассматривать творчество Хармса не как неудавшуюся попытку выразить невыразимое, что входило в замысел модернизма, но как успешную попытку выразить ограниченность и невозможность этого предприятия. Хармс, таким образом, относится к той обширной категории писателей, которые, для того чтобы ответить на великие экзистенциальные вопросы, задавались целью узнать, чтó сказано тем, что сказано, и которые в своей поэтической практике отважились с тоской ответить: ничего”2. По мнению Хейнонена, Хармс не пришел к выводу о том, что “сказано <…> ничего”, но осознал, что при всей ограниченности художественного письма и условности фигуры автора — именно письмо способно выводить человека за пределы понимания, хотя этот выход — всегда неокончательный.
Это утверждение представляется мне безусловно правильным и, более того, научно актуальным: на протяжении 1980—2000-х гг. в исследовательской литературе идет активное обсуждение того, как в творчестве Хармса сочетаются элементы модернизма и постмодернизма 3, и формулировка Хейнонена — уместная реплика в происходящей дискуссии. Проблема, однако, в том, что система доказательств, примененная исследователем, странным образом опровергает его же собственные утверждения. Сделанные Хейноненом выводы гораздо убедительнее всех приводимых им аргументов, которые изобилуют натяжками и “вчитыванием” в текст Хармса внеположного ему смысла. Создается впечатление, что главные утверждения существовали первоначально в виде остроумной и хорошо продуманной рабочей гипотезы, но метод подтверждения этой гипотезы был выбран неправильный; о том, что это за метод, будет сказано дальше.
Ключевую роль в концептуальном аппарате исследователя играют понятия “это”, “то” и “препятствие”. Хейнонен утверждает, что слова “это” и “то” в текстах Хармса означают, соответственно, “посюсторонний” и “потусторонний”, или “запредельный”, миры и что поэтика гротеска и абсурда в текстах Хармса может быть описана как вторжение того в это, в сферу повседневного (с. 181, 196—198). “Повесть как бы соткана из атмосферы повседневного быта и легко узнаваемых вещей: такими элементами служат ленинградская среда ([точно указанные] названия улиц), ежедневные заботы и хлопоты рассказчика, предметы домашней обстановки — и связанная с этим пошлость. На основе всего этого возникают те события и явления, которые выходят за пределы всего нормального, в особенности — появление и поведение старухи” (с. 11).
Эту же терминологию исследователь применяет для анализа других уровней текста. “В интертекстуальном подходе речь идет, по сути дела, о соотношениях этого и того, учитывая, что суб- или интертекст относятся к первичному тексту — к этому — как некое то” (с. 15). “Сексуальность — тема близкая к проблематике этого и того: в силу сексуальности два пола и два человека находят друг друга и соединяются. Сами по себе они являются представителя-ми этого, в то время как друг для друга они выступают как представители того” (с. 55; этому утверждению нельзя отказать в психологической проницательности). Наконец, в повести Хармса очень важны сны и измененные состояния сознания, которые также относятся к сфере потустороннего или иррационального — то есть, в терминологии Хейнонена, “того”.
Хейнонен не пишет о генезисе ключевых понятий его исследования, и это, на мой взгляд, некорректно. Не только потому, что философская терминология обэриутов никогда не становилась предметом самостоятельного изучения, но главным образом потому, что в результате Хейнонен смешивает терминологию философских работ двух писателей-современников: Хармса и Сигизмунда Кржижановского. Поскольку о перекличках и расхождениях в словоупотреблении Хармса и Кржижановского, насколько мне известно, до сих пор также никто не писал, позволю себе остановиться на этом подробнее.
Вынесенные в заглавие книги понятия “это” и “то” заимствованы непосредственно из текстов Хармса: из философского трактата “<О существовании, времени и пространстве>” (1940 4, согласно другим публикаторам — середина 1930-х гг.), из неозаглавленного философского сочинения, состоящего из глав “О существовании”, “О ипостаси” и “О кресте”. Слова “это” и “то” используются как философские понятия также и в стихотворении-трактате “Нетеперь” (1930), но Хейнонен почему-то не привлекает этот текст для анализа повести. Терминология Хармса — как и некоторые другие его идеи — сформировалась, скорее всего, под влиянием философии Якова Друскина, который в начале 1930-х гг. написал трактат “Это и то”. Друскин, а под его влиянием — Хармс и отчасти Введенский стремились выработать язык философствования, который был бы “наивным”, максимально дистанцированным от языка профессиональной философии (напомню, что в Петроградском университете Друскин учился у Николая Лосского) и в то же время был бы основан на четко определенных (хотя бы и заново созданных) понятиях, которые позволяли бы вести последовательную, логически связную мыслительную работу.
Однако “это” и “то” обозначают у Хармса не посюстороннее и потустороннее, а более абстрактные и сложные логические категории. В трактате “<О существовании, времени и пространстве>” Хармс пишет 5:
“4. Всякие две части различны, потому что всегда одна часть будет эта, а другая та. <…>
6. Если существует это и то, то значит существует не то и не это, потому что, если бы не то и не это не существовало, то это и то было бы едино, однородно и непрерывно, а следовательно не существовало бы тоже. <…> <
8. Назовем не то и не это “препятствием”.
2. Итак основу существования составляют три элемента: это, препятствие и то. <…>
13. Препятствие является тем творцом, который из “ничего” создает “нечто”. <…>
22. Существование нашей Вселенной образуют три “ничто” или отдельно, или сами по себе, несуществующих “нечто”: пространство, время и еще нечто, что не является ни временем, ни пространством. <…>
48. То “нечто”, что не является ни временем, ни пространством, есть препятствие образующее существование Вселенной. <…>
51. Это “нечто” находится во времени в точке “настоящее”, а в пространстве — в точке “тут””.
Цитируя Хармса, Хейнонен сразу же начинает с ним спорить, считая, что Хармс неправильно использует им же самим придуманную терминологию. Обнаружив, что “это” и “то” в пространстве, по Хармсу, равно соответствуют понятию “там”, Хейнонен удивленно замечает: “…Напрашивается вопрос, не логичнее было бы, если бы этому соответствовало “тут”, а тому — “там”” (с. 10, сноска 4) 6.
Мне кажется, что не логичнее. Главное в концепции Хармса — “препятствие”, которое может быть понято как “точка перехода пространства во время” и как “способ перехода от абстракции числового принципа к “телу” как пространственной форме”7. Действительно, в финале указанного трактата Хармс объявляет главным в мире “препятствием” некий “Узел Вселенной”; последняя фраза его работы гласит: “60. Говоря о себе “я есмь”, я помещаю себя в Узел Вселенной” (отметим явную аллюзию на фразу Декарта “Cogito ergo sum”, хотя это и не относится к предмету данной рецензии). Марк Липовецкий пишет: “…то, что Хармс назвал “препятствием” или “нечто”, на языке Деррида называется “различáнием” (“différance”)”8. По мнению Липовецкого, в наибольшей степени “препятствие” воплощено в идее письма. Можно представить себе “препятствие” в виде иного динамического процесса 9 или личного действия, которое устанавливает структуру мироздания, его разделение на “это” и “то”. Если “препятствие” не действует, получается кошмар “мира без свойств”, спародированный Хармсом в рассказах “Голубая тетрадь № 10” (“Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей…”) и “О явлениях и существованиях № 2”.
А вот у С. Кржижановского слова “это” и “то” употребляются именно в том смысле, в котором их использует Хейнонен. Вот что пишет Кржижановский в раннем цикле эссе “Штемпель: Москва” (1922): “…Сознание классифицирует вещи, предстоящие ему, на т е и э т и, на выключенные из органов чувств и на включенные в восприятие; э т и вещи имманентны жизни, т е — трансцендентны; э т и — понятная, хорошо обжитая близь; т е — туманная, недоступная даль.
Если классифицировать самые сознания, то окажется, что они сознают, в зависимости от своего т и п а, как бы в две недоступные стороны. Одни сознания стремятся переставлять вещи и з т е х в э т и; другие — и з э т и х в т е. Если носителей сознания, то есть носителей того или иного интеллектуального типа, я назову: ищущих претворить т о в э т о — т о в э т о в-ца м и, волящих же превратить э т о в т о — э т о в т о в ц а м и,то с номенклатурой будет покончено”10.
Эту же “номенклатуру” Кржижановский использовал в своих лекциях по русской литературе, прочитанных в Киеве в конце 1910-х гг.: “Андрей Белый и Саша Черный — ЭТОВТОВЦЫ И ТОВЭТОВЦЫ, то есть превращающие земное в запредельное или запредельное в земное”11.
Будучи человеком послереволюционной формации, Кржижановский, как и Друскин, стремился вместо сложной философской терминологии Серебряного века ввести собственные, нарочито простые термины. Но, в отличие от экспериментальных формулировок Хармса, понятийный аппарат Кржижановского имеет явно символистское или, точнее, неокантианское происхождение (Кржижановский специально интересовался неокантианством) и постсимволистскую интерпретацию: это уже иронически переосмысленный символизм, — символистское миропонимание, доведенное до гротескного, нарочитого жаргона. А вот терминология Хармса имеет не символистскую, а скорее феноменологическую и даже предэкзистенциалистскую основу (феноменологию он воспринял во многом через Друскина и, возможно, Густава Шпета12).
“Переписав” терминологию Хармса в символистско-неокантианском духе, Хейнонен и “Старуху” читает как модернистское произведение, в котором главный конфликт происходит на границе посюстороннего и потустороннего.
Монография финского исследователя основана на методологиях структурного, мотивного, интертекстуального и фрейдистского анализа, однако все данные для аналитической работы он получает с помощью “пристального чтения” (close reading). Фрагменты текста часто интерпретируются на основе словесных игр и сексуальных ассоциаций, получаемых не из анализа текста, а из психоаналитической литературы. Преобразования, которым подвергается в процессе такого “чтения” текст Хармса, иногда просто удивительны. Например, Хейнонен цитирует внутренний диалог, происходящий в сознании героя: “— Покойники, — объясняли мне мои собственные мысли, — народ неважный. Их зря называют покойники, они скорее беспокойники”, — и далее комментирует: “Слово “беспокойник” и прилагательное “беспокойный” содержат приставку “бес-”. Можно утверждать, что в данном случае активизируется и зна-чение “беса” как отдельного слова. Дело в том, что старуха — не только сакральная, но и амбивалентная фигура, которой присущи в том числе дьявольские черты. После смерти она беспокойна, словно покойный (женский) бес… <…> Изложенная интерпретация подтверждается тем, что слово “черт” — синоним слова “бес” — несколько раз встречается в речи Сакердона Михайловича: — Черт побери! — сказал Сакердон Михайлович” (с. 115).
Объясняя фрагмент повести Хармса, в котором мертвая старуха исчезает с кресла, Хейнонен замечает: “…поскольку “предварительное воскресение” старухи (до того, как она обнаружила способность двигаться после смерти. — И.К.) связано именно с креслом… следует указать на схожесть слов “воскресла” и “кресло”: повторение слова “кресло” как бы показывает, что старуха воскресла с кресла. Кроме того, слово “кресло” имеет сходство со словом “крест”” (с. 148). Для подтверждения своих выводов Хейнонен несколько раз интерпретирует буквенный состав слова “старуха” — например, констатирует, что “слова “старуха” и “Сталин” начинаются одинаково, не говоря уже о том, что “Сталина” и “Медного всадника” связывает металлическая субстанция” (с. 194). По-моему, таким способом в повести Хармса можно отыскать интертексты и из драмы М. Горького “Васса Железнова” (главная героиня которой — властная женщина, которая по ходу действия умирает), и из романа Н. Островского “Как закалялась сталь” (где главный герой жив, но неподвижен, так что мертвую ползущую старуху можно, действуя по методу “вчитывания”, считать инверсией сюжета Островского).
Хейнонен считает нужным объяснить происхождение выбранного им способа аргументации. Он пишет, что в стихотворении Хармса “Ohne мельница” (“Без мельницы” (нем., рус.), читается также как “Он и мельница”) игра на омонимах имеет смыслообразующую функцию, а также напоминает об играх с собственным псевдонимом, которые Хармс практиковал в 1930-е гг. (с. 111). Хармс действительно экспериментировал с расчленением слов и геометрическими трансформациями букв и цифр, однако нет оснований думать, что такие разделения и превращения были для Хармса осмысленными и необходимыми в любой ситуации. В исследовании М.Б. Ямпольского (на которое Хейнонен по другим поводам ссылается) описаны некоторые контексты, в которых свойственный Хармсу интерес к топологическим свойствам пространства и человеческого тела переходит в игры с семантическими деформациями 13; в частности, анализируя стихотворение “Ohne мельница/Он и мельница”, Ямпольский объясняет, зачем именно в этом стихотворении Хармсу потребовалось использование омонимов 14.
С другой стороны, в поиске интертекстов Хейнонен излишне избирателен. Одна из главных задач его исследования — прояснение библейских параллелей в повести. При поиске этих параллелей, однако, учитываются только Книга Бытия и четыре Евангелия. Но для Хармса были не менее важны и некоторые другие книги Библии. Так, автор несколько раз возвращается к анализу сна героя “Старухи”: “— Вот, — говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле. — Вот видите, — говорю я ему, — какие у меня руки?
А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоящий Сакердон Михайлович, а глиняный”.
Хейнонен справедливо указывает, что на образ “глиняного Сакердона Михайловича” мог повлиять образ Голема из одноименного романа Густава Мейринка, но дальше почему-то добавляет, что этот сон — еще и аллюзия на рассказ Книги Бытия о том, как “создал Господь Бог человека из праха земного” (Быт. 2: 7). Однако, учитывая амбивалентную, провокационную роль Сакердона Михайловича в сюжете повести, здесь гораздо важнее образ “колосса на глиняных ногах” из Книги пророка Даниила (Дан. 2: 29—35) — колосса, который явился в вещем сне царю Навуходоносору. Даниил Хармс хорошо знал Книгу пророка Даниила — хотя бы уже потому, что считал пророка своим небесным заступником.
Автор монографии, к сожалению, мало учитывает воспоминания современников о Хармсе и реалии советской жизни 1930-х гг. Так, в книге подробно исследованы различные смысловые уровни диалога героя с “милой дамочкой”, с которой он познакомился в очереди:
“Я. Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.
Она. И я тоже хотела бы выпить с вами водки.
Я. Простите, можно вас спросить об одной вещи?
Она (сильно покраснев). Конечно, спрашивайте.
Я. Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?
Она (удивленно). В Бога? Да, конечно”.
Хейнонен трояко интерпретирует вопрос о вере в Бога: как найденную героем возможность вынужденно-иносказательно выразить страх по поводу мертвой старухи в его комнате, как “замедление” диалога, произошедшее потому, что герой боится сближения с этой женщиной, и как свидетельство того, что религиозное и сексуальное начала в творчестве Хармса очень сближены (что, в общем, верно). Не пишет он только об одном: в Ленинграде конца 1930-х для интеллигентов, таких, как Хармс и его герой, этот вопрос был способом опознать “своих”. Хармс, по воспоминаниям, и сам задавал его тем людям (не только женщинам, но и мужчинам), с которыми надеялся сдружиться поближе. Герой, войдя в комнату, вешает свои часы на гвоздик — по мнению Хейнонена, “это вызывает мысль о гвоздях в руках и ногах распятого. Употребление уменьшительной формы слова “гвоздь” подчеркивает, что речь идет лишь о христоподобии [героя], [а] не о настоящем Христе…” (с. 152). Но из воспоминаний В.Н. Петрова известно, что у Хармса в его собственной комнате в 1938 г. “висели на гвоздике серебряные карманные часы с приклеенной под ними надписью: “Эти часы имеют особое сверхлогическое значение””15.
Все это тем более обидно, что книга Хейнонена, как уже сказано, — весьма содержательная работа. В ней интересна не только главная концепция — о перекличках между сюжетом “Старухи” и евангельскими событиями, но и отдельные важные мысли: например, сравнение повествовательного метода Хармса с дзен-буддистскими коанами (с. 98) и неоднократные, но не оформленные в цельную концепцию утверждения о богоборческом сюжете “Старухи”.
Повесть Хармса — не зашифрованное произведение. Ее темнота и мрачная суггестивность рождаются не из понимания скрытых аллюзий (они в повести есть, но не составляют главного ее содержания), а из новаторских методов письма и из точного и жесткого воспроизведения атмосферы эпохи, напоминающей бесконечный кошмарный сон. Сближение между сюжетом повести и ветхозаветными и евангельскими событиями вполне продуктивно, но, вероятно, требует дополнительной аргументации.
Главный источник проблемы — пожалуй, в методе, который избрал Хейнонен. Этот метод, распространенный и в России, и на западных славистических кафедрах, предлагает уделять основное внимание только тексту, с привлечением минимального круга дополнительных источников. Вопрос о том, какие методы интерпретации “очищенного текста” допустимы, а какие — нет, ставится на основании изолированных фактов, каковыми в случае Хейнонена стали стихотворение “Ohne мельница” и хармсовские игры с псевдонимом. Хейнонен подробно проработал философско-методологическую основу своего исследования, рассматривая то, как категории абсурда и гротеска связаны с гносеологией Канта. Но философским взглядам Хармса он почти не уделил внимания 16 и в результате совершил терминологическую подмену, необоснованно расширив и сместив смысл хармсовско-друскинских понятий “это” и “то”.
Книгу Хейнонена, несомненно, стоит использовать будущим исследователям Хармса. Но при этом всякий раз придется заново решать, какая часть аргументов в этой работе заслуживает доверия.
______________________________________________________________________
1) См.: Aizlewood R. “Guilt Without Guilt” in Kharms’s Story “The Old Woman” // Scottish Slavonic Review. 1990. № 14. P. 199—217.
2) Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995. С. 257.
3) Мне довелось и самому в нем участвовать. См.: Кукулин И. Рождение постмодернистского героя по дороге из Санкт-Петербурга в Ленинград и дальше // Вопросы литературы. 1997. № 3.
4) Эта датировка приведена в издании: Хармс Д. Полн. собр. соч. / Под ред. В.Н. Сажина. Т. 4. СПб., 2001.
5) Здесь и далее при цитировании Хармса сохраняются авторские особенности пунктуации.
6) Аналогичным образом Хейнонен упрекает Хармса и дальше: “Хотелось бы <…> возразить Хармсу <…> настоящему лучше соответствует это, а прошлому и будущему — то” (с. 89).
7) Ямпольский М.Б. Беспамятство как исток: Читая Хармса. М., 1998. С. 264.
8) Липовецкий М. Аллегория письма: “Случаи” Хармса (1933—1939) // НЛО. 2003. № 63. С. 128. Эта статья была опубликована уже после того, как работа Ю. Хейнонена над книгой была закончена.
9) На мой взгляд, хармсовская идея “препятствия” близка к представлению о “событии”, которое разработано французским философом Аленом Бадью, а в России, с опорой на исследования Бадью, — Алексеем Грякаловым. См.: Бадью А. Манифест философии. СПб., 2003; Грякалов А.А. Письмо и событие. СПб., 2004. С. 17—35.
10) Кржижановский С. Штемпель: Москва (13 писем в провинцию) // Кржижановский С. Собр. соч. Т. 1 / Сост., предисл. и коммент. В. Перельмутера. СПб., 2001. С. 543—544. Благодарю И. Делекторскую за консультации по творчеству С. Кржижановского.
11) Из письма И.Г. Ямпольского В.Г. Перельмутеру от 25 мая 1989 г. Цит. по: Перельмутер В. “Прозеванный гений” // Кржижановский С.Д. Сказки для вундеркиндов. Повести, рассказы. М., 1991. С. 11.
12) Согласно дневникам Хармса, в 1925 г. он прочитал или, по крайней мере, пытался читать феноменологическую книгу Г. Шпета “Явление и смысл”.
13) См.: Ямпольский М.Б. Указ. соч. С. 224—242, 303—313.
14) Там же. С. 307—309.
15) Цит. по: Александров А.А. Краткая хроника жизни и творчества Даниила Хармса // Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1991. С. 554.
16) Например, Хейнонен игнорирует тот факт, что рассказ “Голубая тетрадь № 10” имеет в рукописи пометку “Против Канта”. Не учитывая этой пометки, на мой взгляд, некорректно было бы говорить о реализации кантовской философии в хармсовском понимании абсурда и гротеска, как это делает Хейнонен.