(Заметки о теории, 11)
Опубликовано в журнале НЛО, номер 4, 2005
В этом специальном номере “НЛО” редакция попросила меня рассмотреть несколько переводных книг по теории исторической памяти.
Всегда важно четко понимать, к какой дисциплине относится то или иное исследование. Ответить на этот вопрос применительно к книге Дэвида Лоуэнталя “Прошлое — чужая страна”1, впервые вышедшей в Англии в 1985 г., не так-то легко. Автор приводит множество любопытных, любовно собранных фактов и анекдотов из истории культуры, но он не историк, потому что интересуется не столько ходом событий в былые века, сколько нашей современностью; он и не социолог, потому что не анализирует собственно общественные структуры и взаимодействие индивида с ними. До какой-то степени его работа сближается с социальной психологией, то есть с анализом типичных переживаний людей, или же с “культурными штудиями”, с той разницей, что центральная для этой новейшей дисциплины проблема взаимодействия мажоритарных и миноритарных культур из синхронической перспективы обращена здесь в диахроническую: в роли миноритарной культуры выступает историческое прошлое… Но, пожалуй, вернее всего будет принять всерьез фразы из рецензий на первое издание книги, помещенные в рекламных целях на обложке ее второго английского издания: рецензенты дружно хвалят “доступное” и “блестящее” изложение, которым действительно отличается книга Лоуэнталя. В конечном счете это очень большое и очень плотно документированное литературное эссе; оно рассчитано не столько на специально-научное применение, сколько на непосредственный отклик “широкого читателя”.
Основной тезис книги прост и бесспорен: современная культура (то есть не только современная, но она больше других) занимается апроприацией “прошлого”, превращает его в сберегаемое и адаптируемое к сегодняшним нуждам “наследие”. Наследование — это как бы вторичное окультуривание, приручение одичавшего, отбившегося от рук прошлого, его реинтеграция в сегодняшнюю материально-техническую, институциональную, идеологическую среду. “Прошлое — чужая страна”, — гласит заголовок книги; взятое же как “наследие”, оно, напротив, видится “вполне знакомым и привычным” (с. 7). Историки называют такую оптическую иллюзию “презентизмом”2.

Д. Лоуэнталь рассматривает эту иллюзию — или, если угодно, страсть — в трех аспектах: психологические мотивы интереса к прошлому, формы его познания (включая научное познание, которое называется историей), наконец, формы его трансформации ради современных нужд. Каждый из трех аспектов аккуратно разложен на более частные вопросы, в свою очередь получающие ряд частных, не отменяющих друг друга ответов. Например, зачем нужны мотивы путешествия в прошлое, распространенные в научной фантастике? “Пять основных мотивов: объяснение прошлого, поиски золотого века, наслаждение экзотикой, стремление воспользоваться плодами темпоральных замещений и ретроспективного знания, преобразование жизни путем изменения прошлого” (с. 62). Чем прошлое привлекает современного человека, какие выгоды ему сулит? А вот какие: 1) “узнаваемость и понимание”, 2) “подтверждение и удостоверение”, 3) “индивидуальную и групповую идентичность”, 4) “руководство”, 5) “обогащение”, 6) “бегство” (с. 86). Что делают люди с реликта-ми прошлого, дабы превратить их в свое “наследие”? 1) Идентифицируют и помечают в качестве “памятников прошлого”, 2) демонстрируют другим людям, 3) защищают от разрушительных воздействий природы и цивилизации (например, в противоречии с предыдущим пунктом, ограничивают к ним доступ публики), 4) реставрируют в предполагаемом прежнем облике, 5) перемещают в специальные хранилища, в другие города и страны, 6) приспосабливают (например, исторические здания) к новым функциям (с. 409—442). Параллельно создаются новые, искусственные реликвии: 1) дубликаты, не претендующие на подлинность, 2) подделки, выдаваемые за оригиналы, 3) инсценировки исторических событий (сражений и т.д.), 4) эмуляции, то есть обновленные, переосмысленные подражания, 5) коммеморации, то есть монументы и мемориалы, служащие условными знаками фактов прошлого (с. 443—491). И так далее.
По ходу своих классификаций автор книги делает немало справедливых замечаний: скажем, о том, что массированное копирование произведений прошлого обесценивает оригинал, “замыливая” наш взгляд на него (бесчисленные копии “Джоконды”), что подделка не просто может, и даже должна, казаться “более настоящей”, чем оригинал (с. 446, слова Э. Блоха), но она еще и радует душу своего владельца или зрителя тем, что сделана специально для него, тогда как подлинный факт прошлого беспокоит своей отчужденностью. Или упоминаемый Д. Лоуэнталем печальный закон, согласно которому “согласованное знание прошлого находится в обратной пропорции по отношению к тому, как много известно о нем in toto. В устных обществах 3 исторические хроники довольно скудны и зачастую их скрывают как величайшую тайну, хотя в действительности большая часть знаний о прошлом доступна всем. В письменных обществах печатные исторические тексты широко распространены, но значительная часть исторического знания фрагментирована на отдельные сегменты, доступные лишь небольшой группе специалистов, и, следовательно, общедоступное прошлое сжимается до тонкого слоя доставляемой СМИ информации” (с. 374). Проще говоря, чем лучше историю знают специалисты, тем хуже она известна среднему человеку…
Собственно история как наука, то есть специальные процедуры поиска и проверки сведений о прошлом, упоминается в книге Д. Лоуэнталя лишь в ряду других источников знания о прошлом, доступных современному человеку, — наряду с “памятью”, то есть спонтанным, ненаучным преданием, и “реликта-ми”, то есть материальными остатками, обреченными на изменчивую, более или менее бережную адаптацию. По сравнению с другими источниками история более устойчива, храня преемственность научной традиции; она “меньше, чем прошлое”, — в силу необъятности потенциального материала, в силу своего нарративного письма, выделяющего в прошлом отдельные цепочки событий, и в силу неизбежной идеологической предвзятости своих сообщений (с. 338); зато она и “больше, чем прошлое”, поскольку знает последствия событий и может делать обобщения (с. 343).
В конечном счете историческая наука интересует автора книги лишь в сравнительно небольшой степени — именно потому, что она стабилизирует (пусть и корректными методами) наш образ прошлого, тогда как нормальным процессом является именно его изменение. Следует отрешиться от невротической страсти к консервации прошлого — “изменяя реликвии и письменные памятники прошлых времен, мы также изменяем и самих себя” (с. 619), и наша постмодернистская эпоха должна признать неизбежность и плодотворность — при правильном применении — такого “переписывания истории”.
Если задаться вопросом о пределах применимости этой концепции и вообще о границах предпринятого Д. Лоуэнталем масштабного исследования, то окажется, что они обусловлены не столько географическими и хронологическими рамками (рассматривается главным образом ситуация в англо-американской культуре последних двух столетий, с отдельными экскурсами за эти рамки), сколько самой природой тех фактов, что образуют “прошлое”. Для автора книги такими фактами являются исключительно материальные факты — либо события (сражения и т.п.), либо вещи (предметы быта, произведения изобразительного искусства и в особенности архитектурные сооружения, здания, руины). Эссеистическая ориентация на массовые представления проявляется в том, что из состава “прошлого” практически полностью, причем неосознанно, исключаются интеллектуальные факты — аллографические (Н. Гудмен) произведения словесности, идеи и учения, понятия, представления, черты ментальности, наконец, сам язык: то есть все то, что в меньшей степени осознается широкой публикой как предмет исторического изменения и модернизирующего “наследования”, хотя на самом деле включено в этот процесс в не меньшей степени. Просто интеллектуальные элементы прошлого, в отличие от его материальных элементов, менее пассивны и беззащитны перед лицом “презентизма” — они способны жить невидимой и самостоятельной жизнью в современной культуре, искусстве, мышлении, не исключая дискурс самих теоретиков культурной памяти. Их функционирование в наших умах пришлось бы описывать как равноправное взаимодействие прошлого с настоящим, а не как одностороннее — разве что более или менее просвещенное — освоение одного другим.
Ян Ассман, автор монографии “Культурная память”4, — современный немецкий египтолог, но Древний Египет занимает в ней сравнительно небольшое место (всего одну главу). Дисциплину, к которой относится это исследование, правильнее всего назвать по книжной серии, в которой оно впервые вышло по-немецки в 1992 г., — “Культурология”. Причем слово “культурология” следует понимать не в том расплывчато-эклектическом значении, в каком оно фигурирует сегодня в нашей стране, а в точном и продуктивном смысле, какой ему придавали теоретики Тартуской школы. Одна из их работ (“Роль дуальных моделей в динамике русской культуры” Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, 1977) прямо цитируется в книге Ассмана, и вообще применяемый в ней метод анализа во многом близок к тому, которым пользовался Лотман в своей типологии культуры 5.
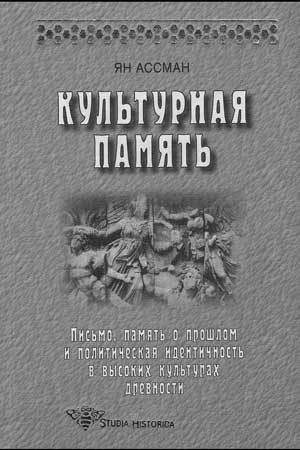
Рассматривая общественную память как средство коллективной, прежде всего этнической, идентификации, исследователь классифицирует ее по нескольким категориальным осям. Память общества может быть “коммуникативной”, актуальной (“оперативной”, если воспользоваться сравнением из компьютерной техники) и собственно “культурной”, представляющей собой запас сохраняемой на “жестком диске” и лишь иногда актуализируемой информации. Сама культурная память (и создаваемая ею “когерентность” общества) может иметь характер ритуальный, реализуясь в действиях, или же текстовый. Влияние культурной памяти на общество различно в разных культурах, которые могут быть обозначены левистроссовскими понятиями “горячих” (активно апеллирующих к своему прошлому) и “холодных” (менее зависимых от него); при этом “холодные” культуры, по мысли Я. Ассмана, “живут не в забвении чего-то, что помнят “горячие” культуры, а в другой памяти. Эта другая память требует воспрепятствовать вторжению истории” (с. 72). В обществах с установкой на такую “холодную опцию” даже “письмо и государственная организация также могут стать средствами замораживания истории” (с. 73), служить ее “усмирению и десемиотизации” (с. 79) — примером тому Древний Египет и средневековое еврейство. Соответственно мифы, лежащие в основе культурной памяти, являются в “холодных” культурах космическими (они относятся к абсолютному прошлому, вспоминаемому “в модусе циклического повторения” — с. 83), а в культурах “горячих” — историческими (их события локализованы во времени и рассматриваются как невозвратимые и хронологически соотносимые с настоящим). Наконец, по отношению к настоящему мифическое прошлое может выступать как “обосновывающее” (им подтверждается легитимность нынешнего порядка вещей — скажем, существующего государственного строя) или как “контрапрезентное” (апелляцией к нему отрицается нынешнее положение вещей — скажем, униженность и порабощенность народа, который помнит о былом величии и стойко хранит идентичность, веря в свое избранничество). Таким образом, память о прошлом может быть формой сопротивления настоящему, ее “перспективы, исключенные из горизонта повседневности, не просто забываются или вытесняются. Они образуют задний план, который сохраняется в культурной памяти. Поэтому культурная память и формы ее объективации неуместны в повседневной жизни” (с. 90). В терминах Я. Ассмана это значит, что “культурная” память не просто дополняет “коммуникативную” — она противостоит ей, ее нельзя смешивать с нею, нельзя поминать всуе.
Исходя из этих общих оппозиций, автор книги анализирует процесс канонизации культурной памяти. Он имеет место только в рамках письменной культуры, ориентированной на “текстовую” когерентность, и только в момент, когда культура предпринимает специальные усилия по “замораживанию” своей памяти, “когда течение традиции останавливается созданием канона” (с. 100). “Самый важный шаг в создании канона — это акт “закрытия”” (с. 100— 101), подведения черты под списком текстов. Отныне все они делятся на две категории: неизменный канон и варьирующиеся комментарии к нему. Канонические тексты фиксируются, объявляются неизменными, неприкосновенными; они не просто священны, но содержат в себе “истину”, не открывающуюся при непосредственном восприятии. Между текстом и обществом возникает фигура толкователя, и эти люди — “софер в древнем Израиле, еврейский раввин, греческий филолог, исламские шейх и мулла, индийский брахман, буддистские, конфуцианские и даосистские мудрецы и ученые” (с. 102) — образуют интеллектуальную элиту, относительно независимую от политической и даже религиозной власти. Каноны образуются в ситуациях социально-исторического слома, когда культура вследствие внешних или внутренних конфликтов теряет свою устойчивость; канонизация как раз и представляет собой механизм ее самосохранения, в этом смысле она всегда “контрапрезентна”.
Эта абстрактная схема конкретизируется в анализе четырех “высоких культур древности” — египетской, еврейской, месопотамской и греческой, каждая из которых, по мысли Я. Ассмана, внесла свой вклад в формирование нашего нынешнего механизма культурной памяти. Так, египтяне, мало обращавшиеся к собственной истории (хотя, парадоксальным образом, тщательно фиксировавшие ее события для потомства!), вместо собственно письменного канона создали в позднюю, критическую для своей культуры эпоху его аналог в виде храма, вокруг которого сложилась могущественная корпорация жрецов—толкователей священных письмен. Оригинальным культурным “изобретением” древнего Израиля явилась религия как экстерриториальная форма общности между людьми, поддерживаемая в процессе непрестанной внутренней “чистки”, отмежевания правоверного, помнящего об истинном божестве меньшинства от отступнического, забывчивого, вечно склонного к многобожию большинства (постоянная тема библейских пророчеств). Принцип обособления жреческой корпорации переносится здесь на сам народ, который трактуется как народ-избранник, в своей неустанной конфронтации с прочими народами опирающийся на собственное прошлое: “Религия <…> удерживает живым внутри культуры, определяющей настоящее, вчера, которое не смеет быть забыто” (с. 246).
Месопотамские культуры обогатили эту схему идеей (также широко представленной в Библии) истории как договорного процесса: события “харизматической истории” осмысляются под знаком вины за нарушение людьми божественного завета или же их спасения благодаря поддержке “божественного партнера” (с. 268). Наконец, в Древней Греции возникла новая, небывалая ситуация в культурной памяти: греческое алфавитно-фонетическое письмо образовало “свободное пространство, которое не занято указующей речью ни правителя, ни бога. Этот вакуум власти способствовал проникновению устности в греческую письменную культуру” (с. 290). Устность — это значит разноречие, спор и диалог, множество несогласных друг с другом книг, среди которых нет священных. Правда, процесс канонизации культурной памяти шел и в Греции, и два его этапа связаны с двумя социально-историческими кризисами — концом микенской цивилизации и падением свободных греческих полисов. Ответом на эти два кризиса стало учреждение классики — сначала классики гомеровской, потом классики афинского золотого века; ее сохранением занялись александрийские филологи. Их функция отчасти аналогична функции еврейских книжников: “Книжники оглядываются на пророков, как филологи на классиков: как на окончательно завершенную, не допускающую продолжения эпоху” (с. 302). Однако греческие классики — это все же не сакральные персонажи, и их тексты — если и канон, то необычный. Их нельзя продолжать, их следует толковать, но им можно также подражать, с ними можно даже соперничать. Они включены в непривычную для восточных культур практику, которую Я. Ассман называет греческим словом “гиполепсис” и которой, на мой взгляд, подошло бы просто имя дискуссии. Образуется особое пространство памяти, “в котором “то, что сказал предыдущий оратор”, могло быть сказано 2000 лет назад” (с. 305): тексты отрываются от ситуаций, где они были впервые сформулированы, и включаются в бесконечный, трансситуативный процесс обсуждения и варьирования. Мифический и религиозно-канонический дискурсы пребывают в покое, потому что либо не осознают своих противоречий, либо не терпят ни малейшего противоречия, — гиполептический же дискурс представляет собой культуру противоречия. В этой культуре мы живем и поныне.
Таков теоретический каркас работы Я. Ассмана; я не берусь компетентно судить о том, насколько она соответствует в деталях устройству, скажем, древнееврейской или древнегреческой культуры, но сразу видно, что в своих общих чертах предложенная схема хорошо работает, глубоко объясняет различие культур, причем не по каким-либо абстрактным или смутно-символическим понятиям (чем часто грешит современная “культурология”), а по тем способам, которыми они решают конкретную историческую проблему — проблему построения и оформления культурной памяти. Просвещенную, ясную и афористичную книгу немецкого ученого 6 можно смело рекомендовать всем филологам, задумывающимся об общих типологических параметрах исследуемой ими исторической реальности, о фундаментальных функциях письменного слова в культуре. Помимо прочего, они найдут в этой книге и немало поучительных соображений о собственной профессии, которая по сей день сохраняет преемственную связь с первыми толкователями Торы и кодификаторами гомеровских поэм.
В случае с книгой Поля Рикёра “Память, история, забвение” (2000) 7 ответить на вопрос о ее дисциплинарной принадлежности несложно — это, конечно, философия, современная философия высшей пробы. Трудно поверить, но автору этой объемистой, насыщенной мыслями, четкой и подтянутой монографии было 87 лет! Поистине, это достойное “интеллектуальное и моральное завещание”8 французского мыслителя, скончавшегося несколько месяцев назад, 20 мая 2005 г.
Здесь невозможно дать целостный отчет об этой книге 9. Во-первых, мысль Рикёра, как это и обычно у него, рождается из изложения и толкования многих других мыслителей — философов, историков, писателей, и каждый из этих герменевтических сюжетов достоин отдельного анализа. Во-вторых, проблематика, которой посвящена книга, очень широка, вопрос об исторической или культурной памяти занимает в ней лишь частное, хоть и важное, место. Если попытаться выразить ее суть в нескольких словах, то Рикёра интересует память как деятельность, он рассматривает ее в рамках “философии действия, где акцент ставится на способностях, которые в совокупности составляют образ человека могущего” (с. 681—682). “Работающая память”, “память работает” — это сквозной мотив рикёровской мысли.
Книга начинается с феноменологии индивидуальной памяти, опирающейся на таких авторов, как Аристотель (тот различал “память” и “воспоминание” — Рикёр видит здесь первый очерк оппозиции между статичным состоянием и процессом работы памяти) или Бергсон (тот уже эксплицитно разграничивал “память-привычку”, связанную с деятельностью, и “память-образ”, фиксированное представление о предмете, которое в свою очередь становится продуктом особой деятельности припоминания). Искажения здоровой, “хорошей” памяти философ выявляет в нарушениях ее работы: например, в явлениях “задержанной”, невротической и меланхолической памяти — болезни, которая и исцеляется работой скорби, стимулируемой психоанализом; на социальном уровне характер работы (отрицательной) носит идеологическая “манипуляция памятью”, когда ее подчиняют нуждам коллективной идентичности и создают опасное неравенство — “излишек памяти в том или ином регионе мира, а стало быть, злоупотребление памятью — недостаток памяти в другом регионе и, как следствие, злоупотребление забвением” (с. 119). В последней части монографии исследуется то, что Рикёр называет “историческим состоянием”, то есть ситуация современной культуры, глубоко переживающей связь “нашей современности” с историческим прошлым. Это прошлое часто неудобно, а порой и просто невыносимо, как, например, массовые преступления времен Второй мировой войны (одна из сквозных тем книги), и культура пытается то фиксировать его в форме священной памяти, подлежащей скорее однозначному судебному приговору, чем научному исследованию с его всегдашними сомнениями и пересмотрами концепций, то организованно забывать его, ищет морально приемлемые формы “трудного прощения” — разумеется, распространяемого не на всех и не на все, ибо у некоторых преступлений срока давности нет.
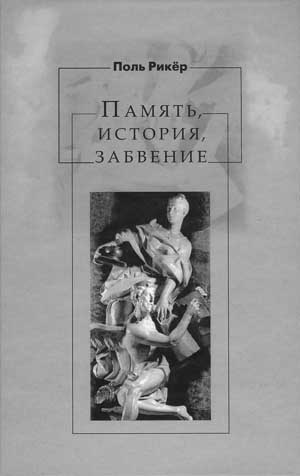
В промежутке между индивидуальной памятью и общекультурными механизмами “исторического состояния” помещается собственно историческое знание, тема второй части книги П. Рикёра 10. “Историографическая процедура”, которой заняты историки, — тоже своего рода работа с прошлым, но она отлична от работы индивидуальной или коллективной памяти. История — это не память. Живая память людей редуцируется в акте архивации — по необходимости выборочной, серийной, которая смешивает свидетельства памяти с документами, подчас не несущими в себе никакой памяти, и которая к тому же поневоле цензурирует, адаптирует наиболее невыносимые свидетельства (отсюда — “кризис свидетельства”, вызванный освоением опыта Шоа). Историческое “объяснение/понимание” также противостоит памяти как таковой — примером тому хотя бы уже упомянутая проблема массовых злодейств. В моральной и культурной памяти цивилизации, пережившей и осудившей эти злодеяния, фиксируется их уникальный, беспримерный характер, в то время как история естественным образом, в ходе своих обычных процедур, сопоставляет их с другими, сходными событиями, вызывая болезненные споры: “Можно ли уподоблять Шоа Гулагу?” Наконец, историческая репрезентация (письмо истории) в современной науке стремится отойти от мемориальной функции восхваления великих деяний, и если сохраняет абсолютное моральное отношение к прошлому, то лишь, наоборот, в форме осуждения: “Действительно, озадачивающая симметрия — та, что помещает друг против друга абсолютное порицание, вынесенное моральным сознанием политике нацистов, и абсолютное восхваление, адресованное королю на портрете его подданными…” (с. 387).
Современные течения в историографии — экономическая история, история повседневности, история ментальностей — абстрагируются от непосредственных данных памяти, конструируют свои собственные, внепамятные события: “Многие события, признаваемые историческими, никогда не были чьими-либо воспоминаниями” (с. 689). Когда, например, итальянская “микроистория” систематически прослеживает индивидуальный опыт “незаметных” людей прошлого, она делает это по своим профессиональным правилам: “…не стоит ожидать воссоздания жизни (du vécu) социальных агентов, как если бы история перестала быть историей и уподобилась феноменологии коллективной памяти” (с. 301). Особое внимание Рикёра привлекает к себе упоминаемый в нескольких главах его книги “уликовый” метод, разработанный Карло Гинзбургом. Его смысл — в принципиальном разрыве истории с памятью: историк в своей реконструкции прошлого опирается на незаметные “признаки”, на факты, существенность которых не осознавалась ни одним человеком этого прошлого; эти факты уподобляются материальным остаткам, которые, по выражению Рикёра, ““свидетельствуют” своей немотой” (с. 245). Но такая редукция исторического знания столь же интересна для философа, сколь и спорна: “Подводя историческое познание полностью под парадигму улик, К. Гинзбург несколько обесценивает значение понятия indice: оно выигрывает при противопоставлении его понятию письменного свидетельства” (с. 245). Свидетельство все-таки никуда не исчезло из истории, и методологическая проблема, которую намечает Рикёр, — правильное соотношение между ним и “признака-ми”-“уликами”; речь идет, таким образом, о диалектике истории и памяти.
Вопрос, который остается при этом в тени, — роль памяти в интеллектуальной и литературной истории, то есть в той области, которая образует компетенцию филолога. Когда тексты прошлого изучаются филологически, как ценные сами по себе, они не могут быть без резкого упрощения сведены к каким-либо “признакам” (в этом, например, изначальная слабость любого психоаналитического толкования таких текстов). Но, с другой стороны, они не являются и свидетельствами. Свидетель — это человек ответственной памяти, и его ситуация фидуциарная, в ней ставится вопрос о доверии; свидетель говорит: 1) “я там был”, 2) “поверьте мне”, 3) “если вы мне не верите, спросите кого-нибудь другого” (с. 229). Авторы литературных произведений, разбираемых филологией, или мыслители прошлого, чьи идеи анализирует интеллектуальная история, говорят нечто иное: они утверждают свое присутствие не в прошлом, а в нашем настоящем, трансисторическую актуальность своих слов; они просят к себе не слепого доверия, а понимания — быть может, критического; они не готовы уступить свое место любому другому свидетелю тех же событий, а отстаивают уникальную ценность своего опыта, своего высказывания. Имея дело с интеллектуальным и художественным наследием прошлого, история должна устанавливать особые отношения с памятью, признавая (как я уже отмечал выше, говоря о книге Д. Лоуэнталя), что прошлое живет и действует в настоящем — и не только в патологической форме “прошлого, не же-лающего уходить”, наподобие навязчивой идеи в индивидуальной психологии, а прежде всего в той продуктивной форме, которую Я. Ассман в своей монографии назвал “гиполепсисом”, продолжающимся диалогом.
К сожалению, Полю Рикёру уже нельзя задать вопрос об этой особой форме исторического сознания. Он сделал многое — не сделанное им остается на долю других. Его книга, как и другие работы, рассмотренные в этом обзоре, дает внешнюю точку зрения на область сознания и культуры, которую разрабатывают филология и интеллектуальная история, помогает лучше уяснить границы этой области, а значит, и структуру ее проблем.
_______________________________________________________________________________
1) Лоуэнталь Д. ПРОШЛОЕ — ЧУЖАЯ СТРАНА / Пер. с англ. А.В. Говорунова. — СПб.: Русский остров; Владимир Даль, 2004. — 622 с. — 2000 экз. — (ΠΟΛΙΣ).
2) Термин “презентизм” может иметь разные значения. Иногда под ним понимают имманентно присущую историческому дискурсу склонность явно или неявно соотносить прошлое с настоящим, превращать наше сегодня в точку отсчета. Недавний критический анализ такого научного презентизма см. в статье: Савельева И.М., Полетаев А.В. О пользе и вреде презентизма в историографии // “Цепь времен”: Проблемы исторического сознания. М., 2005. С. 63—88 (см. в том же сборнике еще ряд теоретических статей о проблемах исторического сознания). Есть и другое употребление термина, когда им описывается общее состояние культуры в современных странах Запада: свойственный ей культ прошлого на самом деле служит нарциссическому самолюбованию сегодняшнего общества. Критику такого общекультурного презентизма (близкого к тому, о котором писал Лоуэнталь) дает французский историк Франсуа Артог: Hartog F. Régimes d’historicité: Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil, 2003 (ñм. подробный реферат В.А. Мильчиной: Отечественные записки. 2004. № 5. С. 214—225).
3) Правильным переводом было бы “бесписьменные общества”. Вообще-то работа А.В. Говорунова, который в одиночку перевел огромный, изобилующий историко-культурным материалом труд, да еще снабдил его рядом полезных примечаний, заслуживает уважения. Тем не менее число ошибок, видимых невооруженным глазом, весьма велико. Окончательный “диагноз” поставило бы лишь “вскрытие” — сквозная сверка с оригиналом, но вот симптоматичный пример: в конце предисловия, в длинном, по англосаксонскому обычаю, списке благодарностей дважды повторяется нелепая формула “позднему Дональду Эпплярду”, “позднему Кэвину Линчу” (с. 30) — то есть переводчик готов писать очевидную бессмыслицу, вместо того чтобы проверить по словарю, какие значения имеет прилагательное “late”. Ошибки в транскрипции имен встречаются, наверное, во всех переводах, но здесь их все-таки непомерно много, причем часто в весьма известных именах — и английских (“Штиль” вместо Ричарда Стиля — с. 166, “король Джеймс” вместо Якова — с. 342, лорд “Курзон” вместо Керзона — с. 593) и, тем более, иностранных: античный автор “Тусидид” (с. 156 и 566 — догадались, кто это?), французские церкви “Сен-Квен де Руен” (с. 250 — правильно Сент-Уан в Руане) и “Сен-Жермен” (с. 432 — должно быть Сен-Сернен), немецкий “собор в Колоне” (с. 591 — то есть в Кёльне), “Пьер Буль” (с. 580 — вообще-то так зовут французского писателя-фантаста, в оригинале же цитируется композитор Пьер Булез), и т.д. К чести переводчика, большинство имен собственных указано в оригинальном написании, так что такие ошибки сравнительно легко вылавливаются; но вот на с. 445— 447, очевидно, просто бес попутал — несколько раз подряд, и даже в подписи под вполне ясной фотографией, вместо “Парфенон” напечатано “Пантеон”! Конечно, оба названия пишутся похоже, особенно по-английски… Если отвлечься от перевода как такового, непростительным браком издательства (какого? на титуле их указано два) является то, что не воспроизведен имевшийся в английском издании указатель — очень подробный и абсолютно необходимый для громоздкого фактографического сочинения, где одни и те же имена, названия, события и мотивы упоминаются по многу раз в различных главах. Может быть, при составлении указателя вышла бы на свет и злосчастная опечатка с “Пантеоном”…
4) Ассман Я. КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ: ПИСЬМО, ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ВЫСОКИХ КУЛЬТУРАХ ДРЕВНОСТИ / Пер. с нем. М.М. Сокольской. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 363 с. Тираж не указан. — (Studia historica).
5) Два других теоретических источника работы Ассмана — социология коллективной памяти Мориса Хальбвакса и теория социальной системы Никласа Лумана.
6) Она и переведена ясным, выразительным языком. Из мелких придирок к русскому тексту можно назвать разве что несколько неверных транскрипций — “М. Сэхлинс” вместо Маршалла Салинза, “Гайден Уайт” вместо Хейдена Уайта… Вот, собственно, и все, то есть число огрехов минимально.
7) Рикёр П. ПАМЯТЬ, ИСТОРИЯ, ЗАБВЕНИЕ / Пер. с фр. И.И. Блауберг, И.С. Вдовиной, О.И. Мачульской, Г.М. Тавризян. — М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. — 728 с. — 3000 экз. — (Французская философия ХХ века).
8) Из некролога П. Рикёра, опубликованного 21 мая 2005 г. на сайте Fabula (www.fabula.org/actualites/article11265. php, автор — Мариель Масе).
9) Ее русское издание подготовлено на достойном уровне. Оно сопровождено небольшим, но полезным комментарием, воспроизведен авторский справочный аппарат (именной и предметный указатели). Перевод четко передает сложную логику философской мысли автора, и лишь кое-где встречаются несогласованности между разными переводчицами или отдельные терминологические неточности (“зло века” на с. 544—545 — это на самом деле недуг века; “очевидное правонарушение” на с. 655 должно переводиться как поимка с поличным), да еще неизбежные ошибки в именах: скажем, “Г. Штайнер” на с. 361 — это Дж. Стайнер (George Steiner), а загадочный “Тюрло” на с. 433 — знаменитый французский экономист XVIII в. А. Тюрго; возникнув из-за опечатки, эти двойники, увы, так и остались стоять рядом в указателе имен…
10) П. Рикёр и прежде не раз обращался к философским проблемам историографии — в книге “История и истина” (1955), в первом томе трилогии “Время и рассказ” (1983). В последние годы оба эти текста появились в русском переводе.