Опубликовано в журнале НЛО, номер 4, 2005
Андреев Д.А., Бордюгов Г.А.
ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И ВЛАСТЬ. Вып. 19. — М.: АИРО, 2005. — 56 с. — 500 экз. — (АИРО — научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века).
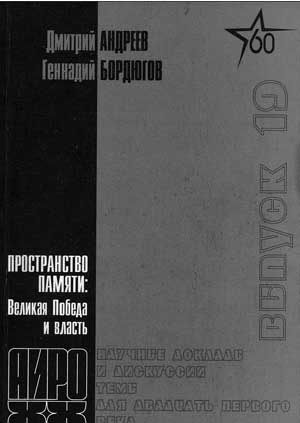
Текст доклада, подготовленный главным редактором журнала “Интелрос — Интеллектуальная Росcия”, доцентом исторического факультета МГУ Д.А. Андреевым и доцентом МГУ и ИЕК РГГУ, руководителем научных проектов Ассоциации исследователей российского общества XX века АИРО Г.А. Бордюговым, представляет собой последовательный анализ трансформаций исторической памяти о Великой Отечественной войне в российском обществе с 1945 по 2005 г. Память рассматривается здесь не столько в качестве особого социального института, сколько в качестве пространства, в том специфическом смысле, в каком, по мнению авторов, слово “пространство” употреблял М. Фуко, предлагая “написать целую историю различных пространств (которая в то же время была бы историей различных видов власти)” (с. 7).
Применение пространственного подхода к историческому процессу — метод, позволяющий писать “историю современности”, как если бы настоящее, прошлое и будущее находились между собой не в линейных, а в гораздо более сложных — пространственных — отношениях. В соответствии с данным представлением, необходимо прежде всего усвоить простую максиму: время — это пространство. Следуя ей, авторам удается добиться некоторой оригинальности в описании динамики советской и российской власти, поскольку “пространство памяти” всегда оказывается конституировано так или иначе относительно “пространства власти”.
Речь идет попросту о том, что власть цинично и грубо использует историческую память, преследуя собственные сиюминутные интересы, в зависимости от специфики последних акцентируя одни эпизоды истории и ретушируя другие, менее удобные. “Производное от пространства власти пространство памяти представляет собой адресную, фокусированную актуализацию прошлого для нужд настоящего” (с. 7).
Власть действует подобно прожектору, буквально высвечивая те или иные фрагменты прошлого и оставляя в тени все остальное. Что-то попадает в объектив намеренно, что-то — случайно, создавая “проектировщикам памяти”, фальсификаторам прошлого, дополнительные проблемы. “Не “высвеченная” властью территория прошлого — это зона антипамяти; бесполезная или нежелательная для “проектировщика” область, в которую он норовит переместить неугодные ему субъекты, чтобы те не мешали “правильному” восприятию действий культурного героя” (с. 9).
В докладе прослеживается это слепое, почти идиотическое блуждание глаза-прожектора власти во тьме истории, из которой лихорадочно выхватывались какие-то блики, какие-то фигуры. Книга снабжена увлекательными и даже забавными иллюстрациями, призванными продемонстрировать различные аспекты апроприации прошлого от одного десятилетия — и от одного юбилея “Великой Победы” — к другому.
Начиная с первых послевоенных лет, героическое прошлое народа было объектом идеологических спекуляций советского режима — сталинизации, десталинизации, реабилитации Сталина, Жукова и других значимых фигур, противоречий между интернационалистической риторикой и националистически окрашенной “борьбой с космополитизмом”, между внешним пафосом парадов и внутренними процессами распада страны.
Авторы подробно рассматривают и сравнивают все празднования юбилеев, сопутствующие им мероприятия и торжества, речи вождей и в особенности военные парады, наблюдая, как память локализуется в пространстве власти, затем распространяется на все пространство жизни и повседневности советского человека, далее трансформируется в пространство симулякров уже постсоветского человека. Наконец, она снова возвращается в пространство власти, пройдя полный круг и в нем преобразовавшись до неузнаваемости — до такой степени, что Победа наспех “подверстывается” режимом Путина к легитимации карательных операций в Чечне (репрезентируя их в мировом сообществе как общую анти-террористическую борьбу, по отношению к которой Вторая мировая служила чем-то вроде генеральной репетиции).
В заключение делается весьма не-сложный вывод: “60 лет власть манипулировала памятью в своих сугубо эгоистичных интересах, причем делала это, как правило, весьма топорно и не-эффективно. Нынешний режим — не исключение” (с. 52). Вывод настолько самоочевидный, что использование авторами в своем анализе фукианской модели власти кажется каким-то барочным излишеством. Тем более, что за выводом на правах морали следуют довольно сомнительные призывы. Во-первых, к власти — наконец одуматься, “исправить ошибки” и даже самой “возглавить поход против коррумпированной чиновничьей гидры”, как будто власть здесь представлена не чиновниками, а чем-то или кем-то другим, неким мистическим телом Суверена или доброго царя, находящегося в трагическом неведении. Во-вторых, к “интеллектуалам” и обществу — призыв “не чаять легкой наживы в горниле очередной смуты” (имеется в виду представляющая, по мнению авторов, неоспоримую угрозу для власти грядущая “бархатная” революция) и “напряженно сотворчествовать <…> начинаниям власти” (с. 54), которые представляются позитивными.
Эти напутствия, безнадежные относительно своего ожидаемого результата и вообще, кажется, мало учитывающие вероятность такового, на фоне предваряющей их довольно жесткой и беспощадной критики в адрес идеологии и правящих кругов выглядят несколько неуместно (что, если эта власть действительно возьмет и отправится в свой очередной, бессмысленный и беспощадный поход против какой-нибудь новой “гидры”, а интеллектуалы будут радостно этому сотворчествовать?).
Впрочем, недоработанность заключительной части данного текста никак не умаляет его главного пафоса: мы все разделяем ответственность за свое прошлое, и эта ответственность требует от нас восстановить историю в ее правах на истину и справедливость, чтобы можно было сказать: каждый, кто погиб на поле боя — не за свое, а за наше будущее, — погиб не зря.
О. Тимофеева
ПАМЯТЬ В НАСЛЕДСТВО: депортация калмыков в школьных сочинениях / Сост. С.И. Шевенова, Э.-Б. Гучинова. — СПб.: Алетейя, 2005. — 236 с. — 1500 экз.
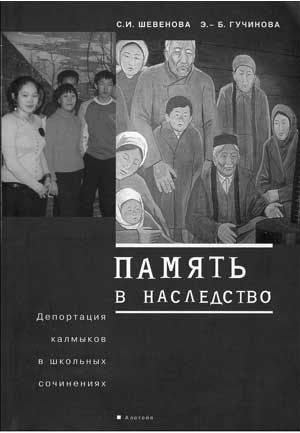
Данная книга представляет собой фрагмент живой истории — истории трагического события, пережитого целым народом. Депортация калмыков, начатая по приказу Сталина о ликвидации КАССР и переселении калмыков в Сибирь 28 декабря 1943 г., затянулась на 13 лет и уничтожила десятки тысяч жизней, что нанесло небольшому народу невосполнимый урон.
За это время — стремительного вымирания людей или их неизбежной ассимиляции — язык данной этнической группы был во многом забыт (за исключением нескольких терминов, обозначающих степени родства, а также некоторых имен и фамилий), предметы религиозного (буддийского) культа — утрачены, многовековые традиции — прерваны, семьи — разрушены. Однако главное, что, возможно, удалось сохранить, — это чувство человеческого достоинства, которое в первую очередь подвергается испытанию у людей, преследуемых по национальному признаку.
Если преследование членов семей “врагов народа” было “нормальной” распространенной практикой тогдашнего режима, то в данном случае ею не ограничились — за “преступления” а “предательство” отдельных сограждан пришлось отвечать всему этносу. Поразительно: указ ВС СССР о “ликвидации” был подписан 27 декабря, и уже на следующий день, 28-го, из каждого калмыцкого дома вооруженные солдаты согнали ничего не понимающих людей в пломбированные неотапливаемые вагоны для перевозки скота, которые по дороге в Сибирь останавливались лишь затем, чтобы выгружать трупы — женщин, детей и стариков, погибающих от голода и холода.
Не случайно составители данного сборника — преподаватель истории и права элистинского лицея С.И. Шевенова и научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Э.-Б. Гучинова, — настаивают на легитимности употребления термина “геноцид” по отношению к этому тягчайшему по своим последствиям преступлению против человеческой свободы, сравнивая его с Холокостом. Если в случае последнего физическое уничтожение было прямым, то здесь — всего лишь опосредованным, что никак не лишает нас права говорить об уничтожении, истреблении народа.
В книге собраны школьные сочинения старшеклассников образцово-показательного элистинского лицея. В своих работах дети (сейчас представляющие собой третье поколение после депортации) пытаются осознать и проговорить эту историческую травму, которая была вытеснена и о которой молчало первое поколение — собственно жертв этого выселения, и о которой в наименьшей степени оказалось осведомлено второе поколение (родители школьников и дети депортированных).
Для выполнения своего творческого задания авторы сочинений, следовательно, должны были обратиться к бабушкам и дедушкам и попросить поделиться воспоминаниями об этом тяжелом периоде в их жизни. Таким образом, устная память, передаваемая “в наследство” от самого старшего поколения к самому младшему, которое закрепило ее в своих текстах, и стала живой историей. В сочинениях, во многом схожих по структуре и содержанию, приводятся свидетельства стариков о том, как их выгоняли из домов, везли в холодных вагонах, о том, как поначалу недружелюбно встречали их сибиряки (которым было сказано, что везут “людоедов”), как постепенно происходила адаптация в новых условиях выживания.
Очевидно, работа, проделываемая не только инициаторами сборника, но и всей активной общественностью, небезразличной к судьбе калмыцкого народа, огромна и заслуживает всяческого уважения. Вернуть людям историческую память — задача важная и сложная. Отдельные шаги на пути ее решения в области образования и воспитания молодого поколения изложены в предисловии и вступительных словах от составителей. Из них можно сделать вывод, что историческая рефлексия (которая могла бы при худших обстоятельствах обернуться, в частности, и националистической агрессией — не будь калмыки народом буддийского вероисповедания, ко всему, включая страдания, относящимся с невозмутимым спокойствием) в настоящий момент тщательно контролируется и происходит в жестко заданном направлении тотальной критики “тоталитаризма” в пользу процветания “демократии”. То есть для “отработки” исторической травмы применяется простая идеологическая схема, простое нормализующее объяснение.
Однако попытка вывести личную боль каждого на уровень публичности, сделать ее социальной нормой может иметь и такие последствия, как нейтрализация, отчуждение — когда скорбь становится навязываемой института-ми вроде школы, при всей их благонамеренности. Вот, к примеру, фрагмент одного из сочинений: “Конечно же, я не собираюсь оспаривать всю трагичность этой высылки — она бесспорна. И что-то добавить здесь вряд ли можно. Но мне хотелось бы поделиться мыслями по поводу депортации сейчас, в наши дни. По телевизору, по радио, в газетах мы читаем, слышим, видим десятки, если не сотни, публикаций на эту тему. Все они переполнены справедливым негодованием по поводу случившегося. Но парадокс заключается в том, что наше новое поколение уже не воспринимает эти рассказы о ссылке, им даже не интересно, скучно и не нужно. В сочинениях пытаются отписаться общими фразами, при описании тот же набор стандартных выражений, за которыми уже нет никаких чувств и эмоций. Все это воспринимается как некая обременительная ноша” (с. 116).
Возможно, именно такой нонконформистский подростковый протест — эмоциональная честность, позволяющая мыслить самостоятельно до конца, есть куда более важный шаг на пути социальной терапии исторической травмы, открывающий новое пространство, свободное от идеологически окрашенных императивов.
О. Тимофеева
Уортман Р.С. СЦЕНАРИИ ВЛАСТИ: МИФЫ И ЦЕРЕМОНИИ РУССКОЙ МОНАРХИИ: В 2 т. — М.: ОГИ, 2004.
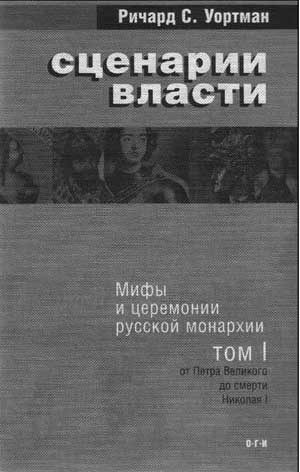
Мифы выгодны и потому живучи, средства их внедрения — церемонии — тоже, и потому исследование американского историка Р. Уортмана порой читается как учебник по политической технологии. Николай I впервые трижды поклонился народу с Красного крыльца 22 августа 1826 г. Это стало частью ритуала и во время коронации, и при последующих посещениях монархом Москвы. Император кланяется, народ и партия едины, и газеты называют это древним русским обычаем. Так ли уж древни некоторые русские обычаи? Ведь совсем незадолго до поклонов считалось, что император может только принимать благодарности, но не благодарить народ сам, его богоподобная персона не может быть ничем обязана простым людям.
Идея народности пришла из Европы времен пробуждения наций. Монархия не была пассивна, она стремилась отвечать на вызовы времени. Но политическая технология, направленная на изменения оболочки при сохранении сущности режима, в конечном счете, бессильна. Чем более массовыми становились церемонии, тем сильнее выступали на передний план полицейские меры для организации и обеспечения безопасности. Но организовать отстраненную от самостоятельности и просвещения массу невозможно, и результатом стала Ходынка.
Александр I в рескрипте при вторжении Наполеона говорил о войне до изгнания врагов из “моего царства” и ничего — о народе. Обращение к народу последовало только в момент военной катастрофы. И в ближайшие месяцы после победы “официальные заявления и панегирики перенесли заслугу победы с “народа” на Промысел Божий, превращая национальный триумф в религиозное чудо, совершенное с помощью русской армии” (т. 1, с. 295). О любви к ней народа говорила Екатерина II, но как она еще могла мотивировать свое правление при практически полном отсутствии прав на престол? Только при ней народ вообще был допущен на коронацию и мог выразить свое восхищение и одобрение. Бывшая лютеранка, она настаивала и на увеличении числа церковных обрядов. Одиннадцать дней совершала пешее паломничество в Ростов, проходя по семь верст в день. Любовь народа вышла на первый план и при Александре II, после разгрома в Крымской войне. Энергичность воспоминаний бесконтрольной власти о народе — мера затруднений этой власти.
А законный государь и победитель Петр I не церемонился. На гравюре, изображающей триумфальное вступление русской армии в Москву после Полтавской битвы, нет ни Москвы, ни ее жителей. Только царь, его генералы, солдаты, пленные шведы. На первом варианте гравюры были здания, но Петр его отклонил, по-видимому, считая, что они только отвлекают внимание от главного. Даже водосвятие при Петре превратилось в военный парад. Уже “в первом триумфе Петра не было приветственных атрибутов; это была демонстрация военной мощи в чистом виде, покорение столицы в честь покорения новых земель для империи” (т. 1, с. 70). Власть, завоевывающая народ для его же пользы, для принесения цивилизации и прогресса. Власть поражающая и безответственная. Кажется, даже Пушкин поддался этому мифу, говоря о том, что правительство — единственный европеец в России. Но использующие миф становятся его пленниками. Идея завоевания требовала применения силы и препятствовала каким-либо компромиссам с теми или иными слоями покоренного населения.
И с Европой уже было не так просто. Появились модели государственного устройства, исключающие монархию. Павел I попытался это игнорировать, воспроизвести миф о священном завоевании, командуя парадом в короне и далматике — в регалиях и светской, и духовной власти. Результат воспринимался карикатурно. “Обер-церемониймейстер <…> муштровал придворных, как рекрутов, заставляя их точно, по команде, кланяться, целовать руку императора или императрицы и удаляться” (т. 1, с. 242).
Пришлось корректировать миф. “Если уже нельзя было изображать монарха богом, то можно было идеализировать его как лучшего из смертных” (т. 1, с. 325). Монарх — воплощение национального чувства. И потому народу следует воспринять идею о том, что верность — не отклик на действия правителя, а черта нации. Любовь к монархам и преданность престолу — природное свойство русских. А бунтовщики — немногие отщепенцы. Непослушание правительству доказывает недостаток русского духа. “Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков!” — распекает Николай I бунтовщиков (цит. по: т. 1, с. 395). Хорошо бы тому, кто говорит об “особом пути России” и особых свойствах русского народа, подумать, откуда появилось это представление об особых свойствах. “Отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали подозреваемых и приводили их к суду; видели все состояния соединившимися в одной мысли, в одном желании: суда и казни преступникам” (цит. по: т. 1, с. 366). Только незначительные стилистические отличия показывают, что это все-таки 1825 г., а не 1937 г.
Государь — образец человеческого поведения. Пример самопожертвования на службе государству. Всевидящий монарх, вникающий во все, поучающий на улице полицейских. Николай I так же мало что мог поделать с холерой, как Александр I с наводнением. Но он “создал вокруг себя ауру распорядительности и доверия” (т. 1, с. 395). Пришлось становиться моделью порядочности. Пришлось прятаться. Николай I благоволил к тем лицам на службе, у которых были семьи, посылал им подарки на елку. Сам считался примером “блаженства в браке” — только после его смерти фрейлины узнали о его любовнице Варваре Нелидовой.
Но на фасаде — государство как единая крепкая семья. Теперь в церемониях — не мифология из сферы богов и героев. Началось это еще при Екатерине II, которая принимала поздравления с днем рождения, играя в шахматы. А николаевская церемония — демонстрация повседневной жизни монарха, репрезентирующая повседневную жизнь империи. Семейный праздник императора — модель для поведения чиновников во всех концах России. “В известные дни под окна Коттеджа приводили наблюдателей, и в их числе специально отобранных крестьян из окрестных сел, и давали им возможность увидеть, как императорская семья играет в гостиной” (т. 1, с. 447). Коттедж был сырым и душным, “после дождя в будуарах императрицы появлялись лягушки, а в гардеробах грибы” (т. 1, с. 447). Но декорация поддерживалась. Превращение частной жизни в церемонию по императорским образцам не оставляло ни сил, ни времени на более серьезные предметы. Миф становится слишком тесен для тех, кто его поддерживает. Александр II имел вторую семью с фрейлиной Екатериной Долгоруковой, его сыновья устраивали пирушки с цыганами, в конце концов его племянник снял с оклада материнской иконы драгоценные камни, чтобы оплатить карточные долги.
Власть желает материализовать свои символы. “В царствование Павла и Александра главной церемонией Российской монархии становится парад… <…> Монарх, приводящий в движение огромное количество людей под командой офицеров-дворян, представлял уже не метафорическое, а реальное выражение господства” (т. 1, с. 229). Армия олицетворяет — и заменяет — народ, смотр — сражение. Власть приводит мир в эстетический порядок, изгоняя неправильные и неорганизованные чувства отдельных людей. Готовность такой армии к обороне второстепенна, можно и потерять что-то на окраине, но сохранить центр.
Интересна эволюция поездок монарха по стране. Екатерина II демонстрирует заботу о подданных (может быть организован сверху, например, карнавал с четырьмя тысячами участников: не столько народное гулянье, сколько театрализованное высмеивание пороков, показывающее усилия императрицы по улучшению нравственности). Благодарные подданные, соответственно, демонстрируют любовь к царице-матушке. Поездки Николая I — детальные инспекции с посещением казарм, школ, больниц. Хозяин объезжает свои владения и, стоя на площади где-нибудь в Симбирске, издает приказ, как привести ее в правильный вид. После его отъезда все продолжает разваливаться.
Уортман дает хорошую картину того, как власть стремится обосновать себя идеологически — и внедрить это обоснование в повседневные практики. Коррекция мифа происходит только под внешним давлением, но и живучесть сложившегося велика. Похоже, что даже миф о просвещенном завоевателе-управителе еще далек от смерти. (А современное правительство России находится где-то на уровне Николая I? Оно любит поговорить об одобрении народом, не снисходя до одобрения отдельным лицом, отданным во власть административно-бюрократического произвола.)
Но повседневные практики меняются независимо от власти, незаметно и необратимо. Царевна Софья числится противницей Петра, но она следовала за гробом своего брата Федора на его похоронной процессии в 1682 г. А ведь до этого женщина даже на коронацию могла смотреть только через потайное окошечко. Европеизация была разлита в воздухе и в XVII в., тем более — в XIX в.
Нарастали противоречия. Монархия времен Александра III стремилась к консолидации, разделяя общество “на тех, кто остался верен народному духу, и тех, кто ему изменил” (т. 2, с. 274), — так образованные слои выпали из понятия “народ” и, тем самым, из числа лояльных к монархии. Миф, опирающийся на “народные традиции”, “превознося XVII век, преуменьшал значение XVIII и XIX вв. и делегитимизировал легалистическую бюрократию, интеллигенцию и всю динамику преобразований, достигших своей кульминации в предшествующее царствование” (т. 2, с. 323). Уортман подчеркивает несовместимость монологического мира мифа с политикой Нового времени — мира обсуждения, баланса и компромисса. Цепляясь за миф, теряют возможности. Конституция рассматривалась как формализация отношений с народом, как угроза связям на основе личной преданности. “Стремление к законности и порядку приходило в конфликт с богоподобными образами всемогущества; демонстрации высоких чувств и смирения противоречили претензиям на сверхчеловеческую рациональность” (т. 2, с. 26).
Власть цеплялась то за одно, то за другое. Николай II на публике выступал в роли то московского царя, то богомольца, то простого человека, то наследника Петра Великого, то труженика, работающего по 10—12 часов в день на благо империи, то солдата. Хваталась за военные успехи прошлого — юбилеи Полтавы в 1909 г. и Бородина в 1912 г. (как тут не вспомнить современные торжества, посвященные победам Великой Отечественной). Но усилия все более принимали характер фарса (выпускались марки с портретами царей — и самодержцы всея Руси регулярно получали по физиономии почтовым штемпелем). Или самообмана. Причем, так как миф формировался не только монархом, но и его окружением, все обширнее был круг вовлеченных в этот самообман. Удалось поверить, что революцию устраивают “жиды”, студенты, ну, может быть, немногие рабочие. “Торжества по случаю трехсотлетия династии убедили Николая, что он пользуется поддержкой подавляющего большинства русского народа” (т. 2, с. 677), вероятно, убедили в том же и господствующие классы. Николай II считал, что, подобно Михаилу, восстановил Россию после смуты. Не поэтому ли правительство рискнуло ввязаться в войну на следующий после юбилея год? Никто не способен удержаться у власти только за счет силы и политтехнологии, вопреки реальности и интересам большинства людей. Хотя теперь мы знаем, что гибнущая власть может утянуть за собой все общество… Интересно было бы описать мифы и сценарии власти после 1917 г. — по целям и структуре они едва ли слишком отличаются от монархических…
Исследование Уортмана обладает еще преимуществом взгляда со стороны. Любителю улицы Зодчего Росси, может быть, полезно прочесть о впечатлении “холодного и отталкивающе го единообразия, характерным примером которого были здания Росси, ведущие к Александринскому театру на Театральной площади” (т. 1, с. 408). Может быть, стоит чуть умерить ностальгию по неоклассицистскому Петербургу времен Империи, поскольку “военный рай прямых линий, военных строев посреди пустых геометрических пространств, окруженных классическими желтыми зданиями, — демонстрация несокрушимой власти императора над непокорной действительностью” (т. 1, с. 309).
Александр Уланов
ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ: Материалы международной конференции (30 июня — 3 июля 2003 г.). — СПб.: Наука, 2003. — 582 с. — 500 экз.
Из содержания: Багно В.Е., Маликова М.Э. Образ Петербурга в мировой культуре; Страда В. Петербург как европейская столица; Гардзонио С. Образ Петербурга в итальянской литературе XVIII — начала XIX в.: некоторые материалы к теме; Данилевский Р.Ю. “Большой Петербург и маленький Веймар” (И.В. Гёте о городе на Неве); Немировский И.В. Образ Петра Великого у Байрона; Мильчина В.А. Петербург и Москва в книге Жермены де Сталь “Десять лет в изгнании”: две формулы; Лавринец П. Петербург в литовской поэзии национального возрождения; Туниманов В.А. Подростки разных времен (Достоевский, Мориак и другие); Токарев Д.В. Россия и Петербург в жизни и творчестве Андре Сальмона; Фокин С.Л. Снова о путешествии Селина в Ленинград; Белобратов А.В. “Желток и деготь”: Ленинград в современной немецкой литера туре; Паперный В.М. Петербургский субстрат в мифологии Тель-Авива; Асоян А.А. Державный Петербург sub certa specie (Оптика и поэтика. К 300-летию города); Рубинс М. Петербургский топос во французских путевых очерках первой половины XIX века; Заборов П.Р. Французский актер в Петербурге и о Петербурге; Дмитриева Е.Е. Питерборуг, пригрезившийся градом на Неве, или Петербург в судьбе Августа Коцебу; Борисова И.Е. Вранье о Петербурге (По маршрутам Мюнхгаузена); Белова О.В. Петербург в крестьянской культуре (Город в народных легендах); Львовский А.О. Образ революционного Петербурга в Швеции [у шведских писателей]; Буонкристиано П. Театральные адаптации и постановки “Белых ночей” Ф.М. Достоевского в Италии; Нива Ж. От Версаля в Петергоф… и обратно; Левинг Ю. Повседневный Петербург в дневниковых записях Александра Бенуа 1917 года; Тиме Г.А. Петербург — русский Берлин — Москва как “триада” путешествий русского духа.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА (ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ). — Балашов, 2003. — 132 с. — 120 экз. — (Весы: Альманах гуманитарных кафедр Балашовского филиала Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 2003. № 25).
Содержание: Вахрушев В.С. О теории жанра и об истории его изучения; Балашова Т.А. Об истоках сатирико-юмористического научно-фантастического романа; Догалакова В.И. “Послания” Тимура Кибирова как зеркало эволюции одного из лирических жанров; Лебедушкина О.П. Воскрешение жанра (К вопросу об архитекстуальности в современной отечественной прозе); Осипова Н.В. Некоторые аспекты теории жанра романа воспитания в контексте английской литературы XVIII— XIX вв.; Седов А.Ф. Анекдот и другие жанры словесного художественного творчества; Шеина С.Е. Место поэзии в творчестве Дж. Джойса.
Щеглов Ю.К. АНТИОХ КАНТЕМИР И СТИХОТВОРНАЯ САТИРА. — СПб.: Гиперион, 2004. — 720 с.
Антиох Кантемир в последнее время не избалован вниманием специалистов (на память приходит разве что сборник “Антиох Кантемир и русская литература”, изданный в 1999 г. “Наследием”). И вот петербургский “Гиперион” публикует весьма впечатляющую по объему монографию, которая к тому же написана одним из авторитетнейших современных филологов. Ю.К. Щеглов (ныне профессор Мэдисонского университета в США) — представитель тартуско-московской семиотической школы, среди его работ — “путеводитель” по сатирической дилогии И. Ильфа и Е. Петрова и другие влиятельные в научном мире сочинения. Потому, как и следует ожидать, книга о Кантемире-сатирике — одновременно историко-литературная и теоретическая. Она напоминает работы В.Н. Топорова о русской святости и творчестве М.Н. Муравьева или труд Д.М. Сегала об О.Э. Мандельштаме. Это все пространные сочинения, в которых изучаемые тексты анализируются почти пословно, что, как правило, связано с выявлением не только доказанных источников, но и обширного интертекстуального поля.

Монография Ю.К. Щеглова разделена на две части: первая “представляет собой тематический по преимуществу обзор восьми Кантемировых сатир (в большинстве случаев в порядке следования текста)”, во второй, “напоминающей по строению каталог или справочник, систематизированно излагаются важнейшие из риторических концептов, характерных для формальной сатиры и близких ей жанров” (с. 34). Цель автора — выяснить не столько своеобразие сатир Кантемира, сколько актуализацию в его текстах памяти жанра, отложившейся в тематических и риторических концептах. Жанр стихотворной сатиры — древний, реализованный в произведениях многих сочинителей (от античности до первой трети XVIII в.). Ю.К. Щеглов не ограничивается привычным списком авторов, которых принято сопоставлять с Кантемиром (Гораций, Ювенал, Буало, Лабрюйер, Поуп). “Захватывая созвучия всевозможных степеней близости” (с. 26), он начинил книгу цитатами известных и неизвестных сатириков, “чья забытая поэтическая идиоматика в соположении друг с другом и с нашим Кантемиром вновь обретает жизнеспособность” (с. 330). Так, в индексе авторов сатир, приложенном к монографии, буква “а” представлена именами: А. Абати, И. Абер, протопоп Аввакум, Дж. Аддисон, Л. Адимари, Л. Аламанни, М. Алеман, Алкей, Алкифрон, Алкуин, Ф. Альгаротти, В. Альфиери, П. Анри, Апулей, П. Аретино, Л. Ариосто, Аристофан, Архилох, Архипоэт, Афиней, Афраний. Разумеется, Ю.К. Щеглов отнюдь не настаивает на факте знакомства Кантемира со всеми его предшественниками, но — вне специальных притязаний на историзм — каталогизирует свойственные жанру сатиры концепты, которыми пользуется и русский поэт.
Отсюда — неожиданное, однако вполне справедливое автоописание жанра монографии: “Читать эту книгу можно не как исследование, не подряд, не от начала к концу, а так, как “читают” энциклопедии и каталоги, т.е. бродя прихотливыми, ветвящимися маршрутами по вехам внутренних отсылок, или так, как читают примечания и словари, т.е. отыскивая в них нужные сведения по мере надобности” (с. 32). К примеру, анализируя в хрестоматийной I сатире эпизод “спора автора со своим умом”, исследователь вычленяет и иллюстрирует цитатами топосы: “процессии, кареты, митры”, “спящий судья”, “ухудшение времен, вздох о золотом веке”, “гонимая Наука”, “претензии невежд”, “мемпсимойрия” (недовольство представителей разных слоев общества своей судьбой), а в качестве приложения помещает экскурс, посвященный дискурсивному приему “сравнения с идеалом” (ср. также экскурс о “возрасте и волосах”, украшающий изучение VII сатиры).
Вместе с тем Ю.К. Щеглов (отчасти эпатажно) декларирует, что адресует книгу широкому читателю, которому “сочувствует (еще сравнительно недавно быв в аналогичном положении в отношении Кантемира) и которому хотел бы дать в руки инструмент для адекватного восприятия этого первого поэта европейского типа” (с. 6). Поэтому Ю.К. Щеглов возвращает сатиры Кантемира в исторический контекст, констатируя “металитературный и культуртрегерский, в духе Петра, характер деятельности” поэта, “его упорное стремление ввести в русский обиход из европейского определенный язык и инструментарий поэтического выражения” (с. 28). Но при подобной оценке деятельности Кантемира необходимо признать и то обстоятельство, что русский поэт принципиально отличался от большинства соратников по жанру: “…не менее очевидна и трудносовместимость, с одной стороны, установки на столь элементарный “ликбез”, а с другой — ожиданий, что читатель будет знаком с архетипами, концептами и другими элементами поэтического кода (и притом настолько, чтобы быть в состоянии воспринимать их отдельно от злободневности, что, как мы стараемся показать, для сатиры весьма существенно). Литературный проект Кантемира, таким образом, был с самого начала отягощен неразрешимыми противоречиями…” (с. 28).
Последняя фраза, к сожалению, походит на диагностику “кричащих противоречий”, апробированную демократической публицистикой XIX в. и советским литературоведением. Этот топос — подозрительный. Вероятно, избежать его можно, или вовсе отказавшись от историзма, или, наоборот, последовательно двигаясь по направлению к историзму. Что подразумевает анализ поэтики Кантемировых сатир в двойной перспективе: как образец традиционного жанра и как пример русской литературы определенного периода. В частности, эффективно было бы вспомнить соображения Ренаты Лахманн о том, что риторика выступает как “дескриптивная инстанция” (руководство по выбору правильных языковых средств убеждения) и как “нормативная инстанция” (руководство по созданию социальных ситуаций, в которых риторические предписания действенны). “Убедительность” есть не вневременная данность, но социальная конвенция, и риторика не только отражает представления об убедительности, но и формирует, навязывает их. По мнению Лахманн, двойственность задач риторики характерна и для петровской эпохи (которую представлял Кантемир) (Лахманн Р. Демонтаж красноречия: Риторическая традиция и понятие поэтического. СПб., 2001. С. 172—173; ср.: Одесский М.П. Поэтика русской драмы: вторая поло-вина XVII — первая треть XVIII в. М., 2004. С. 43—45). Эта риторическая модель соответствует не только литературе, но всей пропагандистской программе русской монархии последней трети XVII — первой трети XVIII в. Если традиционная риторика полагает, что эффективность убеждения зависит от уважительного учета того, что убеждаемому привычно, то Петр I, ориентируя пропаганду на апологию идеала рационального государства, убеждал не столько в этом идеале, сколько в необходимости для монарха обращаться к средствам убеждения. Может показаться, что подобное безразличие к эффективности пропаганды противоречит сути риторики, однако — с учетом нормативной функции — все на своем месте.
Аналогичным образом, Кантемир создает сатиры, манифестирующие сложную игру с концептами, и в то же время адресуется читателю, который с правилами новой литературной игры пока не знаком. Как видно, здесь нет никаких “неразрешимых противоречий”, а есть усложненная риторическая стратегия. И искренне жаль, что Ю.К. Щеглов пренебрегает такого рода аспектами творчества Кантемира. При рафинированности его анализа риторики стихотворной сатиры и широте привлеченного материала учет историко-культурного своеобразия функционирования текстов Кантемира (которое все равно в монографии рассматривается) мог бы способствовать получению более тонких и неожиданных результатов.
М. Одесский
Дружинин П.А. КНИГИ ФРИДРИХА ВЕЛИКОГО, или Описание коллекции сочинений и изданий прусского короля, напечатанных при его жизни, сделанное по экземплярам, прежде принадлежащим самому королю и его наследникам, а ныне находящимся в Российской государственной библиотеке. — М.: Трутень, 2004. — 294 с. — 300 экз.
При первом знакомстве книга Петра Дружинина вызывает восхищение и “белую” зависть. Как это, в сущности, прекрасно: разыскать и описать книги, которые прусский король Фридрих — воин, меценат и философ — сочинил или составил и которые хранятся в Москве, в РГБ, то есть, говоря попростому, в Ленинке! Причем описать, не сковывая себя объемом, рассуждая про каждую книгу подробно, рассказывая об обстоятельствах возникновения и о судьбах людей, с нею связанных. Получается смесь каталога и библиофильских новелл; такие книги мастерски умел сочинять французский писатель Шарль Нодье (см., например, его “Заметки об одной небольшой библиотеке” и “Новые заметки об одной небольшой библиотеке” в кн.: Нодье Ш. Читайте старые книги. М., 1989. Т. 2). Если библиофильский Элизиум существует, как, должно быть, порадовалась бы тень Нодье, узнав о том, что в лице Петра Дружинина у него нашелся продолжатель.
В книге описаны 49 изданий, распределенных по пяти разделам: 1) сочинения Фридриха (поэмы, оды, послания, стансы и проч.); 2) издания его труда “Анти-Макиавелли”; 3) его исторические сочинения; 4) “разные сочинения” (от памфлетов и полемических статей до рассуждений о юриспруденции и морали) и, наконец, 5) книги других авторов (П. Бейля, Овидия, Горация и проч.), изданные по приказу короля. В приложении опубликованы (в транскрипции и факсимильно) маргиналии Фридриха Великого и Вольтера на страницах королевского “Рассуждения о причинах введения или отмены законов”. Все издания крайние редкие, изданные микроскопическим тиражом (порой не более десятка экземпляров), история их публикации зачастую крайне запутанна, и тот факт, что их подробные описания собраны под одной обложкой, нельзя не приветствовать.
Итак, замысел книги Дружинина достоин всяческих похвал. Полиграфическое исполнение тоже замечательное: прекрасная белая бумага, множество иллюстраций отменного качества, на которых изображены титульные листы большей части описываемых книг. Недоумение возникает, когда начинаешь присматриваться не к материальной, а к, так сказать, словесной стороне дела. Прусский король Фридрих был настоящий ценитель книг; он собирал книги с молодости и до старости, у него было несколько библиотек, в каждом из его дворцов хранились книжные коллекции — обо всем этом П. Дружинин достаточно подробно рассказывает в предуведомлении “К читателю”. Но мог ли библиофил Фридрих, писавший преимущественно по-французски, допустить, чтобы французский текст был предан тиснению без каких бы то ни было диакритических знаков? Все французские тексты, а их в книге Дружинина немало, поскольку он приводит пространные титульные листы Фридриховых французских сочинений, — все они практически лишены этой самой “диакритики”, без которой, увы, французский язык — уже не вполне французский. Впрочем, в нескольких местах диакритика вдруг появляется (значит, ничего невозможного технически в ее воспроизведении не было), но очень скоро начинаешь думать, что лучше бы она и не появлялась, ибо значки смотрят не в ту сторону (см., например, с. 216).
Допустим, диакритика — мелочь. А опечатки, меняющие смысл на противоположный? Сочинение Фридриха о законах носило название “Dissertation sur les raisons d’établir ou d’abroger les loix” (“Рассуждение о причинах введения или отмены законов”); французское “abroger” означает “отменять”; но если на с. 134 и на титульном листе факсимильного воспроизведения это заглавие написано правильно, то на с. 62 и с. 233 (начало транскрипции) этот же глагол в заглавии этой же книги имеет форму “abréger” — “сокращать”. Изменилась одна буковка — и с нею смысл.
Еще мелочи: в книге поминается опера Фридриха “Сила” (“Sylla”); но Sylla — это просто-напросто французское написание имени Сулла; римского диктатора звали именно так; Маниловка есть, а Заманиловки никакой нету…
А вот тоже на первый взгляд мелочь — просто перепутано имя. Описывается книга “Выдержки из “Церковной истории” Флери”. В описании фигурирует портрет — гравюра на меди. Петр Дружинин уточняет: “Под портретом подпись: “Сlaude Fleury””. Но сам это сообщение игнорирует и продолжает так: “Как следует из заглавия, это сочинение имеет своей основой “Церковную историю”, написанную кардиналом Андре-Эркюлем де Флери (1653—1743)…” (с. 200). Беда в том, что из заглавия этого не следует, а из подписи под портретом, равно как и из всех энциклопедий и библиографий, следует, что эту самую церковную историю написал совсем другой Флери — не кардинал Андре-Эркюль, а аббат Клод (1640—1723), отчего вся концепция Дружинина о причинах интереса прусского короля к этому сочинению (“Интерес короля к “Церковной истории” является вполне объяснимым, тем более, что Фридрих был знаком с Флери лично: ему приходилось вести переговоры с кардиналом в связи с французским участием в войне за Австрийское наследство”) рушится: война-то началась в 1740 г., когда автор “Церковной истории” уже 17 лет как был в могиле. А ведь и в этом случае перепутано всего-навсего одно слово, вернее, одно имя: вместо Клода обсуждается Андре-Эркюль…
Книга о книгах Фридриха Великого — сочинение, конечно, научное, а не художественное. Но даже в научной книге нельзя писать: “…он критикует современные законы <…> преподнося свободу и благость прусского законодательства” (с. 134; курсив мой; сказать следовало, разумеется: “превознося”). Нельзя писать: “Это сочинение есть дань короля своим галломанским вкусам, которые пленили его еще в юности” (с. 178; собственный вкус никак не может пленить человека — даже в юности). Нельзя писать: “Фасады пытаются донести до нас дух зарождающегося классицизма” (с. 36), или: “В этот период амбиции короля несколько успокоились, достигнув столь желанной славы полководца” (с. 28; фасады не могут пытаться, а амбиции не могут достигать славы полководца).
Таких неуклюжих фраз в книге множество, но, читая их, можно, по крайней мере, догадаться о содержании. А что означает фраза: “Отметим, что редакция базельского издания отлична и менее безукоризненна, чем окончательный вариант в первом томе издания 1750 года” (с. 56)? В каком смысле “отлична”? Сначала думаешь, что в смысле “превосходна” — но тогда как она может быть “менее безукоризненна”? Значит, “отлична” в том смысле, что одна редакция отлична от другой? А вот фраза касательно рода Гогенцоллернов: “С 1415 года они величались курфюрстами” (с. 108). “Величаться” означает прозываться почтительным названием, прозвищем. Но П. Дружинин, полагаю, не хуже меня знает, что “курфюрст” — это вовсе не почтительное прозвище, которым “величают” правителя любящие подданные в знак особого почтения, это термин, обозначавший в Германии князей, имевших право избирать императора, и “величание” Гогенцоллернов курфюрстами началось с того, что бургграф Нюрнберга Фридрих V выкупил у императора Сигизмунда курфюршество Бранденбург и стал курфюрстом Фридрихом (1415—1440) (см.: Монархии Европы: судьбы династий. М., 1996. С. 24), то есть дело тут вовсе не в моральной оценке достоинств властителя. Язык мстит за себя, и стилистическая неточность оборачивается неточностью смысловой.
Кстати, эта неточность присутствует уже в самом заглавии: Дружинин анонсирует свой каталог как “описание коллекции”, но сам же через несколько страниц сообщает, что книги эти, вывезенные из Германии после Второй мировой войны в качестве трофеев, “рассеяны по разным русским книгохранилищам”, “покрыты пылью и безразличием” (с. 17), разрознены даже внутри РГБ, где их больше всего, и в “коллекцию” они превратились исключительно в пределах рецензируемой книги. Ну, а что в том же заглавии вместо “прежде принадлежащим самому королю” надо было бы сказать “прежде принадлежавшим” — это уж совсем пустяк.
Иногда стилистическая неловкость создает эффект просто комический: так, в уже упоминавшемся “Рассуждении о причинах введения или отмены законов” (в варианте Дружинина “Рассуждении о причинах установления или уничтожения законов”) король — пишет Дружинин — “пытается рассмотреть причину установления или уничтожения законов” (с. 134). А мы-то думали, что в рассуждении о законах он рассуждает о сельском хозяйстве и балете…
Или вот еще: в биографическом очерке, посвященном жизни и деяниям Фридриха, подробно рассказывается, как неудачно выступала Пруссия в Семилетней войне, как король терял одну за другой свои крепости, носил при себе пузырек с ядом и, если бы Россия, где к власти пришел Петр III, не перешла на прусскую сторону, дела Пруссии пошли бы совсем плохо. Вывод: после этих событий никто из обсуждавших персону Фридриха “уже не смел опровергнуть приставку “Великий”” (с. 39). Что-то тут, право, с логикой не в порядке, не говоря уж о том, что “Великий” — все что угодно, только не приставка.
Приведенные примеры (число которых можно, что называется, без труда умножить) взяты из авторского текста; но П. Дружинин выступает еще и в роли переводчика цитат из текстов Фридриха и его современников. И вот как эти люди говорят: “Очерк о предубеждениях <…> умножил апатию, в которой меня держали потерянные силы <…> вся моя энергия была устремлена на то, чтобы организовать себя…” (с. 162; это Фридрих пишет Д’Аламберу); “Я только что получил и прочел с большой чувственностью похвальное слово <…> о молодом принце” (с. 154; это, напротив, Д’Аламбер, по воле П. Дружинина не отличающий “чувственности” от “чувства” и “чувствительности”, пишет Фридриху). “Тема является не совсем освещенной” (с. 136; это пишет дипломат маркиз де Валори, которого Дружинин наделяет одной из самых неудачных особенностей своего стиля: слово “является” по частоте употребления занимает, пожалуй, в книге второе место после имени Фридриха (ср., например: “И ведь является чистой правдой, что книги эти мало спрашиваемы”, с. 16), и кто только и когда тут не “является” — и совершенно напрасно…). “Господин, я получил Ваше письмо…” (с. 58; это пишет Фридрих тому самому маркизу де Валори, хотя французское слово “Monsieur” в обращениях переводится не как “Господин”, а исключительно как “сударь”).
Процитированные фразы из переводов никак нельзя назвать удачными. Но в книге нередки случаи, когда иноязычные тексты просто оставляются без перевода. Вероятно, есть известный библиофильский шик в том, чтобы писать о переплете veau, об экземпляре sur grand papier и sur petit papier и о гравюрах avant la lettre. Но, может быть, стоило пояснить невинному читателю, что veau — это телячья кожа, что sur grand papier — это книга с очень широкими полями, а sur petit papier — напротив, с очень узкими, гравюры avant la lettre — это самые ранние оттиски, еще без пояснительной подписи под картинкой? Ведь “переплет с кружевом” не именуется у Дружинина переплетом “àdentelles”. Уж если книга пишется по-русски, то “непереводимой игры слов” в ней быть не должно.
В общем, работу П. Дружинин проделал большую и полезную, книги прусского короля выявил и описал, но тени Нодье радоваться особенно не стоит. Об этом бы предмете да рассказать другим, человеческим языком…
В 1780 г. Фридрих выпустил книгу, в которой раскритиковал немецкую литературу; Д’Аламбер и Гримм указали ему на некоторые допущенные им неточности (король, например, ошибочно считал, что Эпиктет и Марк Аврелий писали на латыни, а не на греческом). Дружинин по этому поводу пишет о “присутствовавших в работе отзвуках безграмотности” (с. 182). Увы, эти отзвуки слышны и в рецензируемой книге. И очень жаль: замысел-то был дивно хорош.
В. Мильчина
Л.Н. ТОЛСТОЙ В 1850-е ГОДЫ: РОЖДЕНИЕ ХУДОЖНИКА: Материалы международной научной конференции: Тбилиси, 4—9 июня 2002 г. / Сост. Г. Алексеева. — Тула: Ясная Поляна, 2003. — 127 с. — 500 экз.

Содержание: Алексеева Г. Предисловие; Сливицкая О. Фрактальный характер творчества молодого Толстого. “Люцерн”; Кук Б. Самосознание в раннем творчестве Толстого: “История вчерашнего дня” в дарвиновской перспективе; Абзианидзе З. Л.Н. Толстой, грузинские гуманисты и современность; Суин де Бутемар Б. Рождение писателя книг для чтения для детей и подростков; Филина М. Л.Н. Толстой в восприятии польских писателей-современников; Хруска А. Страдания детей и жестокость толстовской гармонии; Кшондзер М. Нравственно-этическая проблематика повести Л.Н. Толстого “Казаки” в контексте традиций русской литературы и в современном прочтении; Шатиришвили З. По ту сторону возвышенного: кавказский топос в “Хаджи-Мурате” Л.Н. Толстого; Полосина А. “Мне кажется, что это написал я сам” (Л.Н. Толстой и Жан-Жак Руссо: источники творчества, параллели); Алексеева Г. Английский круг чтения Л.Н. Толстого в 1850-е годы; Грызлова И. Штрихи художественных приемов Лоренса Стерна в рассказе Л.Н. Толстого “Метель”; Осипова Э. Повесть “Детство” и восприятие раннего творчества Л.Н. Толстого американскими писателями; Hamling A. Introduction to the analogies of the religious thought of Lev Nikolaevich Tolstoy and Miguel de Unamuno; Никитина Н. “Пятая стихия” Льва Толстого.
ДНИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ — ВШЕНОРЫ 2000: НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: Международная конференция 12—14 июня 2000 г. Вшеноры и Прага. — Прага: Národni knihovna CˇR — Slovanskáknhovna, 2002. — 351 s. — (Publikace Slovanskéknihovny).
Из содержания: KoprˇivováAnastasia. Российские эмигранты во Вшенорах — Мокропсах — Черношицах (двадцатые годы 20-го века); Чирков Е.Е. Семья писателя Е.Н. Чирикова во Вшенорах; Толкачева Е.В. Марина Цветаева в критике современников; Лубянникова Е.И. Вшенорские письма М.И. Цветаевой к И.Ф. Калинникову [: Публикация двух писем 1925 г.]; Горькова Т.А. Поэма “Крысолов” — политический подтекст; Лебедева М.С. “Восстанье в день”: (Поэт и сын: Марина Цветаева и Георгий Эфрон); Невзорова И.М., Невзоров А.Ю. Ариадна и Мур Эфрон — художники; Ksˇicová Danusˇe. Поэтика поэм Марины Цветаевой; Кудрова И.В. Поворот русла: (К вопросу о философских основах чешской лирики Цветаевой); Hasty Olga P. Время и пространство в “Пражском рыцаре”; Жуковская Т.Н. Поэзия Марины Цветаевой в поэтике Даниила Жуковского: Слово — образ — звук; Pann Lilya. “Магдалина! Длящаяся!”; Войтехович Роман. Рождение трагедии: об истоках замысла античной дилогии Марины Цветаевой; Айзенштейн Е.О. “В тайнах, как в шалях”; Петкова Галина. Раздел “Прага” в книге “После России”: поэтика заглавий; Шевеленко И.Д. В поисках жанра: проза Цветаевой начала 1920-х годов; Романова Е.А. О попытках постижения феномена “поэт” в прозаических текстах Марины Цветаевой чешского периода; Полуэктова Т.Н. Русская периодическая печать в Чехии, 1922—1925 годы. Марина Цветаева; Koprˇivová Anastasia. Вшенорско-мокропсинский клуб; Бернштейн Г.С. Чехия (Вшеноры) — Франция: дружеские связи Марины Цветаевой; Hlavácˇek Antonin. Марина Цветаева и Анна Тескова; Сомова В.В. Б.К. Зайцев и М.И. Цветаева; Bubenikova Milusˇa. А.Л. Бем и М. Цветаева; Мнухин Л.А. Поэзия М. Цветаевой первой половины 1920-х гг. и молодые поэты русского зарубежья.
Wanner Adrian. RUSSIAN MINI-MALISM: FROM THE PROSE POEM TO THE ANTISTORY. — Evanston (Ill.): Northwestern University Press, 2003. — XII, 218 p. — (Studies in Russian Litera-ture and Theory).
Автор этой книги уже известен по своей монографии о Бодлере в русской литературе (Baudelaire in Russia. Gai-nesville e.a.: University Press of Florida, 1996). От нее оставалось впечатление легкой неудовлетворенности: как будто бы все так, а в то же время — и не так.
Если попытаться это впечатление проанализировать, то, кажется, вернее всего будет сказать, что при несомненном знании предмета, профессиональном владении теорией, причем сразу несколькими ее сферами, обширной начитанности автору все-таки не хватило широты кругозора. Выбрав себе несколько целей, он шел к ним, словно не поднимая головы и почти ничего не замечая вокруг, хотя именно эти подробности и излишества как раз и могли составить важнейшее достоинство работы.
Отчасти такова же и книга нынешняя.
В какой-то степени она продолжает предшествующую, поскольку точкой отталкивания для автора вполне логично становятся “Стихотворения в прозе” Тургенева в их не раз уже констатировавшемся разными исследователями соотношении с “Petits poèmes en prose” Ш. Бодлера. Другие предметы исследования — стихотворения в прозе реалистов (Гаршин, А. Корнев, А. Гастев, Бунин) и символистов (Бальмонт, Миропольский, Анненский, Добролюбов, Белый, Блок, а также Евг. Лундберг, Розанов и некоторые другие, мельком названные), “Сказочки” Сологуба, “Сны” Ремизова, футуристические миниатюры в прозе (Хлебников, “Люди в пейзаже” Б. Лившица, Кандинский, Гуро), рассказики Хармса. В первой главе дается обзор истории русского минимализма и теорий “стихотворения в прозе”, а в заключении говорится о двух полюсах современного минимализма — карточках Л. Рубинштейна и “Крохотках” А. Солженицына.
Все это выглядит весьма симпатично и полезно, хорошо написано (как представляется при несовершенном знании английского), включает добротную библиографию, выводы и анализы автора не должны быть обойдены последующими исследователями. Однако если попытаться сформулировать причины внутренней неудовлетворенности книгой, то надо будет повторить приблизительно те же слова, что и ранее.
А если их конкретизировать, то получится примерно вот что.
Прежде всего, стоит сказать о том, что автор заявляет о намерении анализировать исключительно прозаическую миниатюру. Намерение вполне понятное, однако оно, как кажется, нуждалось бы в определении различий между поэтическим и прозаическим, каким оно представляется автору. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что вопрос этот чрезвычайно сложен и единого ответа не имеет, однако все-таки автору было бы резонно назвать те представления, на которые он ориентируется. Несколько раз на страницах книги появляется фамилия Ю.Б. Орлицкого, напряженнее других занимающегося ныне проблемами промежуточных типов речи, но это лишь отсылки к конкретным его наблюдениям, а не к общей концепции. Понятно, что концепция Орлицкого автора может не устраивать (она близка далеко не всем), но ни она, ни какая-либо иная не заслужили в рецензируемой книге оценки.
Меж тем внимание к этой стороне дела более или менее очевидно, если мы начнем вспоминать конкретные произведения. Скажем, упоминаемый в книге “Зверинец” Хлебникова (все-таки — прозаическая миниатюра) совершенно очевидно ориентирован на “Александрийские песни” Кузмина (все-таки — верлибр). Особенно ощутима эта проблема в начале ХХ в., во время интенсивного развития верлибра, оформляющегося как поэтическая система в соотношении с метрическим стихом и различными формами прозаических миниатюр. Соответственно, последние также должны восприниматься на фоне верлибра, и какие-либо наблюдения над этой стороной дела должны были бы быть сделаны. Иначе упоминаемый автором А. Гастев с “Поэзией рабочего удара” может быть воспринят и как прозаик, аналитическому рассмотрению подлежащий, и как поэт, о котором в данной книге говорить вовсе не обязательно.
Вторая наша претензия касается круга разнообразных явлений, привлеченных к анализу, и степени углубленности этого анализа. Вот лишь несколько очевидных примеров (нам никогда минимализмом заниматься не приходилось).
В.В. Розанову в книге посвящено примерно полстраницы, причем речь идет лишь о публикации в альманахе “Северные цветы” 1903 г. Между тем все его книги в жанре “опавших листьев”, количество и поэтическая природа которых далеко еще не прояснены, имели сильнейшее влияние на литературу своего времени. Не будем даже вспоминать Виктора Шкловского, скажем лишь, что для всей русской литературы его творчество прежде всего связывалось с этой мозаикой миниатюр и едва ли не каждый автор, обращавшийся после Розанова к подобным жанрам, соотносил свое творчество с ним.
Ни разу не упоминается на страницах книги имя австрийского писателя Петера Альтенберга, чьи миниатюры очень влияли на русскую прозу. В частности, разбираемые Ваннером миниатюры Гуро совершенно явно соотносятся с творчеством Альтенберга, о чем в свое время писал Н.-О. Нильссон (см.: Guro Elena. Selected Writings from the Archives / Ed. Anna Ljunggren and Nina Gourianova. Stockholm, 1995. P. 26—28). Есть свидетельства, что этот ныне забытый писатель по крайней мере до середины 1920-х гг. был весьма популярен в России. А если учесть, что знание немецкого языка в то время вовсе не было уникальным явлением, влияние немецкоязычной миниатюры могло быть гораздо более значительным, чем это представляется автору.
Как вполне проходной факт упоминается, что Сологуб переводил стихотворения в прозе Уайльда. Пожалуй, это стоило бы развернуть в более распространенную характеристику, тем более что в русскую литературу уже в середине 1900-х гг. вошли не только его стихотворения в прозе, но еще и “Intentions”, которыми вряд ли стоит пренебрегать.
Вообще говоря, стоило бы задуматься над проблемой соотношения художественного и внехудожественного в русской прозаической миниатюре. У Розанова — что это? Он сам, скорее всего, на художественность, на fiction никоим образом не претендовал, но современники и последующие исследователи перевели его творения в разряд литературы совершенно определенно. И вряд ли случайно так подробно писал о Розанове Виктор Шкловский, строивший на анализе его поэтики свои концепции. Но ведь далеко не только Розанов работал в таком духе. Скажем, высказывавший печатно свои претензии к прозаическим миниатюрам (о чем идет речь в работе) В. Брюсов в критике и эссеистике к фрагментарным формам был вполне склонен (ср. цикл “Miscellanea”). У М. Кузмина есть ряд произведений начала 1920-х гг., колеблющихся между fiction и non-fiction, — “Чешуя в неводе” или (в меньшей степени) “Стружки”, где фрагмент становится не только частью произведения, но и самодовлеющим произведением, воспринимаемым в качестве такового и читателями. А от этого пролегает прямой путь к “Печке в бане”, которая уже самыми первыми публикаторами воспринималась как произведение, стоявшее у истоков обэриутского мироощущения.
Из этой же серии: “сказочки” Ф. Сологуба автор рассматривает в контексте народных сказок. Конечно, он вполне имеет на это право; но гораздо более плодотворным кажется нам рассмотрение их на фоне сказки литературной и всякого рода рассказиков “для народа”, во множестве появлявшихся во второй половине XIX и в начале ХХ в. Может быть, тут стоит обратить внимание на специфическую детскую литературу или на первое чтение для только что обучившихся грамоте: как кажется, сологубовские произведения балансируют на грани дидактического и сугубо антипедагогического. В связи с его официальной профессией (учитель) такие сопоставления напрашиваются.
Думается, что таких примеров на самом деле еще больше. Если даже рецензенту, никогда этой проблемой не занимавшемуся, явные пропуски бросаются в глаза, то можно не сомневаться, что у специалистов возникнут еще какие-либо собственные соображения.
Нет сомнения, что книга А. Ваннера должна учитываться историками русской литературы. Она обращает наше внимание на специфику особого рода литературы, выходящего за рамки традиционных жанров, плохо классифицированного традиционным литературоведением, но тем не менее реально существующего. Однако, как нам представляется, рассмотрен этот род весьма неполно, отобранные для подробного рассмотрения творческие системы далеко не всегда являются в полной мере репрезентативными, история лишается существенных для ее понимания звеньев.
Н.А. Богомолов
РУССКАЯ ТЕОРИЯ. 1920—1930-е ГОДЫ: МАТЕРИАЛЫ 10-х ЛОТМАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ / Сост. и отв. ред. С. Зенкин. — М.: РГГУ, 2004. — 318 с.
Сборник “Русская теория. 1920—1930-е годы” составляют доклады, прочитанные на 10-х Лотмановских чтениях, настоящая тема которых — российский гуманитарный феномен первой трети XX в.
Собственно название — “Русская теория” — возникло по аналогии с “французской теорией” (The French Theory), о чем в первых же строках вводной статьи предупреждает организатор чтений и составитель сборника Сергей Зенкин. “Французская теория” (французский структурализм и постструктурализм) — движение междисциплинарное, довольно широкое и в известном смысле агрессивное, однако в отличие от постулируемой здесь “русской теории” в основаниях своих относительно единая. По сути своей “французская теория” — термин внешний (предполагает взгляд извне), если же вообразить некоего “внешнего потребителя” “русской теории”, то скорее можно представить, что он будет иметь в виду в каждом конкретном случае (скажем, ОПОЯЗ или Бахтина), но вряд ли и то и другое вместе, плюс школу Потебни, плюс лингвистов-евразийцев, идеологов славянского Возрождения, наконец, такие особняком стоящие фигуры, как О.М. Фрей-денберг, короче говоря, весь тот исключительно широкий круг идей и течений, который вмещает в себя одноименный сборник. Мы должны признать, что в нашем случае “русская теория”, в отличие от “французской” — категория внутреннего происхождения и предполагает на самом деле даже не столько узко теоретический, сколько историко-культурный феномен, т.е. объединяет весь круг гуманитарных течений начала ХХ в.
Короткое введение призвано определить существо “русской теории”. Здесь высказан один из главных тезисов — теория междисциплинарна, соответственно, мы имеем дело с историей гуманитарных наук в самом общем смысле; кроме того, теория интернациональна, т.е. легко “переводится” и интегрируется (по ходу чтений второй тезис изначально был заявлен в оппозиции — “чтоб не путать с русской идеей”).
Первая статья сборника (Александр Дмитриев. “Эстетическая автономия и историческая детерминация: русская гуманитарная теория первой трети ХХ в. в свете проблематики секуляризации”) имеет отношение к общей истории гуманитарных идей в рамках поствеберовской парадигмы, т.е. речь тут идет о рационализации знания, иначе говоря, о процессе “расколдования мира”. В таком контексте рассматриваются, с одной стороны, “секулярная” и “автономистская” гуманитарная традиция (главным образом, формальная школа и ее наследники), с другой — так называемая “духовно-религиозная”.
Когда же речь заходит о конкретных теориях и персоналиях, главными героями сборника предсказуемо становятся русские формалисты (шесть статей из четырнадцати). “Некоторым философским референциям” формальной школы посвящена статья Яна Левченко. “Референции” обширны и разноречивы (от феноменологии Гуссерля до сенсуализма Д. Юма), однако по большей части перед нами развернутый комментарий к давнишней (1976) статье Джея Кертиса о перекличках формальной поэтики с теорией искусства Бергсона. Статья Ильи Калинина о Шкловском и Замятине начинается с цитаты из Поля де Мана (речь о двусмысленности позиции писателя, который “одновременно и отстраненный историк и агент своего собственного языка”), далее проводятся параллели между отстранением приема в прозе Шкловского и в антиутопии Замятина; общее построение, равно и выводы выглядят крайне замысловато, приблизительно так: “…теоретический (он же исторический в данном случае) контекст подвергается вторичной историзации в их (контекстов? — И.Б.) метафикции. Метафикция — есть фикция о фикции…” и т.д.
Следующий “оппонент” Шкловского — Дидро, а статья (Татьяна Смолярова. “Шкловский и Дидро: в поисках утраченного образа”) начинается с “заставки” из Карло Гинзбурга. Гинзбург обращает назад “теорию остранения”, расширяя ее “горизонты” от Марка Аврелия до Вольтера, Татьяна Смолярова “вписывает” в эту “цепочку” философские трактаты Дидро, статья представляет собой комментарий “параллельных мест”; кажется, заключительная мысль в том, что Шкловский и Дидро сходным образом “спорили с установившейся традицией”: Шкловский — с потебнианским представлением о поэзии, “говорящей языком образов”, Дидро — с театром французского классицизма, реакция обоих была “реакцией на миметизм”. Своего рода продолжение последнего тезиса — работа Илоны Светликовой о полемике потебнианцев и формалистов и о философском и психологическом контексте “теории образов”. Point этой работы — история происхождения термина “семантический ореол метра” (источник — русский перевод книги Уильяма Джеймса “The Principles of Psychology”).
Сергей Чугунников в свою очередь проводит параллели между поэтикой формалистов и “немецкой морфологической традицией”, при этом механизм выдвижения “доминанты” становится аналогом (эквивалентом) так называемого “протофеномена” (Urtypus, по Гёте). Наконец, “генеалогией естественно-научных понятий”, используемых в терминологии формалистов, озаботилась Ирина Сироткина (“Теория автоматизма до формалистов”), соответственно рассматривается “автоматизм” физиологический, медиумический и патопсихологический. Видимо, последний — патопсихологический — контекст интерпретаций стал причиной сюжетной (внутри сборника) логической увязки: за статьей о “патологическом” автоматизме следует статья о теории “патологического” творчества (Елена Гальцова. “Теория “патологического” творчества в работах П.И. Карпова”), иначе говоря, речь идет о психиатрическом искусствоведении.
Как мы уже указывали, формальной школе, ее историческим контекстам и судьбе ее наследия посвящена большая часть статей. Остальные персонажи сборника — А.А. Потебня, О.М. Фрейденберг, Бахтин и “невельский круг”. Предметом статьи С. Зенкина стала научная история одной из основных потебнианских категорий: “Форма внутренняя и внешняя (Судьба одной категории в русской теории ХХ века)”. Кроме известной критики Шкловского С. Зенкин подробно анализирует “живое слово” Бориса Грифцова как “методологический компромисс между Потебней и Шкловским” (хотя, кажется, все же всерьез говорить о какой бы то ни было методологии применительно к метафорическим построениям Грифцова вряд ли уместно, по характеру “метода” Грифцов в принципе вне научной парадигмы), далее следуют философские рефлексии Г.Г. Шпета и “телеологические” — П.А. Флоренского, наконец, некоторая “корреляция” с идеей внутренней формы слова усматривается в металингвистике Бахтина—Волошинова.
Собственно лингвистической теории Бахтина—Волошинова посвящена статья Владимира Алпатова: речь идет о тех положениях книги “Марксизм и философия языка”, которые “выходят за сферы интересов структурной лингвистики”, — автор полагает, что идеи Бахтина—Волошинова стали актуальны “после хомскианской революции”, когда “вновь был поставлен вопрос о творческом характере языка”. Вторая “бахтинианская” статья сборника — о “границах литературоведения и философии” (Ирина Попова), при этом “диалогическая философия” Бахтина описывается в свете дильтеевской герменевтики и “литературной философии” Кьеркегора.
Одна статья посвящена теории античной наррации О.М. Фрейденберг в свете достижений современной западной нарратологии (Андрей Олейников).
О “славянском возрождении античности” и об идее “третьего Ренессанса” — лучшая, на наш взгляд, работа сборника — статья Нины Брагинской, своего рода продолжение изысканий Н.И. Николаева о “Союзе Третьего Возрождения”. Здесь речь о “метаморфозах, которые в 1920—1930-е годы претерпела идея, рожденная в атмосфере Серебряного века”, при этом круг персонажей расширен и идея возрождения античности поверяется, с одной стороны, “художественной практикой” первых советских десятилетий, с другой — постницшеанскими концепциями Николая Бахтина. Кроме того, статья включает чрезвычайно остроумную версию о происхождении и содержании бахтинской теории романа-мениппеи.
В заключение имеет смысл вернуться к определению самого феномена “русской теории”: этим вопросом задается Наталья Автономова (“Журнал “Славянское обозрение” — форма самоутверждения “русской теории”?”). Автор оппонирует, с одной стороны, организатору чтений и составителю сборника: “…это словосочетание не представляется нам оправданным: если “русская”, то не “теория” (скорее, мировоззрение, “идея”), а если “теория”, то не “русская”, не национально-мировоззренческая, а предметная (скорее “теория чего”, нежели “чья” или “какая”…)”. С другой стороны, суть статьи (точнее — подробного реферата-анализа “Славянского обозрения”) — поверка Якобсонова тезиса о “русской духовной традиции”, будто бы особым образом предрасположенной к структурализму и телеологизму (т.е. к идее “перевеса отношений над сущностями”): “Существует ли хоть какая-то связь между тезисом о “русской науке” и “Славянским обозрением” как конкретным контекстом его формулировки?” — вопрошает Наталья Автономова в первой части статьи. Предпоследняя главка называется “Отрицательный ответ на наш вопрос”: журнал предстает неким “собирателем” славянских “наук” и “философий”, намеренно сглаживающим противоречия между славянофильством и западничеством, между религиозной и светской, между эмигрантской и советской гуманитаристикой. Иначе говоря, он не предполагает утверждения некой русской (славянской) теории, которая была бы “одной из других”, его собственная “славянская философия” — философия собирательного “всеединства”. Так или иначе, связь между русской наукой и структурализмом в конечном счете называется здесь “окказиональной”. История “русской науки” предстает не прямой дорогой, но цепью “конкретных случаев и эпизодов”, связь между которыми пока не обоснована: “Наверное, когда-нибудь можно будет написать другую версию связной истории, которая сумеет учесть — как именно, мы пока не знаем — и все эти конкретные эпизоды, которые сейчас интригуют нас своей загадочностью”, — заключает Наталья Автономова.
И. Булкина
ГОРОД, УСАДЬБА, ДОМ В ЛИТЕРАТУРЕ: Сборник научных статей. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. — 216 с. — 200 экз. — (Проблемы изучения художественного произведения в школе и вузе. Вып. 3).
Из содержания: Федоров Ф.П. Степное пространство в русской литературе; Кошелев В.А. Мифология “сада” в последней комедии Чехова; Скибина О.М. Художественные приемы отражения времени и пространства у Чехова; Орлицкий Ю.Б. Обозначения пространства и времени в заглавиях русских поэтических сборников; Ничипоров И.Б. Художественное пространство и время в драматической поэме Юлия Кима “Московские кухни”; Погребная Я.В. “Опространствление” времени как выражение мифологизма книги В.В. Набокова “Лолита”; Акбашева А.С., Будаева И.Ю. Поэтика “встречи—невстречи” как художественное воплощение пространственно-временных отношений в творчестве М.И. Цветаевой; Строганов М.В. Пародия как модель “провинциального текста”; Немцев В.И. Рим в русской образно-эстетической культуре; Губернская Т.В. Город и персонаж: локальный компонент в базовой семантической структуре текста романа М.Ю. Лермонтова “Княгиня Лиговская”; Прокофьева В.Ю. Локус Париж в поэзии “серебряного века”; Тарасова И.А. Петербург А. Ахматовой и Г. Иванова: к проблеме фрейм-структур авторского сознания; Жаплова Т.М. “Золотой век” русской усадьбы в дружеском послании поэтов пушкинской поры; Петрова Н.А. Семантика “дома” в поэзии русской эмиграции ХХ века.
Анцыферова O.Ю. ЛИТЕРАТУРНАЯ САМОРЕФЛЕКСИЯ И ТВОРЧЕСТВО ГЕНРИ ДЖЕЙМСА. — Иваново: Изд-во “Ивановский государственный университет”, 2004. — 465 с.
Жизнь Генри Джеймса, поделенная на два века и на два континента, с редкой последовательностью претворялась в слова: итог — более двадцати романов (или более сорока, если считать повести — short novels в англоязычной номенклатуре), более ста рассказов, десяток пьес. Объем написанного дополнительно, как бы в порядке комментария к основному корпусу — статьи, авто-предисловия, путевые очерки, записные книжки, письма — едва ли не больше. Но и это немного в сравнении с на-писанным джеймсоведами за последние сто лет. Усилия текста настичь ускользающий жизненный смысл подхватываются интерпретациями, интерпретациями интерпретаций… К числу удачных опытов по этой части принадлежит и рецензируемая книга.
Если трактовать литературу как разговор с виртуальным читателем, инициируемый пишущим и поддерживаемый в самом акте письма, то литературная саморефлексия — разговор о разговоре, включенный в основное его течение или к нему прилегающий (предисловия, послесловия, дневниковые записи, наброски). Предмет — все, имеющее отношение к бытию литературы как культурного медиума. Творчество Джеймса трактуется О. Анцыферовой как “summa литературной саморефлексии” (это название одной из глав, распространимое на работу в целом), — и круг проблем, затрагиваемых в этой связи, впечатляет разнообразием.
Прежде всего это проблема развития литературного рынка и превращения произведения в товар, самосознания художника в новой ипостаси — привилегированного маргинала. Генри Джеймс, которого современники окрестили “самым нечитаемым из знаменитых писателей”, в этом отношении представляет собой случай почти вопиющий. Так странно сочетаются в нем высокомерное презрение к “широкой публике” и стремление привлечь и задержать ее внимание; жалобы на “всепожирающую публичность” современной жизни, на “исчезновение всяческих границ между частным и общедоступным” (цит. по с. 401) и прилежные упражнения в “медиадискурсе публичности”, плоском жанре газетного интервью. В своих “бесконечных колебаниях между высоким призванием художника и чисто экономическими задачами, в самоотверженной пре-данности высоким эстетическим принципам и в столь же сильном стремлении к широкой популярности” (с. 160) Генри Джеймс — характерно современный писатель. Это его лицо, пока не очень у нас изученное, в книге выписано подробно и объемно, что само по себе является достижением.
Ценна и предложенная постановка проблемы литературного реализма. От самого этого слова постсоветское литературоведение до сих пор отстраняется, как пуганая ворона шарахается от куста. Но О. Анцыферова эту проблематику раскрывает спокойно и внятно. Представлено (правда, очень кратко) становление взглядов Джеймса — на фоне сдвигов в философско-психологическом знании второй половины XIX в., радикального изменения представлений о субъекте, сознании, общении, языке и знаке. Отображение “реальности” писатель (брат философа!) ассоциирует не с бесстрастным объективизмом (“холодное лицо жизни-Медузы”, с его точки зрения, убийственно именно своей безличностью), но с опытом индивидуального восприятия, освоенным рефлексивно. Опыт этот подлежит разработке, как жила в поисках золота, — неустанной, упорной, в отсутствие гарантий обретения “последнего” смысла.
На протяжении уже почти сотни лет стандартный ход разговора о Джеймсе ведет к обсуждению “точки зрения” и “центрального сознания”. В данном случае на первый план выходит вопрос о диффузности сознаний, полиморфности, сложности “отделения личного опыта от существования другого” (цит. по с. 111). Каков, по Джеймсу, “величайший вызов, который предъявляет художнику вселенная”? — “Сделать так, чтобы его бытие могло быть пережито другими, чтобы бытие предъявляло себя как доступное для переживания” (цит. по с. 112). Индивид единственен, но неодносоставен, существо его невыразимо, но принципиально разомкнуто вовне — отсюда необходимость в “предельных” (однако без авангардистского эпатажа) экспериментах с языком и искусством рассказа. В поздней прозе писателя голоса повествователей и персонажей становятся неразличимы — “мы видим и слышим не голоса, а голос — голос самого языка, видим работу языка, одновременно пытающегося овладеть реальностью и избежать несостоятельных клише” (с. 367). Язык описывается у Джеймса метафорически как занавес, пелена, вуаль, флер или туманное зеркало. Вглядывание в него не просто увлекательно. Подобно зеркальному щиту Персея, язык — залог человеческой победы над “холодом” жизни.
Пафос творчества Джеймса, как заметил еще в начале ХХ в. Э. Паунд, — “борьба за коммуникацию”, а суть коммуникации, в его же формулировке, — “признание различий и их права на существование” (с. 5). На вопрос о том, в чем состоит секрет обаяния прозы Джеймса, один из возможных ответов такой: в способности производить смыслы, разом и слитные (соединяющие в себе знание о пишущем и о мире), и бесконечно дифференцированные внутренне.
Увиденный сквозь призму сегодняшних эстетических проблем, англо-американский классик предстает весьма узнаваемым. Даже подозрительно: не переодет ли он насильственно по последней моде? Джеймсовская автопародийность — не на одно ли лицо с постмодернистской? Трудноуловимое различие между ними О. Анцыферова связывает с присутствием у Джеймса (и отсутствием, соответственно, в постмодерне) грезы “о недостижимой целостности и нерасторжимой связи (между автором и читателем, между автором и традицией, в которую он себя вписывает)” (с. 227). Важное достоинство книги я вижу в том, что подобные “неуловимости” в ней не только обозначаются, но и убедительно связываются с наблюдаемыми текстовыми характеристиками.
Тщательно проработан джеймсовский “паратекст”, прежде всего его предисловия, написанные в парадоксальной, восходящей к Натаниэлю Готорну манере одновременного самораскрытия и самосокрытия. Сам Джеймс об этих своих опусах писал так: “…все они вкупе должны прозвучать как мольба об аргументированной критике, о разборчивости, о тонкости суждений, лишенных инфантильности, — а также как протест против отсутствия всего этого в англо-американской культуре <…> Собранные вместе, они должны составить что-то вроде исчерпывающего учебника или путеводителя для пытающихся овладеть нашим тяжелым ремеслом” (цит. по с. 183). В сущности, перед нами учебное пособие для филолога экстра-класса, если суметь прочесть, что нам (как версия) и предлагается.
Не менее, чем отдельные разборы, интересны сравнения Джеймса с американскими и русскими современниками: По, Тургеневым, Хоуэлсом, Чеховым (всякий раз — в четко обозначенной плоскости). Изощренность микроанализа не мешает при этом свободе письма: в нем встречаются вполне личностные интонации, непривычные в академическом жанре: “Как читателю мне давно уже не дает покоя трудно поддающееся анализу глубинное сходство, общая эмоциональная атмосфера, некое ощущение, которое остается по прочтении ряда чеховских и джеймсовских произведений” (с. 260). Далее “некое ощущение” подвергается тонкой аналитической проработке в духе уроков Генри Джеймса. До мэтра, разумеется, нам всем далеко: в какой-то момент рассуждение соскальзывает в наезженную колею: “…художественные вселенные двух писателей <…> подчинялись сходным импульсам, порожденным эпохой…” (с. 279). В иных местах возникают виноватые самооправдательные жесты, отсылающие к ритуальному, давно отзвучавшему разговору: “Вряд ли справедливо говорить о “преодолении” Джеймсом в своем творчестве романтической традиции”, и “проблема художественного метода Генри Джеймса, его отношения к многочисленным художественным направлениям и течениям конца XIX в. вряд ли получит когда-либо однозначное решение” (с. 424, 428). В приписывании писателя к готовой конфигурации “-изма” или “школы” история литературы упражнялась десятилетиями, — стоит ли опять об этом, учитывая, что книга написана о другом и написана интересно?
Монография несет на себе следы “прошлой жизни” в качестве докторской диссертации — в иных случаях (см. выше) себе “во вред”, а в иных случаях — совсем напротив. Например, обзор литературы о Джеймсе, предваряющий, как в диссертациях и положено, собственный анализ, откровенно великоват (с. 4—33), но отлично организован: справочный источник, которым удобно при случае воспользоваться.
Джеймс хотел видеть своего читателя “одним из тех людей, для которых ничто не проходит даром”, — вооруженным навыком двойного видения, то есть способным наблюдать одновременно за происходящим в тексте и за собой-наблюдающим. Прочтение, предлагаемое О. Анцыферовой, сочетает в себе бережную озабоченность текстурой (это от Пенелопы, покровительницы всех “литературоведш”? от местной ивановской ткаческой традиции?) и грамотное, теоретически осмысленное видение проблем. Преданный “джеймсианец” не обманется в ожиданиях, но и неспециалист прочтет с пользой для себя.
Т. Венедиктова
КНИЖНОЕ ДЕЛО В РОССИИ В XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: Сб. науч. трудов. — Вып. 12. — СПб.: Российская национальная библиотека, 2004. — 216 с. — 500 экз.

Содержание: Сорокина Л.А. Популяризация научных идей в русских литературно-художественных альманахах 1800— 1840-х гг.; Шпаковская И.А. “Энциклопедический лексикон” А.А. Плюшара: История создания; Сонина Е.С. Читательский опрос в русской газете конца XIX в.; Безродный М.В. Издательство “Мусагет”; Голлербах Е.А., Мухаркин Д.М. Издательство “Сирин”; Гринченко Н.А. Организация цензуры иностранной в первой четверти XIX в.; Баренбаум И.Е. Записка графа Д.А. Толстого “О мерах борьбы с легальной пропагандой в народе”; Петров С.В. В.П. Мещерский и его газета “Гражданин”: Проблемы взаимоотношений консервативной публицистики и власти в 80-е — начале 90-х гг. XIX в.; Фут И.П. Контрцензура: Авторы против цензоров в России XIX в.; Волчук Я. Русская книга в школах Царства Польского (50-е годы XIX века); Соловьева Б.А. Род Сибиряковых и книга; Козлов С.В. Читательский спрос и особенности его удовлетворения в Сибири в 1904—1907 гг.; Колупаева В.Н. Из истории одной библиотеки: (Библиотека В.П. Куршакова в г. Слободском Вятской губернии); Фролова И.И. Тринадцатые Павленковские чтения.