(Рец. на кн.: Козлов В.П. Архивы России в зеркале средств массовой информации 90-х годов XX века. М., 2003; Козлов В.П. Проблемы доступа в архивы и их использования… М., 2004)
Опубликовано в журнале НЛО, номер 4, 2005
Козлов В.П. АРХИВЫ РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 90-х ГОДОВ ХХ ВЕКА. — М.: Российское общество историков-архивистов, 2003. — 94 с. — 500 экз. (I)
Козлов В.П. ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА В АРХИВЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕ-НИЯ НАД ОПЫТОМ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ АРХИ-ВОВ 90-х ГОДОВ ХХ ВЕКА. — М.: Российское общество историков-архивистов, 2004. — 93 с. — 500 экз. (II)
Автор этих книг, посвященных актуальным, а можно даже сказать, и ключевым проблемам отечественного дела, — не только теоретик архивного дела, но и практик, более того — руководитель (он возглавляет Федеральное архивное агентство). Так что мы знакомимся с мнениями и взглядами, лежащими в основе российской архивной политики, что, безусловно, делает их достойными внимания специалистов-гуманитариев.
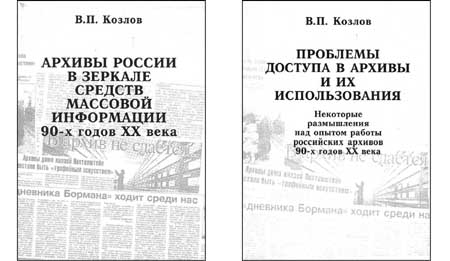
Академично звучащие названия брошюр создают впечатление, что перед нами — научные или научно-практические разработки, особенно с учетом того, что автор их — доктор исторических наук, специалист по истории археографии 1. Однако чтение этих книжечек (в аннотациях они представлены как фрагменты готовящейся книги автора «Бог сохранял архивы России») заставляет быстро расстаться с этим впечатлением. И дело не только в том, что основную часть второй из них составляют мемуары, в том числе детские воспоминания. Предельно выразительно отсутствие установки на научность демонстрирует обзор прессы в первой брошюре, начисто лишенный указаний на даты публикации цитируемых текстов. Я уж не говорю о небрежностях в написании фамилий и названий учреждений: А.Б. Рогинский превратился в Рагинского (II, с. 20), М. Окутюрье в Окутюрбье (I, с. 65) и т.п.
Подлинная цель рецензируемых изданий — обоснование и оправдание нынешней государственной архивной политики. Жанр же их — публицистика, а в публицистике важны не точность и научная убедительность, а увлекательность изложения и риторическая его выразительность.
Обсуждая проблему доступа в архивы и их использования, автор не излагает прямо и четко свою позицию. Он отделывается общими рассуждениями о том, что «доступ и использование архивных документов — это точки, где сталкиваются государственные, корпоративные интересы и интересы личности, общества. Точки наиболее болезненные, потому что далеко не всегда “интересы” той и другой стороны могут быть подкреплены нормами закона в силу их неизбежной субъективности и почти повсеместного несовершенства. По этой причине конфликт пользователя архивной информацией и ее распорядителей-архивистов необратимо неизбежен, почти всегда располагаясь между двумя пониманиями доступности архивов: все тайное должно быть или стать через какое-то время явным, и ставшее явным тайное может принести вред государству или личности» (II, с. 3—4). В принципе, с этим нельзя не согласиться, важно только, какой из названных сторон отдавать первенство, т.е. исходить ли прежде всего из интересов личности, а задачей государства считать создание условий для ее процветания, или исходить главным образом из интересов государства, а личность воспринимать как его слугу, винтик в машине. Второй важный выделяемый Козловым фактор заключается в том, что «архивная информация — мощнейший политический ресурс <…>. Ее использование либо сокрытие в равной мере могут стать инструментом манипуляции общественным сознанием кратковременного или долговременного действия» (II, с. 4). Упомянув еще о такой важной предпосылке доступности архивных документов, как «наличие инфраструктуры хранения и поиска архивных документов» (II, с. 4), В.П. Козлов переходит к описанию и оценке ситуации с доступностью в российском архивном деле. И ни слова в этой принципиальной преамбуле о своем понимании юридических, моральных и экономических аспектов этой проблемы. Видимо, они интересуют автора в последнюю очередь.
Излагая далее историю архивного законодательства и описывая деятельность российских архивов по обеспечению доступа к архивным документам в 1990-е гг., автор приходит к выводу, что в полтора-два года после событий августа 1991 г. доступ к российским архивам существенно расширился. При этом, по оценке Козлова, «сложившаяся в начале 90-х годов система доступа к российским архивам носила элементы стихийности, неуправляемости, субъективизма и политизированности. Ее недостатки, усугублявшиеся тяжелым экономическим положением, в котором оказались российские архивы, стали почвой для всевозможных злоупотреблений, авантюрных проектов, попыток “приватизации” доступа к тем или иным документальным комплексам рядом архивистов и некоторыми группами пользователей» (II, с. 91—92).
Но с середины 1990-х гг. ситуация меняется, начинает действовать, по определению Козлова, «принцип прагматизма»: «Суть его заключалась в попытках определения последствий открытия или закрытия тех или иных документальных комплексов. При всей субъективности применения этого принципа, он все же давал возможность в большей степени рационального, нежели субъективного разрешения сложных вопросов сохранения государственной и иной охраняемой законом тайны» (II, с. 92). Заявление весьма сомнительное. Сфера эта должна четко регулироваться законом. Когда кто-то берет на себя прогнозирование последствий, и при этом этот «кто-то» — российский чиновник, совершенно очевидно, что рано или поздно этот принцип трансформируется в другой, действовавший в советскую эпоху: по возможности не предоставлять архивные документы, а если предоставлять, то немногочисленным «доверенным лицам». Собственно, к этому дело идет уже сейчас. Сам Козлов пишет, что сегодня действуют также «принцип авторитета» (заинтересованность в рассекречивании влиятельного пользователя, например Минатома) и «принцип дозирования» (предоставление доступа особо избранному кругу лиц).
Однако, несмотря на минусы последних двух принципов, в целом Козлов удовлетворен нынешним положением дел с доступностью российских архивов. 1 июня 2005 г. он выступил на заседании Межведомственной комиссии по защите государственной тайны с сообщением «О состоянии работы по рассекречиванию архивных документов и мерах по ее совершенствованию». Опираясь на его сообщение, Комиссия в своем решении отметила, что «организация данной деятельности в основном позволяет обеспечить информационные потребности заинтересованных органов государственной власти, организаций и граждан»2.
Иногда в своих рассуждениях о доступности архивов Козлов откровенно тенденциозен и пытается выдать черное за белое. Как, например, относиться к заявлению, что «в советские времена мы привыкли к тому, что доступ к архивным документам мог быть ограничен только тогда, когда на них стояли грифы секретности — во всех остальных случаях с любым документом, где бы он ни хранился, мог ознакомиться любой пользователь. (Правда, существовал обширный комплекс документов ограниченного доступа без грифов секретности — в основном недоступный с точки зрения идеологических устоев советского общества)» (II, с. 6—7). Я уж не говорю о логике (уточнение в скобках, по сути, дезавуирует основное утверждение), но и с этим уточнением заявление Козлова — неправда. Во-первых, доступ к архивным документам был ограничен тем, что читателю нужно было принести отношение, подтверждающее, что он знакомится с архивными документами не в личных целях, а для государственного или общественного учреждения. Во-вторых, иностранным исследователям нередко не предоставлялись даже описи (открытых материалов!), а архивисты сами подбирали им материалы по теме; в-третьих, архив мог отказать исследователю, заявив, что он просит материалы не по той теме, которая обозначена в его отношении (и я, например, старался поэтому указать тему «пошире», скажем, «Чтение в России в XIX—XX вв.», под которую можно было много что «подверстать»). В-четвертых, архивисты могли не удовлетворить запрос, поскольку кто-то из сотрудников архива собирается публиковать данные материалы. Можно при желании существенно увеличить этот список ограничений.
Другой пример тенденциозности — изложение событий вокруг материалов Пастернака, конфискованных КГБ и переданных в РГАЛИ (I, с. 61—66). Фрагмент этот написан языком советской прессы времен кампании против самого Пастернака. Чего стоит пассаж о настоящих владельцах рукописей, «сделавших прибыльный бизнес на их публикации» (I, с. 66). Козлов эти публикации, разумеется, не указывает, как не дает и ссылки на источник информации о том, что эти публикации вообще принесли прибыль. А ведь любой литературовед понимает, что за подобные публикации платят гроши 3.
Но даже и помимо подобных необъективных констатаций обсуждать рассуждения и выводы Козлова сложно, поскольку он не формулирует критерии оценки (на основе таких показателей можно положительно или отрицательно оценивать положение дел с доступностью) и, кроме того, у него весьма сложные отношения с логикой. Вот, например, в цитировавшемся выше пассаже какое отношение к проблеме доступности имеют «злоупотребления» и «авантюрные проекты»? Это все равно что ужесточать доступ к ножам (т.е. не продавать их в магазинах), поскольку кто-то может «злоупотребить» этим ножом и убить человека.
Тем не менее эти работы Козлова не лишены интереса, поскольку, помимо упомянутых рассуждений и выводов, которые, как мне думается, никак не позволяют составить представление о степени доступности отечественных архивов, в книгах есть еще две вещи — фактическая информация и оценочные высказывания самого Козлова, на основе которых можно судить, как смотрят на эту проблему власти.
Рассмотрим основные риторические стратегии автора, с помощью которых он стремится доказать, что ситуацию с доступностью российских архивов можно считать вполне нормальной. Первая строится по логике «сам такой»: нас обвиняют в создании заслонов на пути читателя к архивному документу, а посмотрите, что в их «демократическом» обществе делается: французскую архивную систему отличает «консервативный характер» (II, с. 6), в Швеции, где законодательство не предусматривает никакого ограничительного срока доступа к хранящейся государственной архивной документации, документы могут сдать из ведомства в архив через 50, а то и 100 лет, а в ведомствах доступ ограничен толстым каталогом невыдаваемых документов (II, с. 8—9), в Национальном архиве США хранится 325 миллионов страниц нерассекреченных документов (I, с. 16). При этом автор выдергивает приводимые факты из контекста, забывая сказать, что там есть не только четко оговоренные механизмы ограничения доступа, но и механизмы контроля за этим процессом, и механизмы «разблокирования» доступа на основе судебных решений и т.д. Более того, в случае Франции Козлов оперирует внутренним рабочим документом международной комиссии. Документ этот не был принят в качестве официального, и вообще неясно, получил ли Козлов от его автора разрешение на пересказ и цитирование.
Вторая риторическая стратегия Козлова — апелляция к интересам страны, причем интерес этот понимается с точки зрения правительственных чиновников, для которых что СССР, что современная Россия — все едино. Скажем, я полагаю, что критика агрессивной и циничной советской политики 1970— 1980-х гг. полезна стране, ибо свидетельствует о стремлении избавиться от этих черт, жить не «по понятиям», а по законам, вести курс на сближение с мировым сообществом, а не на конфронтацию. Но хотя Козлов и декларирует заботу об исследователях и науке, но на самом деле главным для него является государственный интерес, сводимый по большей части к интересам власти. При этом он в значительной степени исходит из советской точки зрения.
Окружающий Россию мир мыслится им как враждебный, «жестокие и циничные правила поведения в нем людей, корпораций и государств подчас лишь прикрываются лозунгами демократии и свободы» (II, с. 47). Соответственно, оказывается, например, что открытие для пользования не имевших грифа «Секретно» протоколов заседаний секретариата ЦК КПСС и отделов аппарата ЦК КПСС (за 1952—1981 гг.) не гарантировало «сохранения <…> действительно важных государственных секретов» (II, с. 34). В чем же эти «секреты»? Оказывается, в одном из опубликованных за рубежом документов приводились данные северовьетнамского военного об общем числе американцев во вьетнамском плену, в три раза превосходившие официальные американские данные. В США это вызвало скандал (II, с. 36—39). Но, во-первых, на соответствующем деле стоял штамп «Секретно». А во-вторых, не говоря уже о том, что не доказана достоверность содержащихся в этом документе данных, почему они представляют государственный секрет России?
Схожий характер носят и случаи публикации во Франции и Финляндии архивных документов, вызвавшие в этих странах политические скандалы (I, с. 30—31). При условии, что документы не содержат государственной тайны (а они ее не содержат), не дело российских архивных (и даже дипломатических) органов скрывать реально имевшие место факты: если те или иные политические деятели нарушали законодательство своих стран или даже неписаные нормы политического поведения, это должно стать известно их согражданам.
И все многостраничные обличения иностранных (главным образом американских) «охотников» за архивными документами (II, с. 35—47, 61—75, 79— 91) не содержат никаких (!) доказательств нарушения закона и нанесения военного и политического ущерба стране, в лучшем случае речь идет об экономическом ущербе российским архивам, в худшем — об излишней подозрительности самого Козлова.
Или вот Козлов одобряет тот факт, что в 1992 г. специальным распоряжением президента России были закрыты все документы, в том числе ранее бывшие доступными, фондов организаций Советской военной администрации в Германии (представлявшие материальный интерес в связи с процессом имущественной реституции в Германии), поскольку это «предотвращало пиратское использование фондов СВАГ, предусматривая государственный и строго согласованный контроль за передаваемой Германии информацией» (II, с. 44).
Ума не приложу, что имеется в виду под «пиратским использованием фондов». За информацию Германия должна была платить? Какое российским архивам дело до того, как в Германии будет использоваться информация? Их дело сделать ее доступной всем немецким инстанциям и частным лицам, а немецкие суды будут принимать решения.
Эти подозрительность и настороженность по отношению к иностранцам ярко выразились и в следующем пассаже о повторном засекречивании документов, связанных с репрессиями: «Ну, ладно бы, если эти затворы оказались перед иностранцами, рассматривающими историю СССР как грандиозный эксперимент, а потому видевшими в российских архивах огромную лабораторную колбу, в которую очень хотелось заглянуть, а протекавшие в ней процессы хладнокровно зафиксировать, описать и сделать известными. Но речь шла о выяснении судеб сограждан <…> наших граждан нашей страны» (I, с. 28). Замечательное разделение пользователей архивов на две категории — своих, о которых надо заботиться, и иностранных, читателях второго сорта, от которых возможен и вред. А ведь возможен иной подход – благодарность иностранным ученым и публицистам, которые после прихода большевиков к власти сохраняли память о преступлениях советского режима и сейчас продолжают напоминать о них, хотя многие наши соотечественники стремятся напрочь забыть о них.
В схожем ключе выдержаны и рассуждения Козлова о реституции архивных документов, достаточно сказать, что он подробно излагает и сочувственно цитирует статьи известного националиста А.Н. Севастьянова, возглавляющего Национально-державную партию России, идеология которой близка к фашистской (см.: I, с. 69—72, 77).
Но насколько в действительности доступны сейчас российские архивы? Мы узнаем, что 15 июня 1992 г. приказом Росархива было введено в действие «Временное положение “О порядке доступа к архивным документам и правилах их использования”», в котором провозглашался принцип «общедоступности документов российских архивов, равных прав в пользовании ими российских и зарубежных пользователей», определялся 30-летний ограничительный срок по отношению к документам, содержащим государственные секреты, и 75-летний ограничительный срок по отношению к документам, касающимся личной жизни. Кроме того, объявлялось, что «документы, содержащие грифы секретности и созданные по 1942 год включительно, объявляются открытыми и подле-жат полному рассекречиванию самими государственными архивами» (цит. по: II, с. 18—19). Вскоре было принято аналогичное постановление Верховного Совета Российской Федерации, а через год основные положения этого постановления вошли в «Основы законодательства Российской Федерации об Архив-ном фонде Российской Федерации и архивах», хотя тут в ряде случаев были введены более ограничительные нормы доступа. Шаги, действительно, впечатляющие. Но законы еще нужно выполнять. А с этим у нас сложности. В реальности открытие архивных документов затягивается на десятилетия, если не на столетия — ведь многие из них имеют гриф «Секретно» и их нужно рассекречивать 4.
Правда, в 1991—1993 гг. действовала Парламентская комиссия по приему-передаче на государственное хранение документов КПСС и КГБ СССР, а в 1992—1993 гг. — Специальная комиссия по архивам при Президенте Российской Федерации, и некоторая часть ранее недоступных документов была рассекречена. Но с прекращением деятельности этих комиссий и с принятием в 1993 г. Закона «О государственной тайне» «фактически остановился планомерный процесс рассекречивания их [организаций, не имеющих правопреемников] фондов, включая архивные документы бывшей КПСС» (II, с. 24). В сентябре 1994 г. по распоряжению президента была создана Комиссия по рассекречиванию архивных документов КПСС. Но с 1996 г. работа по открытию соответствующих фондов почти не ведется. В результате «обзоры писем трудящихся, поступавших в ЦК КПСС, в центральные газеты в качестве откликов на события в жизни страны <…> и сейчас все еще составляют “государственную тайну”» (II, с. 28), не говоря уже о материалах Комитета Обороны СССР (1927—1941), материалах правительства тех же лет, и т.п.
До сих пор никак не регламентирована законодательно проблема доступа к прекращенным уголовным делам, поступившим из КГБ на государственное хранение (II, с. 22).
Если учесть, что архивы с каждым годом сокращают время работы читальных залов, берут непомерно большую плату за копирование, незаконно требуют деньги за публикацию документов из своих фондов, закрываются на длительный срок (например, РГИА), то тезис Козлова о достаточной доступности российских архивов нельзя расценивать иначе, как насмешку над исследователями.
И ситуация ухудшается с каждым днем. В этом году в РГАЛИ была обнаружена пропажа 16 листов рукописей Блока. Кто украл — неизвестно, но, скорее всего, это дело рук кого-то из сотрудников, по крайней мере в 2000 г. сотрудница украла из фондов этого архива рисунки Репина, фотографии Достоевского, Тургенева, Чехова с их автографами, и т.п. И архив сразу же был закрыт на проверку, а фонды его стали недоступными для читателей.
Государственническое чувство Козлова порождено крахом российских имперских амбиций. Он пишет про «приобретенный еще в годы советской власти комплекс нашей собственной якобы неполноценности» (II, с. 78). Поэтому Козлов болезненно реагирует на то, что к «великой» (в его понимании) стране относятся «неподобающим» образом. Вот прилетевшие в 1992 г. в Россию польские архивисты резко отреагировали на опоздание Козлова и не дождались его в аэропорту: «Я был унижен, оскорблен, раздавлен. Нам приходилось еще только привыкать к новой роли России в мире (то ли дело — в соцлагере, когда все слушались СССР — «старшего брата». — А.Р.), и потому подобный демарш со стороны наших партнеров казался вызывающим» (II, с. 58). Вот швейцарский архивист при обсуждении международного проекта выступил с критикой предложенной Россией концепции и выразил сомнение в способностях российских архивистов реализовать этот проект, и В.П. Козлов иронизирует над «большими амбициями представителя маленькой страны» (II, с. 83).
Известно, что униженные, не способные в реальности решить свои проблемы охотно апеллируют к богу. Но Козлов даже приватизирует бога (какой это бог, он не конкретизирует, сказано только, что бог — «многоликий», возможно, имеется в виду Шива) и неоднократно утверждает, что «Бог сохранял архивы России» (II, с. 43; ср. с. 48, 75, 93) (читай — руками руководителя архивной службы В.П. Козлова), при этом бог даже выступает у него «в личине непонятной россиянам Церкви Христа Святых последних дней» (II, с. 75), спонсирующей Генеалогическое общество штата Юта, заключившее договор с рядом российских архивов о копировании генеалогических документов.
Есть русская народная поговорка: «На бога надейся, а сам не плошай». Мы видим, что боги в последние десятилетия даже с терроризмом не могут справиться, вряд ли у них есть время на спасение российских архивов и обеспечение доступа к ним. Так что решать эти задачи придется все же нам самим, что бы ни писал В.П. Козлов.
________________________________________________________________________________
1) См. его книгу: Российская археография конца XVIII — первой четверти XIX века. М., 1999.
2) http://www.rusarchives.ru/nevo.shtml.
3) По данному вопросу см. также публикуемое в данном номере «Письмо в редакцию» и фрагмент статьи М. Чудаковой — с. 345—346.
4) Подробнее об этом см. в статье Г. Рамазашвили в настоящем номере «НЛО».