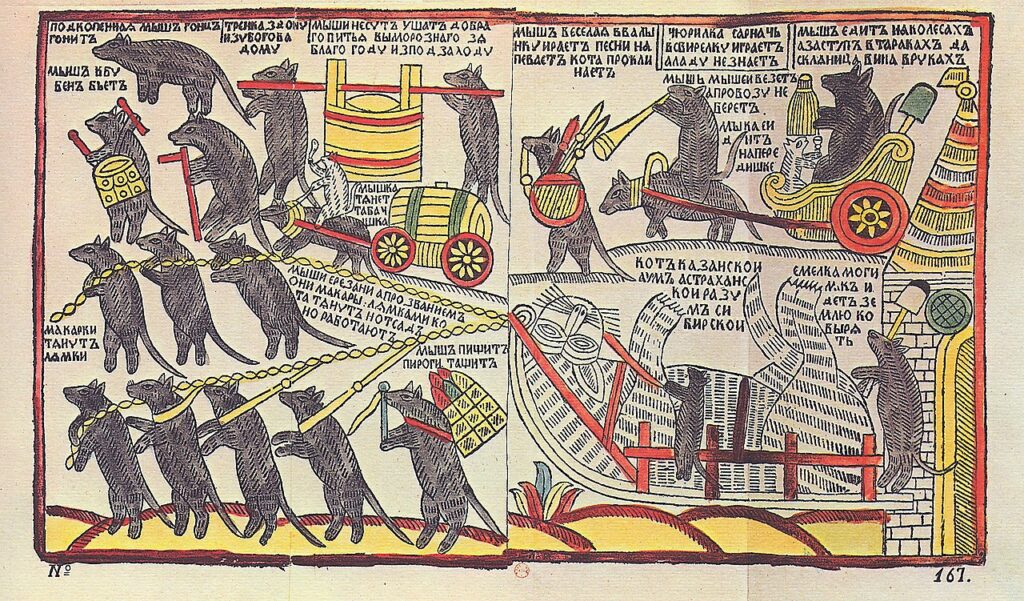
Библиотека ЖЗ представляет
Со страниц журнала "Дружба народов"
- От изыскателя. . . . . . . . . . . . . . 1
- Опись градоначальникам . . . . . . . . . 2
- Общеполитические невзгоды . . . . . . . 3
- Последние времена . . . . . . . . . . . .4
- Ушлые люди . . . . . . . . . . . . . . . 5
- Пятый сон Веры Павловны . . . . . . . . .7
- Оправдательные документы . . . . . . . . 8
От изыскателя
Итак, история как ни в чем не бывало продолжала течение свое.
Что касается собственно истории города Глупова, то она по–прежнему составлялась главным образом из невзгод. Как и в стародавние времена, среди них наблюдаются происшествия прямо чудесного свойства, однако в ряду разного рода неурядиц затесались и такие, что имели вполне материалистические истоки и только в ходе развития трансформировались в полно–кровные чудеса. Разве что в последние десять лет, отмеченные разнузданной поступью знания, изыскателю не пришлось сиднем сидеть в архивах, поскольку события развивались без малого на глазах; общеизвестно, что в наши блажные дни достаточно купить шесть сотен суглинка по соседству с бывшим приемщиком стеклотары и новейшая история развивается на глазах.
Стало быть, опять на Руси наступили последние времена, которые у нас повторяются с периодичностью дней недели, и в городе Глупове публика сполна разделила общенациональную, сравнительно трагическую судьбу. И по обыкновению голодала–то она и холодала, и выходила на тысячные митинги в пользу переименования города из Глупова в Непреклонск1, и пряталась по подвалам да погребам от банды проклятого Яшки Шерстня, и платила ясак Первому заместителю главы администрации, и пережила отпадение от города Болотной слободы, и как–то мирилась с озорством сторонников Лучезарного Четверга, — и, в общем–то, ничего: и публика невредима, и город стоит себе и стоит. Такую редкостную выживаемость можно следующим образом объяснить: если травить тараканов дустом, хотя бы и в щадящих дозах, но в течение многих лет, то у таракана вырабатывается на дуст стойкий иммунитет, так вот если измываться над мирным населением в определенной точке земного шара, начиная с середины IX столетия нашей эры, то оно как–то замыкается в себе, на худой конец вымещая свою озлобленность на каком–нибудь безответном существе вроде соседского петуха. Более того, хронические притеснения развивают в народе разные спасительные качества, например любовь к чтению или неуемную изобретательность, которым власти предержащие не могут противопоставить решительно ничего; глуповцы вон до того дошли, что в девяносто третьем году выдумали способ получения калорий из древесины, чему мы также находим разумное объяснение: как в свое время говорили на Птичьем рынке, “ежели зайца бить, он спички может зажигать”. Ну что ты поделаешь с человеком, коли он умеет извлекать калории из осины? — а ничего не поделаешь, хоть умри.
Следует удивляться еще тому, что в последние десять лет глуповцев не так угнетал чисто экономический момент, сколько отсутствие перспективы, некая беспросветность формы существования, что, впрочем, неудивительно, поскольку день сегодняшний им вечно не задавался и они уповали на свое завтра с такой же силой, с какой проклинали свое вчера. Все им казалось, что на другой день обязательно будет лучше, того и гляди, улицы возьмутся мостить брусчаткой, горячую воду дадут по трубам, бесплатное радио проведут и наконец–то исчезнут с городских улиц огромные розовые свиньи, которые с утра до вечера нежатся в лужах или трутся спинами о столбы. Однако вожделенное завтра не приносило с собой никаких видимых перемен, и к вечеру среднего глуповца охватывала такая кручина, что хоть ослепни и не гляди. Между тем кручинились они зря; собака, положим, никогда на урду не заговорит, но означает ли это, что на ней как на категории нужно поставить крест? — так и в нашем случае: никогда в городе Глупове не исчезнут с улиц розовые свиньи, которые с утра до вечера нежатся в лужах или трутся спинами о столбы, ну разве что в родимые пределы вторгнутся народы Бенилюкса и переведут наших хрюшек на колбасу; но ведь и при историографе Николае Михайловиче Карамзине вор был центральной фигурой жизни, меж тем у нас с той поры Пушкин произошел, Менделеев отличился, Зворыкин поставил точку на культурном развитии человека, наконец, грянул Октябрьский переворот, взаправду открывший количественно новую историческую эпоху, который нам еще аукнется, и не раз. Одним словом, не было у глуповцев настоящего основания для кручины, существуют, и слава богу, довольно с этой публики и того, что у них душа на размер больше положенного, отчего она, правда, постоянно просится вон из тела одновременно и в смертном смысле, и на простор.
Опись градоначальникам
Эту главку, вопреки традиции, можно безболезненно опустить. Дело в том, что после отстранения от власти председателя горсовета Колобкова2 его место прочно занял Порфирий Иванович Гребешков из бывших руководителей райкомовского звена, который только своих Первых заместителей менял, а сам точно врос в кресло градоначальника, точно корни в него пустил, и даже передвигался по городу на пару со своим креслом, первое время изумляя давно ничему не изумлявшихся горожан. Вскоре было установлено, что Порфирий Иванович именно сросся с креслом градоначальника, но медицина этот феномен была не в состоянии разъяснить.
Общеполитические невзгоды
Надо полагать, прежние глуповские градоначальники, начиная с Амадея Мануйловича Клементия, первого из владык, не столько умом понимали, сколько нутром чуяли, что глуповцам воли давать нельзя, поскольку они на нее неадекватно реагируют, как лошадь на грузовик. Например, в градоправительство Колобкова, когда в Глупове у частных лиц появились три пишущие машинки, то по городу распространились не баллады вольного содержания, не памфлеты на руководство, не похабные стишки и даже не анонимные доносы, которых, скорей всего, следовало ожидать, а туманные требования о возмещении морального ущерба, понесенного в эпоху Каменного Вождя.
Председатель горсовета Колобков весьма многие произвел опрометчивые реформы, но даже не широкое распространение мармелада взамен горячительных напитков следует признать наиболее вредоносной, — хотя для властей предержащих нет ничего страшнее, как если наш человек трезвыми глазами, зряче оглядится вокруг себя, — а внедрение в обиход проклятой свободы мнений, из–за которой жизнь пошла, что называется, под откос. Прямо нужно говорить, не учел Леонид Михайлович грозной силы родного слова, вообще заряженного такой созидательной или, по случаю, разрушительной энергией, что ей под стать только неудержимая сила вод, хотя еще при Иване Грозном слово у нас приравняли к делу, а дело к тягчайшему из грехов. Ведь, скажем, “пардон” оно и есть “пардон”, из него ничего не вытекает, кроме намека на галантерейное воспитание, а наш человек как скажет: “Ась?!” — так сразу внутри тебя образуется холодная пустота. Возможно, родное слово потому излучает такую мощь, что у нас дела делать от пращуров не дают, или, может быть, оно чересчур действенно по природе, но как бы там ни было, а только председатель Колобков провозгласил эту самую свободу мнений в передовице “Красного патриота”, как на другой день здание горсовета само собой осело на правый бок. Вслед за тем грянули прочие невзгоды, иные последовали несуразности, например: вдруг ни с того ни с сего перестал работать водопровод, образовались явные союзы по национальному признаку, как–то землячество “Меря–Весь”, возникла секта закоренелых язычников, не признававших реформы Владимира Святого в бытность его поганым и неоднократно пытавшихся воздвигнуть деревянного Перуна на площади Каменного Вождя, наконец, обнаружился кружок зоофилов при конторе “Заготзерно” и неслыханный этот демарш смутил даже аморальное меньшинство. Наконец, по причине свободы мнений в городе открылась эпидемия педикулеза, поразившая главным образом гарнизон, и в районе Стрункинова тупика постоянно слышалось характерное пощелкивание, — то армейские били вошь. Тут только председатель горсовета Колобков понял, что глуповцев можно как угодно обобрать и как угодно облагодетельствовать, а вот воли давать нельзя. К тому же стала забываться местная интеллигенция, в прежние времена разве что сердито сопевшая по углам; так, народный трибун Сорокин, некогда объявивший джихад алкоголизированным напиткам вплоть до кислого молока, начал мутить город на тот предмет, чтобы всем миром потребовать от градоначальника реставрации порядков эпохи Перехват–Залихватского, который въехал в город на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки, при этом демагогически утверждая, будто бы в истории города Глупова это были прямо благословенные времена. Поскольку уж это как–то сложилось само собой, что глуповцы искони были падки на разные горячительные слова, что их не так раззадоривали грустные чудеса повседневной жизни и хронические безобразия, как слова, Леонид Михайлович в конце концов пришел к заключению, что настала пора кардинальных мер. Полагают, что он, может быть, с ними и повременил бы, но вдруг возродился вопрос о цыгано–синдикалистах, который он следующим образом разъяснял.
— В синдикализме я, честно говоря, ни бум–бум, — разъяснил он народу около года тому назад, — а о цыганах я вам так скажу: ну чего вы к ним привязались, ведь они такие же несчастные, как и мы. — И тогда Колобков пришел к заключению, что настала пора кардинальных мер.
Выбор у него был неширокий: взять город приступом или же задушить глуповцев какой–нибудь повальной кампанией вроде месячника по внедрению в обиход горчицы и лаврового листа, — как водится, выбор пал на меры строгости, потому что в мерах кротости Леонид Михайлович давно разочаровался и отлично понимал, что в условиях свободы мнений даже самая завораживающая кампания не пройдет. Даром что от природы он был человек мягкий, а государственная традиция все же крепко сидела в его крови.
И вот в одно прекрасное утро просыпаются глуповцы и слышат до боли знакомое “ту–ру, ту–ру!”. Потом — пауза, нехорошая пауза, томительная, обещающая беду, но вот откуда–то издалече, как будто со стороны Козьего спуска, донеслась боевая песнь:
Трубят рога!
Разить врага
Пришла пора! —
которой глуповца пугали с младых ногтей. Бедняга робко, с замиранием сердца выглядывает в окошко, а там войско стоит под развевающимися знаменами и бронемашины ездят туда–сюда, словно это рейсовые автобусы, высекая искры из мостовой. Главное, глуповец родовой памятью помнит, что он–то и есть тот самый враг, разить которого пришла пора, и на душе у него становится так противно, как если бы он по нечаянности съел навозного червяка.
Тем временем председатель горсовета Колобков вышел перед войском и сказал речь.
— Совсем, — говорит, — товарищи рядовые, старшины и офицеры, распоясалось у нас мирное население, хорошо бы его это самое — приструнить! А то они думают, что если им даровали свободу мнений, то можно на голове ходить и среди бела дня воровать общественные дрова!.. Так вот мы им отвечаем на это вредное заблуждение: никогда! Ведь что такое свобода мнений: это значит, как я теперь понимаю, имеешь свое мнение — и молчи! А то зоофилы какие–то повылазили из щелей, сугубые язычники, потомки князя Мала, да еще Сорокин воду мутит, собачий сын! Короче говоря, если они по–хорошему не понимают, то будет по–плохому: выжимай из них, ребята, масло, приводи наглецов в христианский вид!
Сказал, а сам про себя подумал: вот до какой степени ожесточенности может довести руководителя этот самый простой народ.
Но, видимо, дело уже так далеко зашло, что гарнизон, охваченный педикулезом, — это, впрочем, не от грязи, а от тоски, — как–то хладнокровно выслушал речь председателя горсовета, вообще всем своим видом давал понять, что ему неохота разить врага: мимо смотрел гарнизон, и знамена висели, точно намокшие, и даже бронемашины, которым полагается грозно рычать, отнюдь не рычат, а скорей урчат.
Надо отдать должное глуповцам, — они тоже это свежее обстоятельство примечают и в них занимается прежде неведомый им восторг; таковой зреет, крепнет, постепенно приобретает сладострастные формы победы над администрацией, небывалой от старца Добромысла до наших дней; невидимыми нитями этот восторг переплетается с антивоенными настроениями военных, ширится, распространяется даже на домашних животных, и вот уже над Глуповом стоит всеобщий победный вой. Председатель горсовета Колобков видит, что дело плохо, и говорит:
— Ну, коли так, счастливо оставаться, а я умываю руки! Только попомните мои слова: еще вы кровавыми слезами оплачете идеи Лучезарного Четверга!
Но легкомысленные глуповцы не обратили внимания на это пророчество, полагая, что не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что ново. Колобков же удалился в сторону выгона и дорогой пенял на себя за то, что он в свое время простой истины не проник: высшего блага для подданных можно достичь тогда, когда руководитель непоколебимо, скалой стоит на пути общественного прогресса и ни справа, ни слева не дает себя новаторам обойти. Ибо любое поползновение по направлению к новизне чревато непредсказуемым результатом, чаще всего опровергающим логические начала, так как глуповцы, что дети малые, сами не знают, чего хотят. Ведь это же надо было предугадать, что в результате свободы мнений здание горсовета вдруг осядет на правый бок!
С другой стороны, Колобков никак не мог себе уяснить того, почему это власти предержащие и глуповские низы искони сосуществуют как кошка с собакой, а между тем у них и химическая формула крови одинаковая, что в свое время было установлено медицински, и мыслят они схожими категориями, и страсти их обуревают одни и те же, и даже одни и те же кошмары их мучают по ночам…
На самом деле в этом недоразумении особенной мистики нет как нет; во–первых, власти предержащие и глуповские низы дышали положительно в унисон при комиссаре Стрункине3, который был ставленником Каменного Вождя, и особенно в эпоху Феликса Казюлина4, которого послал править городом непосредственно товарищ Ося Сухая Ручка, и по–настоящему разлад возобновился как раз в ту беспокойно–либеральную пору, когда Глуповом правил Леонид Михайлович Колобков. И возобновился разлад, заметим, на самых законных основаниях: кто навел несусветную критику на все прежнее руководство? кто разрешил прямо вредительскую телепередачу под названием “Вольный час”? кто дал “добро” кооперативу по борьбе с бесплодием? — Колобков. Разумеется, Леонид Михайлович желал добра своим подопечным, сверх всякой меры настрадавшимся от единокровных башибузуков, но поскольку Глупов представлял собой “черный ящик”, как у физиков называется необъяснимая стадия превращений, когда на входе может фигурировать, положим, обрезная доска, а на выходе музыкальное произведение, постольку не полюбился глуповцам именно Колобков. Это обстоятельство тем более непонятно, что он был, как говорится, плоть от плоти и кровь от крови и даже кончил совершенно по народному образцу: выпил лишнего, полез купаться в один из Тишкинских прудов и нечаянно утонул.
Этим происшествием завершается целая эпоха в истории города Глупова, которая полностью вписывается в рамки обыкновения, и открывается череда таких огорчений и беспокойств, каких еще не знала эта несчастная сторона.
Последние времена
Сколько это не покажется удивительным, равно издевательским, если иметь в виду само название города и соответственно горожан, у глуповцев был свой ум, — неровный, угловатый, вообще своеобразный, однако ум; во всяком случае, глуповцам всегда хватало его на то, чтобы не перечить своим владыкам, не впадать по каждому поводу во французские страсти, влекущие за собой замену одних разбойников на других, а вчуже наблюдать, до крайности стянув пояса на чреслах, как тот или иной безобразник добезобразничается до того, что самосильно утонет либо сойдет на нет, исчерпав ресурс5.
Впрочем, и то верно, что история города Глупова знала такие последние времена, когда местному населению изменял угловатый ум и оно впадало в непростительное мальчишество, которое у нервных народов обыкновенно выливается в строительство баррикад. Безумие это вдруг охватило глуповцев и в тот день, когда утонул Леонид Михайлович Колобков и город погрузился в безначалие, как в запой. На этот раз следствием оного, то есть приступа безумия, было то, что глуповцы наворотили множество новаций как бы постороннего характера и самого бесшабашного образца; поскольку фундаментальные перемены к лучшему подразумевают эволюционное отношение к делу и многие положительные труды, поскольку глуповцы были большие любители новизны, причем в любой редакции и сейчас, поскольку Екклизиаста отродясь никто у них не читал, наконец, поскольку на город опять накатил восторг, граничащий с некоторой поврежденностью, вот что они натворили в течение двух часов: раскассировали краеведческий музей до последнего черепка на том основании, что экспозиция–де не отвечает свежему историческому моменту, снесли с постамента памятник комиссару Стрункину, и он долго лежал металлическим покойником у забора
школы № 1, как–то нехорошо лежал, наводя вечерами тихий ужас на горожан, упразднили топонимику прежних лет, вновь обретя Большую улицу, Базарную площадь и Навозный тупик, растерзали куратора передачи под названием “Вольный час” якобы за то, что он украл пятьдесят метров кабеля, хотя бедняга был ни сном ни духом не виноват, раскатали целую улицу домов — это, впрочем, так, от избытка чувств, — и на всякий случай построили одиннадцать баррикад. До конца дня, ошалевшие вследствие безначалия, они еще переименовали город Глупов в Непреклонск, газету “Красный патриот” просто в “Патриот” и взяли приступом одно кооперативное ателье.Поначалу это народное творчество аукнулось только тем, что вдруг ни с того ни с сего закрылись оба киоска системы “Союзпечать”. Некоторые заводилы и частью просто новаторы тогда усыпали бревна, на которые они давеча целую улицу раскатали, и ну обмениваться мнениями, отчего это приказала долго жить система “Союзпечать”…
— Вообще–то “еще не нашу сотню режут”, — например, говорит один, закуривая патриархальную самокрутку, — вот если бы закрыли пивной ларек!..
— Не скажи! — говорит другой. — Я вот сколько лет живу среди этого народа и всю дорогу убеждаюсь, что забористое слово, особенно печатное, на него действует, как вино.
— Именно поэтому я постепенно прихожу к такому мнению: без цыганосиндикалистов тут дело не обошлось!
— Это которые такие же несчастные, как и мы?..
Проходит время, и вольнодумцы незаметно сбиваются на новую тему, как–то уже обмениваются мнениями на тот счет, какая избирательная система предпочтительней: мажоритарная или так.
— Полное счастье в наших условиях, — например, говорит один, — могут обеспечить 50% желающих плюс один.
— Что касается 50% желающих, то это без проблем, меня беспокоит тот самый балбес, который проходит под рубрикой “плюс один”. А что если этот “плюс один” выберет градоначальником моего борова Терентия, что тогда?
— Тогда, ребята, опять светопреставление, на моем веку это будет примерно в сорок четвертый раз.
— Вот я и говорю: даешь такую избирательную систему, чтобы парнокопытные знали свои места.
К соборной позиции они, разумеется, не пришли, но зато в результате обмена мнениями на душе у заводил и новаторов сделалось как–то содержательно, хорошо.
Между тем преобразования в городе Непреклонске шли своим чередом, так, трамваи маршрута Базар — Вокзал перекрасили из желтого в голубое, гарнизон построил себе новый забор высотой в два человеческих роста, а школьников в принудительном порядке перевели с мармелада на пирожки, однако эти, казалось бы, безвредные перемены повлекли за собой на удивление огорчительные последствия, хотя и не исключено, что перемены сами по себе, а последствия — вещь в себе. Во всяком случае, затруднительно обнаружить сколько–нибудь чувствительную связь, например, между новым забором и свежей методой латать крыши плащ–палатками военного образца, или между исчезновением мармелада и резким падением успеваемости, или между голубым цветом и сепаратистскими настроениями, обуявшими ту часть непреклонцев, которым было нечем себя занять.
И вот как раз в те достопамятные дни, когда город перешел на квашеную капусту и дал о себе знать злостный сепаратизм, в Непреклонск въехал новый градоначальник Порфирий Иванович Гребешков. Откуда он взялся, бог его знает, говорили откуда–то из–за Камня, где он существовал в качестве руководителя райкомовского звена. Въезд его в город произошел без помпы, как–то даже вкрадчиво, а впрочем, Порфирий Иванович сказал, взявшись за ручку горсоветовской двери и полуобернувшись к немногочисленному скопищу горожан:
— Заморской химере даю отбой…
Эти слова показались загадочными и грозными, точнее сказать, более грозными, чем загадочными, ибо в них почудилась такая энергия превращений, что непреклонцам, как одному человеку, стало сильно не по себе. Вроде бы им давно опротивели формы существования, вытекавшие из учения о Лучезарном Четверге, но, когда дело дошло до дела, когда на пороге резко обозначилась новая историческая эпоха, чреватая коренной ломкой привычных форм, непреклонцы как–то похолодели и приготовились к самому худшему, вплоть до безвылазного сидения в погребах.
Однако на первых порах градоправления Порфирия Ивановича Гребешкова ничего особенно страшного не случилось, всего–навсего появились кое–какие оригинальные звания и слова. Вот и выборы в городскую Думу прошли при небывалой активности горожан, и опять же — ни землетрясения, ни засухи, ни скотского падежа, даже от переохлаждения организма померло только четырнадцать человек и единственно посреди Базарной площади разверзлась относительная дыра. Правда, среди избранников народных затесались такие подозрительные субъекты, что это было даже странно, например думцами заделались бесноватый Чайников6, некто Кашемиров, бывший очинщик карандашей, двое подданных далекого иностранного государства и Васька Шершень, прожженный вор. А вот сумасшедшего Огурцова7, что называется, прокатили, хотя он клятвенно обещал провести в городе каналы вроде венецианских и замостить гранитом Болотную слободу. Нужно отдать должное непреклонцам, — этих на мякине не проведешь, эти знают, откуда ветер дует, и, по крайней мере, боров Терентий у них точно в законодатели не пройдет. Даром что непреклонцы не совсем отчетливо понимали разницу между благодетелем и гонителем, равно как между водкой и коньяком, поскольку, уйдя в себя еще при градоначальнике Фотии Петровиче Ферапонтове8, они путано ориентировались вовне, — комплекс горемыки был в них развит до такой степени, что они, точно средним ухом, как летучая мышь препятствие, тонко чувствовали подвох. По–хорошему, им бы еще пожить–осмотреться при более или менее цивилизованном градоправителе Колобкове, приобрести основные гражданские навыки, воспитать в себе рефлекс меры, освежиться, — но сука–история не дала.
Что же до сумасшедшего Огурцова, то он долго не переживал свое поражение на выборах в городскую Думу и вскоре показал себя во всей красе, когда подняла голову Болотная слобода.
Следует заметить, что эта самая Болотная слобода издавна отличалась вздорным характером и отчасти портила стройную картину городского житья–бытья, как–то: здесь в свое время возмечтали о рейнтабельном сель–скохозяйственном производстве, из чего вышла совершенная чепуха. Так вот последнее поползновение в сторону самобытности открылось как раз вскоре после выборов в городскую Думу, на которых потерпел поражение Огурцов. Этот сумасшедший на поверку оказался не таким уж и сумасшедшим: на самый коварный манер воспользовавшись тем, что слободские от века носили кепки сдвинутыми набекрень, а не на затылок, как это у глуповцев водится вообще, он выдвинул гипотезу о самобытном происхождении жителей Болотной слободы от варяжского корня, хотя у Салтыкова–Щедрина ясно сказано, что население города и округи произошло от “народа, головотяпами именуемого”, и на этом основании потребовал превращения Болотной слободы в самостоятельный геополитический институт. По той простой причине, что в то время занятий у слободских не было никаких, сепаратистские настроения тут возымели большую силу и сумасшедший Огурцов занял определенную высоту. В ту пору градоначальник Порфирий Иванович Гребешков еще не вполне контролировал обстановку, это он только потом себя оказал, и Огурцов даже успел выпустить собственную почтовую марку и учредить ландмилицию для усмирения поселян. Долго ли, коротко ли, чувствует Порфирий Иванович, что дело пахнет паленым, садится вместе со своим креслом в автомобиль, окружает себя мотоциклистами, включает сирену, которая мгновенно наводит ужас на горожан, так как в ней слышится что–то от “туру–туру”, — ему впоследствии достаточно было только сирену включить, чтобы унять своих подданных, — и на первой передаче едет в Болотную слободу. Пыль лениво клубится, сирена воет, как резаная, в глазах у мотоциклистов светится слово “ась”.
На невидимой взору границе градоначальника встречает непосредственно Огурцов в окружении ландмилиционеров в кепках, которые сдвинуты подчеркнуто набекрень. Порфирий Иванович говорит, по пояс высунувшись из автомобиля:
— Тебе что, делать нечего, охламон?!
Огурцов ему отвечает, как положено сумасшедшему, с какой–то странной ужимкой:
— Это еще история покажет, кто из нас охламон.
— Ну–ну, поговори у меня… — тоном ниже берет Порфирий Иванович, поскольку его смутила самоуверенность этого лихача.
— Как руководителю сопредельного населенного пункта, — продолжает тем временем Огурцов, — со всей ответственностью заявляю, что мы теперь сам с усам. Я понятно объясняюсь?
— Понятней некуда. Только вот какое дело: а что если я сейчас “туру–туру” заведу, как тогда?..
— Тогда мы пойдем по стопам отцов.
— Это как?
— Как в песне поется: все умрем в борьбе за это!
— За что за это–то?
— А за то!
Порфирий Иванович призадумался; вооруженный некоторым представлением о свычаях и обычаях непреклонцев, он скоро сообразил, что его подданные не преминут положить свои буйные головы хоть за что, поскольку, во–первых, история города Глупова воспитала в них родовое пренебрежение чередой бессмысленных горестей и невзгод, которые, в их понимании, и есть жизнь, и поскольку, во–вторых, им все равно нечем себя занять. Одним словом, градоначальник Гребешков почесал–почесал в затылке и говорит:
— Знаешь что, Огурцов: давай мы тебе памятник поставим в слободе за твою беззаветность и отвагу, чтобы, значит, потомки мотали себе на ус. Только ты давай сворачивай этот суверенитет, у нас и без тебя дел по горло, вон краеведческий музей распатронили, и вообще!Огурцов выдержал драматическую паузу и сказал:
— На памятник я согласен. Честно говоря, эта самобытность — себе дороже, того и гляди, тебя самого под горячую руку кто–нибудь распушит. А на памятник я согласен, пускай стоит в назидание, так и быть.
Порфирий Иванович:
— Ну вот и договорились! А то, е–мое, головы руководителю поднять некогда, поскольку кругом смятение и разор.
И в самом деле: разного рода невзгоды сыпались на город, точно зерно из прохудившегося мешка, — то начнут заделывать на Базарной площади относительную дыру, а она, напротив, раздастся вширь, то баламут Сорокин поднимет народ на акцию гражданского неповиновения и толпы новаторов, совершенно не по–гандийски, примутся выкорчевывать шпалы на трамвайном маршруте Базар —Вокзал, то кислой капусты не завезут, то гарнизон чего–то ходит задумчивый и внушает опасения, то приключится масштабная схватка между зоофилами и сторонниками Лучезарного Четверга, то в Думе устроит сцену бесноватый Чайников, взойдет на трибуну, скажет:
— Дамы и господа! — и вдруг зальется горючими слезами, а город ломает головы, дескать, чего это он ревет, может быть, пора разбираться по погребам…
А тут еще такой странный случай, над которым измучилась здешняя медицина: к усесту градоначальника Порфирия Ивановича Гребешкова, оказывается, формально приросло его рабочее кресло, превратясь как бы в избыточную конечность, недаром он с ним даже на публике не расставался, но постоянно носил с собой. Хорошо еще, что спинка кресла откидывалась под позу, а то совсем бы нехорошо. Жена его Вера Павловна советовала Порфирию Ивановичу ампутировать кресло, напирая на какую–то совершенную методику ампутаций, но он то ли побоялся, то ли ему понравилась такая небывалая аномалия, — одним словом, так Порфирий Иванович и ходил.
Ушлые люди
Не подлежит сомнению, что градоначальник Гребешков был порядочный человек, хотя и не без дурачинки, чем–то он напоминал своего давнишнего предшественника Грустилова, Эраста Андреевича9, только он идиллических сочинений не сочинял. И вот в то время, как при башибузуках и янычарах родного корня, которые властвовали над градом из века в век, не замечалось никаких экстраординарных поползновений, при Порфирии Ивановиче вдруг повылазили из щелей какие–то темные личности, прежде прозябавшие по конторам да лагерям, и принялись делать свои дела. Загадочная закономерность: чем настойчивее Гребешков пекся о благополучии непреклонцев, тем бодрее безобразничали ушлые люди, которые повылазили из щелей.
Первым оказал себя капитан Машкин, кажется из ассоров, бывший комроты Севастопольского танкового полка, который в свое время прославился тем, что ездил за водкой на своем Т–62 и, бывало, палил холостыми для острастки, если попадал под закрытие или в обеденный перерыв. Все началось с того, что капитан Машкин каким–то таинственным образом в одну ночь восстановил трамвайные пути маршрута Базар —Вокзал, вероятно, подключив к этой акции старых дружков–танкистов, а может быть, он их и самосильно восстановил, — через то втерся в неограниченное доверие к Гребешкову и был назначен Первым заместителем главы администрации с неограниченными полномочиями, причем не совсем законно и навсегда. До этого градоначальник трех Первых заместителей сменил, так как один украл полтонны писчей бумаги, другой изнасиловал в “предбаннике” машинистку, третий под сурдинку писал доносы, а капитан Машкин только с лица был уж очень нехорош, в прочих же отношениях это был хваткий, убедительный мужичок.
Так как градоначальник Гребешков долгое время занимался исключительно собственным усестом, вернее, экстренным приращением к этой части, капитан Машкин с полгода вращал городом, как хотел. С тем только, чтобы административная деятельность ни на сутки не замирала, Первый заместитель открыл гонение на общество зоофилов, ввел сногсшибательный налог на торговцев заморским товаром, как–то: зеркальцами, бусами и железными топорами, засадил в холодную народного трибуна Сорокина, начал строительство нового трамвайного маршрута, заделал–таки на Базарной площади относительную дыру, отстрелял несколько десятков бродячих свиней и самолично ходил в разведку боем на Болотную слободу. Наконец, капитан Машкин, видя, что город совершенно в его руках, обложил курящих непреклонцев налогом в собственную пользу, который назвал — ясак; это стародавнее название ему понадобилось для того, чтобы непонятно было, откуда денежки берутся, куда идут.
Но вот градоначальник Порфирий Иванович Гребешков видит, — на одном конце города возник из небытия дворец с фонтанами, на другом конце города откуда ни возьмись вырос дворец с фонтанами, и везде пребывает капитан Машкин; тогда он вызывает своего Первого заместителя и проникновенным голосом говорит:
— Что же ты делаешь, эфиоп?! Совсем ты, как я погляжу, раздухарился, никакого удержу тебе нет! Разве мы для того налаживали свободу мнений, чтобы ты жил везде, а обыкновенный народ нигде?! Ты подумай своей головой: ведь в землянках живет народ!
Капитан Машкин ему в ответ:
— А я, что ли, виноват, что эти огольцы целую улицу разнесли?! Ты, Порфирий Иванович, мастер валить с больной головы на здоровую! Сами они во всем виноваты, раскатали улицу, теперь пускай поживут на положении трюфелей!
— А ясак кто ввел?
— Ну я ввел ясак, и что?! Подумаешь, человек образовался за счет курящих, зато теперь город украшают мои дворцы! А этих страстотерпцев я буду по–прежнему гнуть в дугу! Потому что у нас так от дедов–отцов ведется: война хижинам, мир дворцам!
— Насколько мне помнится, по учению будет наоборот.
— А у нас чего ни хватись, все существует наоборот! Положим, в теории будет “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”, а на деле едрена мать! И вообще: из нашего брата, руководителя, по–моему, один Робеспьер жил в хижине у Дюпле…
Порфирий Иванович призадумался; с одной стороны, ему было очевидно, что раз в свое время по–писаному не вышло, разумно было бы попытаться что–нибудь иное предпринять, а с другой стороны, он всегда испытывал оторопь перед людьми, которые владеют избыточными сведениями, не применимыми в быстротекущей жизни, и поэтому с капитаном Машкиным они по–хорошему разошлись. Градоначальник и впредь сквозь пальцы смотрел на проделки своего Первого заместителя, и тот со временем увлекся до такой степени, что развернул торговлю почтовыми открытками со своим изображением и девизом “Война хижинам, мир дворцам”.
Рядовые непреклонцы меж тем развлекались тем, что устраивали массовые лодочные катания или как потерянные бродили по базару и увеселения ради покупали разную милую чепуху, как–то: зеркальца, нитки бус, патроны шестнадцатого калибра, а то ямайские пилочки для ногтей. По непроверенным сведениям, патроны шестнадцатого калибра и якобы ямайские пилочки для ногтей делались на частном предприятии, принадлежавшем некоему Кукаревскому, который неведомо как сколотил значительный стартовый капитал; говорили, будто бы ночами он срезал телефонные трубки, а потом ездил продавать их в город Курган–Тюбе. Как бы там ни было, с течением времени вошел Кукаревский в силу, и еще многие ушлые люди прикровенно хозяйничали в городе, хотя виду не показывали, и вообще этот экономический феномен открылся преждевременно, невзначай: как–то шествует по городу Первый заместитель главы администрации, воротит нос от клубов пыли, вздымаемой резким ветром, который что–то в последние годы не оставлял Непреклонск в покое, думает о хорошем, и вдруг взбрело ему на ум освидетельствовать город с высоты видообзорной каланчи, дескать, не увидится ли что такое, что еще можно прибрать к рукам; но только капитан Машкин отворил калиточку и ступил на песчаную дорожку, как мужичок–сторож говорит ему:
— От винта!
Капитан Машкин даже опешил и пятнами пошел, поскольку он никак не ожидал таких распоряжений от простецкого мужичка.
— Ты чего? — спросил он сдержанно–гневливо, так как ему подумалось: а не произошел ли в городе, часом, переворот…
— А того, — отвечает сторож, — что видообзорной каланчой теперь владеет господин Кукаревский, Сергей Фомич.
— Да на каких же основаниях он зажилил нашу видообзорную каланчу?!
— Это покрыто мраком. Но факт тот, что полгорода у него.
Ничего не сказал на это капитан Машкин, только вдруг как–то похудел, или он просто–напросто спал с лица. В тот же день он снесся с градоначальником Гребешковым на тот предмет, что, дескать, как же это так получилось, с какой, дескать, стати половина города оказалась в руках у темного Кукаревского, который дьявол его знает откуда взялся и подозрительным манером нажил себе капитал… Порфирий Иванович ему сообщил, что соответствующие бумаги действительно существуют, но как обстряпалось это дело, сказать затруднительно, скорее всего, он эти бумаги в беспамятстве подписал. Поскольку капитан Машкин доподлинно знал, что постороннего имущества у градоначальника имелся единственно ахалтекинский жеребец, подаренный ему пермским губернатором, то он решил, что тот бумаги точно в беспамятстве подписал. После Машкин уже ничему не удивлялся, и когда Кукаревский взял моду разъезжать по городу в лимузине марки “дьяболо”, которых во всей Европе насчитывалось не больше пятидесяти экземпляров, но странно смотревшемся на фоне покосившихся непреклонских домушек, почерневших заборов и розовых хрюшек, трущихся о столбы, и когда Кукаревский предоставил свой “дьяболо” в краеведческий музей, а сам пересел на живого белого слона и вечерним делом ездил на нем в гости к сумасшедшему Огурцову в Болотную слободу. Капитан Машкин только тогда по–настоящему удивился, когда стороной узнал, что Кукаревский в недалеком прошлом служил официантом в московской гостинице “Метрополь”.
Около того времени, что Кукаревский пересел на белого слона, в городе объявилась банда Васьки Круглова по кличке Шершень, в которой, кроме него, состояли два брата–людоеда, один бывший милиционер, обиженный по службе, и приснопамятный Зеленый Змий, уже с год как принявший облик специалиста по ремонту бытовой техники и горячего сторонника идей Лучезарного Четверга. Васька Шершень обменял в гарнизоне фамильное обручальное кольцо на два автомата Калашникова и, разбив карту города на квадраты при помощи обыкновенной школьной линейки и карандаша, принялся методически грабить непреклонцев, благо у них залежалось кое–какое сомнительное добро. Непреклонцы, как завидят, что Васька Шершень вышел на промысел, так сразу разбирались по подвалам да погребам, оставляя свое имущество на распыл, а после заставали жилища совершенно голыми, хлопали себя по ляжкам, смеялись горьким смехом и восклицали:
— Вот уж действительно, — точно Мамай прошел!
Неудивительно, что Васька Шершень приобрел среди непреклонцев в своем роде авторитет, так как он выказал непривычную методичность, хватку, твердость характера, но, главное, он за то полюбился землякам, что твердо знал, чего именно он хотел. Между тем Васька Шершень ничего определенного не хотел, а просто–напросто у него руки были приделаны к туловищу, что называется, на соплях, и в то же время он страстно желал продемонстрировать согражданам, что и Васька Шершень не лыком шит. Кроме того, по умеренным расценкам он резал тещ, паралитиков и свиней. Градоначальник Гребешков словно не замечал безобразной деятельности Васьки Шершня, так как он отлично понимал, что все равно ему с бандой не совладать, и Разбойник безнаказанно гнул свое.
Другое дело Зеленый Змий; этот довольно скоро порвал с уголовщиной, разочаровавшись в результате насилий и грабежа, — все зеркальца да бусы, что действительно за корысть, — вышел из банды, дважды избежал смерти от пластиковой взрывчатки благодаря своей метафизической сущности и основал собственное дело, которое впоследствии принесло ему огромные барыши. Именно он принялся за старое: гнал самогон, нарочно добавляя в бражку настой тополиного семени, вызывавший жесточайшую аллергию, и одновременно наладил производство лекарства, которое как рукой снимало удушье, отечность и легкую хромоту. Непреклонцы по простоте душевной охотно потребляли и то, и это и в результате обеспечили Зеленому Змию огромные барыши. Сколотив капитал, он до того осмелел, что в один прекрасный день ударился оземь и принял свое классическое обличье; непреклонцы, даром что они в массе своей совершенно осатанели от приема отравленного самогона и противоаллергического препарата, ужаснулись такому виду и отказались его продукцию потреблять.
— Мужики, вы чего? — говорил им Зеленый Змий. —Ведь я же свой, я же горой стою за идеи Лучезарного Четверга, чтобы, значит, прочный паек и семь выходных в неделю…
Но непреклонцы были непреклонны, тогда Зеленый Змий обиделся и временно отлетел.
Что же до банды Васьки Шершня, то она в конце концов кончила трагически: братья–людоеды, расслабившись от безнаказанности, как–то выкрали и съели племянника капитана Машкина, тот поднял по тревоге гарнизон, обложил банду в одном пятистенке по Навозному тупику, обстрелял строение кумулятивными снарядами и поджег, — видно было, как черные души бандитов, одна за другой, плавно и медленно вылетели в трубу.
Поскольку привередливость народных симпатий у нас хорошо известна, жалко было непреклонцам боевитого Ваську Шершня, в городе даже балладу начали складывать про него на мотив известной песни “Из–за острова на стрежень”, однако по той причине, что почивший бандит сильно почистил город, не на чем было набрать мотив.
Кстати о художественном в здешнем житье–бытье, — по этому департаменту тоже случилась драма. Как уже было отмечено где–то выше, непреклонцы совершенно разделили судьбу российского населения, когда на многие десятилетия, можно сказать, ни с того ни с сего пристрастились к чтению и оно сделалось третьей национальной страстью после пьянства и воровства. Этот феномен можно следующим образом объяснить: не то чтобы непреклонцы были слишком уж рафине, а просто зимы у нас нестерпимо длинные и с сентября по апрель чересчур долгие вечера; или в полосу жестокого безденежья чтение заменяло здешним обитателям алкоголь, ибо оно тоже манило головы в чарующие дали, иные измерения, где, во всяком случае, все не так; или в те поры, когда даже покрой пиджаков выдумывался в административном порядке, единственным способом сделать фронду было книжку умную почитать; или же дело в том, что искусственный способ бытия, организованный усилиями Каменного Вождя, подразумевал искусственные занятия вроде чтения, до которого никогда не снизойдет нормально устроенный человек. Но вот при Порфирии Ивановиче Гребешкове что–то произошло с непреклонцами, совсем они остыли к литературе и, вместо того чтобы книжку почитать, теперь с утра до вечера таращились в окошки и думали о своем. А если не таращились в окошки и не думали о своем, то участвовали в кампаниях гражданского неповиновения, сшибали монументы, обменивались мнениями, ломали головы, как бы добыть копейку, прятались от банды Васьки Шершня по подвалам да погребам, то есть у них появилась пропасть новых, серьезных занятий, меж тем литература, как и прежде, твердит свое: “Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать”. Какой Ванька Жуков, какой сапожник Аляхин, в сущности, и не существовавшие никогда, если, елки–зеленые, сердце рвется нарушить трамвайное сообщение по маршруту Базар—Вокзал… Одним словом, в городе, имевшем стародавние культурные традиции, породившем поэта Никиту Чтова10, народ до того дошел, что с омерзением читал даже надписи на этикетках и спичечных коробках.
Крепче всего это акультурное явление задело престарелого стихотворца Бессчастного, который в свое время написал прославившие его строки:
Счастье к нам подкралось незаметно,
Как лазутчик к лагерю врага… —
поскольку он почувствовал себя лишним при новом раскладе жизни и остался безо всяких средств к существованию, ибо еще при Железнове лишился пенсии за стихотворение:
Тихо вокруг, никого у реки.
Вдруг звон раздается — то звон оплеухи
От справедливой тяжелой руки… —
а уже при Гребешкове в “Патриоте” перестали давать стихи. Одно время старик Бессчастный даже голодал, но затем он попытался притереться к текущему моменту и засел за литературную работу в том жанре, который следует определить как исторический анекдот. Именно поэт Бессчастный решил написать трактат, в котором, однако, самым основательным образом исследовались бы странности глуповского характера с выявлением всех причин. Генеральная его мысль заключалась в том, что во всех невзгодах, выпавших на долю этой этнической группы, виновато качество здешних вод; будто бы в первое переселение народов пращуры глуповцев задержались в своем движении на запад, умиленные огромными запасами питьевой воды, которые открылись им на севере Валдайской возвышенности, удивительной воды, внушающей умиротворение плюс плавное движение мысли, и временно осели передохнуть; да так и остались сидеть среди дремучих лесов и пахучих трав, по соседству с дикими лопарями, в то время как их собратья арийцы все шли и шли к теплым морям, благословенным берегам, под бочок к первым цивилизациям, туда, где дует парфюмерный мистраль и благородная лоза вьется сама собой; глуповцы то и дело порывались продолжить путь, но как–то это было не с руки, то то, то се, то пятое, то десятое, однако так называемые чемоданные настроения въелись им в плоть и кровь; отсюда как бы временные города, походные кладбища, жилища бивачного типа, агротехника такая, чтобы только с голоду не помереть, и промышленность такая, чтобы только как–то убить среднеевропейское время, и, следовательно, глубокая пропасть между расовым самочувствием и способом бытия; а все — вода, какая–то все–таки не такая, злостная и не та.
Полгода сидел Бессчастный за своим трактатом в расчете на новую славу и добрый куш. Как бы не так: прочитали в “Патриоте” его писанину и говорят:
— Ну ты, старик, совсем плохой! Кому сейчас нужна вся эта этнография, ты нам давай про неординарную половую ориентацию, например про связь старушки с палкой–копалкой, про антропофагию нам давай!
Но поэт Бессчастный и слов таких не слыхал; сплюнул он в сердцах на пол, причем самым нефигуральным образом, и ушел.
Однако пить–есть как–то надо было, и он сначала навострился напечатать трактат в Перми, — все же культурный, балетный город, — потом даже за границей, но в обоих случаях, бедняга, не преуспел. Тогда он отправил трактат в кладовку, на полочку, между трехлитровой банкой моченых яблок и пустыми бутылками из–под пива, и надумал ребусы сочинять, — и тут к поэту пришел успех: ребусы его в скором времени приобрели такую громкую популярность, что тираж “Патриота” вырос в пятнадцать раз. Долго ли, коротко ли, зажил Бессчастный на широкую ногу: завел свой выезд —“Жигули” девятой модели, —купил домик на Козьем спуске, сидит–посиживает у открытого окошка, глядит на публику, дует чай.
Ему скажет кто–нибудь из прохожих, уповательно сторонник идей Лучезарного Четверга:
— Устраиваются же люди!
Бессчастный:
— А тебе кто мешает?
— Жизнь!
— Нет, жизнь как раз правильная пошла, надо только шагать с ней в ногу, как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
— Погоди, ехидна! Грянет час, ты еще по–прежнему запоешь!
Вообще на это было мало похоже, поскольку новый Непреклонск уже приобрел кое–какие необратимые, въевшиеся черты, так, любимыми народными увеселениями стали разгадывание ребусов и состязания для умельцев часами стоять на одной ноге, а кроме того, по радио с утра до вечера и чуть ли не на положении государственного гимна крутили блатную песенку, во время оно пользовавшуюся особенным успехом в потьминских лагерях:
Гоп–стоп, Зоя,
Кому давала стоя… —
так что ее знала наизусть даже местная ребятня.
Кое–кто из непреклонцев, например бесноватый Чайников, никак не могли смириться с этой фрондой культурной норме, и напрасно: уж так устроен подлунный мир, что ежели ты желаешь свободы мнений и регулярного трехразового питания, то терпи, ибо то и другое в состоянии обеспечить только выходцы из потьминских лагерей; и наоборот: когда культурная норма овладевает массами, жди публичных казней и скотского падежа.
Пятый сон Веры Павловны
Снилось ей, будто бы в Непреклонске, на Базарной площади, собрались горожане на митинг не митинг, на сход не сход, а вот как заполнили несметные толпы непреклонцев все пространство между пивным павильончиком и зданием городской администрации, так и стоят —молчат. Что–то грозное и одновременно тревожное чувствуется в этом безмолвии многочисленного скопления горожан, Вера Павловна даже во сне от страха похолодела, ибо женщины вообще боятся толпы, у них сразу все вниз опускается, в район двадцать четвертого позвонка.
Довольно долго так стояли непреклонцы, точно им невзначай вздремнулось, но вот посреди толпы возвысилась фигура народного трибуна Сорокина, публика заволновалась, зашумела, послышались выкрики:
— Долой свободу мнений!
— Даешь прочный паек!
— Да здравствуют идеи Лучезарного Четверга!
Вера Павловна в смятении повернулась к одному согражданину и говорит:
— По какому поводу шумим?
— Да вот, — отвечают ей, — эта сволочь Бессчастный напечатал в “Патриоте” статью под названием “Половые извращения у собак”! Ну сколько можно издеваться над простым народом?! то есть нам эти безобразия совершенно сделались невтерпеж!
Между тем народный трибун Сорокин предпринял усмиряющий знак рукой, потом подбоченился и завел речь.
— У нас в Непреклонске, — говорит, — что ни человек, то субъективный идеалист. Мы без веры в какую–нибудь возвышенную механику как бы даже и не дышим, а так… совершаем химическую реакцию: на входе выхлопные газы, на выходе чистое СО2. Поэтому у нас могут быть какие угодно невзгоды по хозяйству, я даже допускаю частную инициативу в области фотодела, но идею — это подай сюда!
Грянули аплодисменты.
— Потом: нравится это кому–то или не нравится, а уж такими мы уродились, что нам хорошо не надо, нам надо сносно, и чтобы у всех по четыре пуговки, и все прочее сообща. Один Иван, он Иван и есть, а сообща мы кого хочешь задавим идеями Лучезарного Четверга!
И снова грянули аплодисменты.
— Я вот вам сейчас по секрету скажу, почему захватчики не задержались на временно оккупированных территориях: потому что на временно оккупированных территориях они отменили как категорию перекур… А этих, которые взамен всего нам предлагают свободу мнений, самое время прижать к ногтю! Дворцов себе, понимаешь, понастроили, на белых слонах ездят, а нам говорят: вы, ребята, обменивайтесь мнениями, а мы пока прикарманим видообзорную каланчу.
Над толпой пролетел возмущенный ропот.
— Только мы тоже не лыком шиты, мы свое возьмем, единственное, надо помнить о трех источниках, трех составных частях: субъективный идеализм, никаких белых слонов, и чтобы все до последней пуговки сообща!
Слово “сообща” заглушили аплодисменты.
— Так что не сомневайтесь, мужики, рази врага, разноси город на кирпичи!
Разумеется, не весь город, и отнюдь не на кирпичи, но кое–что непреклонцы, донельзя возбужденные страстными подстрекательствами народного трибуна Сорокина, все–таки разнесли, именно сожгли сдуру пивной павильончик, раскатали на бревна всю левую сторону Козьего спуска, опять аннулировали трамвайный маршрут Базар—Вокзал и по старой привычке воздвигли одиннадцать баррикад. Градоначальник Порфирий Иванович Гребешков на все время этой вакханалии заперся у себя в кабинете и даже не стал поднимать гарнизон, опасаясь, как бы он не принял сторону инсургентов, ибо его предельно измучил повальный педикулез.
И дня не прошло, как история изменила течение свое, как жизнь повернулась вспять: город в который раз был переименован из Непреклонска в Глупов, газета “Патриот” в “Красный патриот”, Базарная площадь в площадь имени комиссара Стрункина, и на этом смятение вроде бы пресеклось. Ан нет: поэта Бессчастного посадили в сумасшедший дом, чем он был, впрочем, отчасти горд, так как затесался в одну компанию с Батюшковым и Чаадаевым, у капитана Машкина отобрали его дворцы, которые после пошли один под склад горюче–смазочных материалов, другой под приют для слабослышащих и незрячих, у Кукаревского реквизировали слона и демократично пустили его на мясо, наконец, посредством направленного взрыва зачем–то ликвидировали видообзорную каланчу, — эту взаправду на кирпичи. Но и тут был еще не конец; решил народный трибун Сорокин посчитаться со своими врагами, но сумасшедший Огурцов, оказывается, уже опять ошивается около разоренного пивного павильончика и даже не поминает про памятник, обещанный ему Гребешковым, тогда он зовет к себе бесноватого Чайникова, — тот было заартачился, но пришел.
— Давай объясняй, — говорит ему Сорокин, — чего ты все время плакал?
— Да как же тут не плакать, — пустился в объяснения Чайников, — если вся история нашего Глупова —это сплошное горе?! Просто несчастный, заклятый какой–то город, и более ничего!
— Может быть, ты и прав, да только обыкновенное горе у нас с пол–горя, а так надо рассуждать, что как бы не вышло хуже. Ты вон еще при Железнове боролся с фальшью и расхитителями социалистической собственности, а к чему мы пришли в результате? — к половым извращениям у собак!
— При таком качестве администрации чего только не приходится ожидать. То ли еще при тебе будет…
Народный трибун Сорокин внимательно–превнимательно посмотрел в глаза Чайникову, а потом проникновенным голосом сказал:
— Ась?..
Это “ась” так напугало Чайникова, что он побледнел и умер. Сорокин без участия посмотрел на его бездыханное тело и сказал уже самому себе:
— А еще борец!..
Вот что было странно: казалось бы, с очередным пришествием новой жизни в Глупове совершались все положительные, праведные дела, ни с какой стороны не огорчавшие Недремлющее Око, и тем не менее вдруг исчезли продовольственные товары, за исключением кислой капусты, которой, нужно отдать справедливость, в городе было невпроворот. Хотя глуповцы и с подозрительной симпатией относились к разным проявлениям новизны, нежданный продовольственный кризис их все же насторожил, и единственно то обстоятельство отвлекало от гнетущих мыслей о кислой капусте, что радио по–иному заговорило: про Зою уже и помина не было, а все народный трибун Сорокин речи произносил; слова у него были вроде русские, но понять ничего было нельзя, как если бы он галлюцинировал наяву.
Прошла неделя, другая, тихо стало в Глупове, даже отчасти скучно, а в начале третьей недели были отмечены первые случаи заболевания маниакально–депрессивным психозом с характерно выраженным ступором11, которого город не знал уже приблизительно десять лет. То ли эта болезнь и Сорокина поразила, то ли он надумал развлечь земляков привычными несуразностями, но вот что он вскорости начудил: велел возобновить в Болотной слободе сельскохозяйственное производство с обязательным прикреплением к земле местного населения, распорядился обнести город колючей проволокой в два кола, дабы пресечь вредные влияния извне, приказал сделать Порфирию Ивановичу Гребешкову принудительную ампутацию кресла, и тот случайно остался жив, ввел трудповинность для малолетних, выкрал из краеведческого музея лимузин “дьяболо” и заново начал строить видообзорную каланчу. По обыкновению, глуповцы много если косо смотрели на все эти сумасбродства, и даже не было замечено особого возмущения, когда новый владыка присвоил себе краеведческий лимузин, но, долго ли, коротко ли, народный трибун Сорокин позволил себе один экстраординарный поступок, и тогда глуповцев прорвало. Как–то опять собирает Сорокин митинг не митинг и сход не сход, въезжает на своем лимузине в самое сердце толпы, высовывается в окошко и говорит:
— А что, не водится ли у нас в округе какой–никакой кочевой народ?
— Да нет, — отвечают ему из толпы, — вроде бы не водится, не дано. Когда–то, еще при царе–Горохе, приезжала к нам делегация хазарских писателей, а про других кочевников не слыхать. А что?..
— А то, что я желаю, чтобы мне кочевые народы саблю приподнесли!
Тут–то глуповцев–непреклонцев и прорвало. Разбрелись они по домам и вдруг стали грузить свой скарб в тележки, коляски и прочие бедняцкие средства передвижения, а наутро двинулись кто куда. Народный трибун Сорокин стоит посреди площади имени комиссара Стрункина и в растерянности вопрошает:
— Товарищи, вы куда?!
Ему, в частности, отвечают:
— Мы в Новую Зеландию напрямки.
— А не далеко ли будет?
— Мы бы и дальше лыжи навострили, да, по нашим сведениям, дальше–то ходу нет. Дальше Антарктида, а это даже по сравнению с родными палестинами получается перебор.
Дело было осенью, уже палая листва устелила пустой город сплошным ковром, грачи печально кричат, кружа над покосившимися куполами, и вот последнее, что грезится Вере Павловне: стоит посреди площади народный трибун Сорокин, смотрит на грачей и с тоскою в голосе говорит:
— А ведь скоро и эти сволочи улетят…
Оправдательные документы
Нету.
1 В первый раз Глупов был переименован в Непреклонск, “вечно достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича”, при градоначальнике Угрюм–Бурчееве, предвосхитившем идеи и методы большевиков, — ведь реки мужик поворачивал вспять, — задолго до рождения Каменного Вождя.
2 Леонид Михайлович, владыка новой формации, призвал варягов ремонтировать здание горсовета, пересажал всю номенклатуру, за исключением прокурора Бадаева, объявил войну Зеленому Змию, открыл дорогу частной инициативе, учредил войсковую охрану молокозавода, вновь присоединил к городу Болотную слободу.
3 Первый градоправитель от партии большевиков. Враз уничтожил в Глупове уголовную преступность, упразднил частную и личную собственность, наладил снабжение города продовольствием за счет классового врага, распространил учение о Лучезарном Четверге, у которого сразу оказались тысячи неофитов, отменил христианство, провозгласил новую эру в истории человечества, ввел прогрессивное правописание, открыл краеведческий музей и закрыл сумасшедший дом. Казнен монархистами в 1918 году.
4 Фигура темного происхождения. Нагнал ужас на глуповцев многими массовыми мероприятиями вроде кампании за искоренение задних мыслей. Ввел униформу для граждан–ского населения, открыл театр оперетты, в который захаживал по ночам. При нем произошло второе избиение медицины. Скончался от обыкновенной желтухи.
5 Именно так кончил свои дни Железнов, Андрей Андреевич, искусственный человек.
6 Дмитрий Иванович, бывший начальник цеха на красильной фабрике имени XI–летия Октября, впал в хроническую белую горячку, поскольку пострадал как рационализатор и автор почина за хорошее отношение к производительному труду.
7 Бывший грузчик с молокозавода, боролся как мог с расхитителями социалистической собственности и в результате сошел с ума.
8 Бригадир, бывший брадобрей герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, бывши в лесу, растерзан собаками.
9 Статский советник, друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году.
10 Родился в 1830 году в семье одесского биндюжника, высланного в Глупов за пререкания с околоточным надзирателем. Жил в мальчиках у шорника, шестнадцати лет начал писать стихи. Его перу принадлежат такие замечательные произведения, как стихотворение “Я родился и рос в благодатном краю”, лирический цикл “Богатырские песни”, поэма “Патриотические мечтания”. Умер от перепоя.
11 Впервые эпидемия этого заболевания была отмечена в Глупове в градоправительство Андрея Андреевича Железнова. Характеризуя этот недуг, учебник психиатрии пишет: “Больной знает, что находится в больнице, и вместе с тем считает, что одновременно живет на Марсе”.