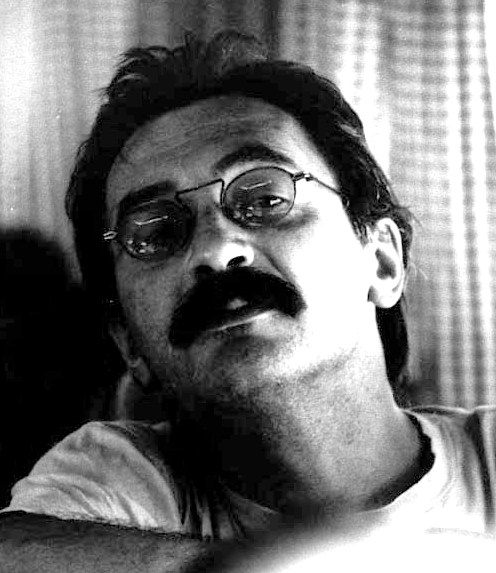
Исторический роман. Со страниц журнала "Знамя"
Об авторе | Тимур Юрьевич Кибиров (р. 1955) — поэт, автор более двадцати поэтических книг, лауреат многих отечественных и международных премий, в том числе премии «Поэт» (2006). Постоянный автор «Знамени». В 2010 году в «Знамени» была опубликована повесть «Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви». Живет в Москве.
Книга первая
Анна и командир
ГЛАВА 1
Дух партий, благосклонность и вражда,
Как исторический характер нам неясно
Представили его; теперь искусство
Должно его приблизить к вашим взорам —
И к сердцу.
Ф. Шиллер в переводе Л. Мея
Ну вот он.
Здрассте пожалуйста!
В смысле — здравия желаю!
Да, действительно, генерал, генерал-майор, никаких уже сомнений, вот, все знаки различия налицо — погоны блещут, лампасы алеют, папаха морозной пылью серебрится.
Хорош.
Вот те и магический кристалл!
Вот тебе и Годунов-Чердынцев, и Айвенго, и Петруша Гринев c Максимом Максимовичем!
Не говоря уже о мистере Пиквике и сэре Рипичипе.
Так-то вот.
Никаких тебе, старичок, Снусмумриков, даже не мечтай, рылом не вышел, тебе вот это вот, похоже, всю жизнь разгребать и обонять.
Прям как в анекдоте — «Всех вумных к вумным послали, а табе — пакет!».
Тоже про генерала кстати…
Обидно, конечно же, и досадно.
Сам-то ведь себя почитаешь не просто вумным, а прямо-таки средоточием всяческой вумности и утонченной затейливости, а тут такой, прости Господи, персонаж.
И ничего ведь уже не поделаешь, придется-таки выяснять, что же он такое в конце концов означает и с какой, собственно, целью явился из советского далека (ах да, не явился, являются, как справедливо отмечал майор Юдин, привидения), значит, прибыл, прибыл для дальнейшего прохождения службы, и по какому праву сей нежданный-негаданный пришлец домогается воплощения.
В общем, как шутят в любимой оперетте моего генерала, — «Что выросло, то выросло!».
Ну а Музе давно ведь уже было велено быть послушной (и, между прочим, равнодушной — к тому, что и как толкует чернь тупая), и этот приказ, насколько мне известно, еще никто не отменял, и на Музу российской прозы он распространяется в полной мере.
А то, что опять цитата на цитате едет и реминисценцией погоняет, и презренная пародия бесчестит литературные памятники и мемориальные комплексы, — с этим и подавно придется смириться, старого учить, что мертвого лечить.
Так что остается только самому встать по стойке смирно, приложить правую руку к воображаемому козырьку и спросить неведомо кого: «Разрешите выполнять?».
Тут же, конечно, вспоминается строчка из армейской песенки Коваля и Липского — «Разрешите обосраться?».
Может, конечно, и так получиться.
Кто ж от такого застрахован?
Ну а генерал мой от нетерпения уже чуть не подпрыгивает, ботиночками притопывает, перчаточками прихлопывает, рожа разрумянилась, что твое переходящее знамя, или дефицитная из-под прилавка рыба, или снегирь на новогодней открытке от Анечки, или… в общем, пылает рожа, а бровищи заиндевелые искрят на солнышке, так весь здоровьем и пышет и папиросочкой, лихо закушенной, попыхивает.
Крепенький такой, ядреный, радостный, ну совсем как само это утро, смачно хрустящее под озябшими ногами и слепящее глаза генераловы всей своей январской бижутерией.
Ну?
И чем не герой?
Согласитесь — внешний вид, несмотря на всю выслугу лет, самый что ни на есть геройский, можно сказать, молодцеватый или даже молодецкий. Именно! Как в песне — «Ой ты, удаль молодецкая! Заливные голоса!».
Росточком вот только не вышел.
Деликатно говоря — ниже среднего.
Зато плечи — косая сажень и грудь, натурально, колесом!
Правда, последние лет двадцать это уже не очень видно, потому что колесом гораздо большего диаметра выкатилось генеральское пузо (маленькая Анечка, забираясь воскресным утром к родителям в кровать, хлопала ладошкой по отцовской майке и цитировала Чуковского: «Ну и брюхо, что за брюхо! Замеча-а-ательное!!»), но, как ни странно, это нашему военнослужащему герою вполне идет, нисколько не мешает бравой выправке и даже придает его фигуре еще большую значительность и монументальную монолитность.
Травиата Захаровна (об удивительном имени генеральской женушки поговорим потом) любящими своими очами усматривала в его лице сходство с французским киноактером Жаном Габеном, с чем я отчасти готов согласиться, но все-таки указал бы скорее на актера советского — Юрия Толубеева в роли Городничего в старой, но замечательной экранизации.
А в недобрые минуты генерал и вовсе становился похож на Собакевича, каким его изобразил Боклевский, если я правильно помню фамилию классического иллюстратора.
Голова — крупная и круглая, глаза небольшие, серо-голубые.
— Стальные, может быть?
— Да, пожалуй, и стальные, почему нет?
Нос… ну не то чтобы совсем картошкой, а так… большой такой клубникой, и опять-таки как у Сквозника-Дмухановского, который сам себя в сердцах обозвал толстоносым.
Брови седые и лохматые, потому что после смерти Травиаты Захаровны некому было приводить их в порядок, а волосы, все еще густые, стрижены жестким и колючим ежиком, почти под ноль.
Вот такие суровые черты лица.
А иногда и смешные, и вызывающие ехидный вопрос: «Уж не пародия ли он?».
— А уши?
— Что уши? Нормальные уши… Ну, мясистые такие… И тоже без присмотра Травушки сильно заросшие.
А вот шеи нет вовсе, то есть раньше-то она, безусловно, была, хотя и не больно заметная, а под старость совсем исчезла под нависшими брылами и вторым подбородком.
Ну да, правильно — бульдог.
А может, и мастиф.
Зовут его Василий Иванович.
Почему же сразу, как Чапаева? А может, как Теркина? Мало ли Василиев Иванычей.
Например, художник Суриков или, скажем, архитектор Баженов.
Или вот В.И. Агапкин, автор дембельского марша «Прощание славянки».
Или покойный папа моего уже тоже покойного друга подполковник Хитрук В.И., Царствие им обоим Небесное.
Так что имя-отчество вполне себе подходящее, солидное, исконно русское, без всяких этих глупостей.
А вот фамилия…
Подгуляла фамилия.
Сколько же наш генерал, да и дочь его, да даже и Степка-балбес, вынесли из-за этой фамилии глумлений и хихиканий!
Но и правда ведь смешно — генерал-майор Бочажок?
Да и полковник, и подполковник, и майор, и даже лейтенант Бочажок — тоже истинная находка для остряков-самоучек.
Этакая глупая фамилия разве что ефрейтору впору!
И рифмуется же, главное, так легко с чем попало!
А если того злосчастного Бочажка Господь еще и ростом обидел?
Ну самые серьезные и умные люди никак не могли удержаться от улыбок, а дураки так просто покатывались:
— Как-как? Бочажок?! Ха-ха-ха! Гы-гы-гы!
А о том, какое впечатление производила эта фамилия в сочетании с именем Травиата, и говорить не стоит.
И, вроде, ничего такого особо нелепого или там непристойного в звучании и в значении этой фамилии не было — ведь не Запоев же все-таки, не Сиськамац какой-нибудь (есть и такая фамилия, ей-богу), не Говенда, увековеченная Л.С. Рубинштейном!
Или, например, семья Какашкиных, которых мне самому довелось опрашивать в ходе всесоюзного социологического исследования!
Нет, ничего такого, всего лишь уменьшительное от хорошего русского слова «бочаг» (или «бочага»), которое означает, согласно Ушакову, «яма, залитая водой, омут», а по другому словарю — «глубокое место в реке» или «небольшое озеро, остаток пересыхающей реки».
И чего тут ржать? Именно что признак дурачины…
А в последние лет десять это же самое дурачество и веселье по поводу уха на боку пристало, как банный лист, и к безукоризненно, казалось бы, серьезному имени и отчеству генерала.
Потому что советскому народу после многолетней лютой стужи хватило и жалких лучей хрущевской оттепели, чтобы разнежиться и оборзеть, смекнув, что его, как это ни странно, вроде, не собираются больше расстреливать, да и сажают-то спустя рукава и на какие-то смешные сроки.
И пустился распоясавшийся народ-языкотворец как подорванный сочинять и рассказывать анекдоты.
А среди этих самоцветов русского фольклора, чаще всего неприличных, но иногда потрясающе изящных по форме и даже глубоких по содержанию, едва ли не самыми популярными были анекдоты про тезку моего генерала, легендарного героя Гражданской войны и культового фильма. Ну и про его верного оруженосца Петьку, комиссара Фурманова и Анку — так сказать — пулеметчицу.
Ни поручик Ржевский, похабничающий с Наташей Ростовой прямо на первом балу, ни безобразник Вовочка, спрашивающий училку, кто такой Вуглускр, ни (чуть позже) Штирлиц, ни даже лично Леонид Ильич не могли, насколько я помню, соперничать с этим устным народным героем.
Вот разве что армянское радио и безотказный Рабинович, да и то вряд ли.
Так что словосочетание «Василий Иванович» ассоциировалось теперь исключительно и прочно с этим нелепым, пьяным, блудливым и тупым, как валенок, персонажем.
Особенно изводил Бочажка его заместитель по политической части подполковник Пилипенко (это когда сам Василий Иванович был командиром полка):
— Здоров, Василий Иванович, слышал анекдот про антенну? Василий Иваныч — гы-гы — спрашивает Петьку: «А где Фурманов?» А тот: «Антенну натягивает!». А Чапаев: «Красивое имя — Антенна!».
И сам хохочет, заливается.
Бочажок молча смотрит на него и думает: «Какой же ты все-таки идиот. Треснуть бы тебя по башке твоей лысой вот этим, к примеру, графином!».
А Пилипенко, отхохотав, спрашивает:
— Чо, не дошло?
И начинает снова рассказывать с пространными объяснениями.
А офицерский молодняк вообще, хотя и уважал своего командира, и боялся, и в общем и целом скорее любил, чем нет, прозвал Бочажка Джавахарлалом. Почему? Да из-за такого же непристойного, но, на мой взгляд, более забавного анекдота, ныне забытого и малопонятного. Джавахарлал Неру — это был такой всемирно известный индийский политик, уж не помню, прогрессивный или реакционный.
И вот, значит, выходит Чапаев покурить на балкон, завернувшись в простыню, а Петька снизу:
— Василий Иваныч, ты, что ли, Джавахарлал Неру?
— Во-первых, не Неру, а Нюру, а во-вторых, не твое дело, кого я джавахарлал!
Но об этом своем унизительном прозвище Бочажок, к счастью, так никогда и не узнал.
— Товарищ генерал, сказали, еще минут двадцать! — доложил подбежавший водитель генеральской «Волги» сержант Григоров, которого Василий Иваныч посылал узнать, когда ж, в конце-то концов, приземлится самолет, на борту которого летит из Москвы его доченька, красавица и умница, папина радость и гордость, единственный теперь уже свет его очей.
— Спасибо. Ты поди в машину, погрейся. И ты тоже, а то стоишь, как этот… — генерал с привычным раздражением изобразил, как именно стоит его сын.
Но в это утро даже Степка не мог испортить настроения, разве что подпортить — слегка и ненадолго.
— И высморкайся ты, в конце-то концов, чо ты сопли-то гоняешь… Есть платок?
— Есть, — угрюмо отвечал Степка, продолжая шмыгать носом. — Только он в форме… в брюках.
— В брю-уках, — передразнил генерал. — На!
Степка взял протянутый отцовский платок и стал сморкаться, ожидая с покорным равнодушием дальнейших нареканий.
— Иди уж грейся, горе луковое… Да оставь платок… Жуки!
Последнее слово, произнесенное с убийственной иронией, требует объяснения. Незадолго до начала нашей истории Степка на вопрос генерала, изумленно и гневно разглядывающего на стене фотографию каких-то нечетких, но явственно и отвратительно волосатых прощелыг, пробурчал:
— Ансамбль… вокально-инструментальный… Битлы… Зэ Битлз…
— Чего-чего?
— Жуки…
Почему-то у многих тогда была странная уверенность, что именно так и переводится название достославной ливерпульской четверки.
— Именно что жуки! — сказал генерал, но срывать со стены и запрещать это безобразие почему-то не стал, махнул рукой.
Видимо, пожалел своего нелепого и безнадежного недоросля. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, хуже уже вряд ли будет.
И потом — было бы просто несправедливо репрессировать каких-то дурацких жуков, когда рядом, на той же стене, который год безнаказанно висели изображения настоящей генераловой врагини — любимой Анечкиной поэтессы Анны Андреевны Ахматовой.
А Василий Иванович был, как и положено, суров, но безукоризненно и щепетильно справедлив.
Теперь, наверное, нужно объяснить, почему это генерал, вместо того чтобы спокойно дожидаться в здании аэропорта среди других встречающих, в нарушение всех правил и инструкций выехал на своей черной «Волге» чуть ли не на взлетно-посадочную полосу и стоит себе, заложив руки за спину, всматриваясь в бледно-голубое морозное небо.
А потому что генерал. Хотя и новоиспеченный.
Во всем районе выше его по званию никого нет, в смысле по воинскому званию. К нему и райкомовское и райисполкомовское начальство относилось с должным почтением и всегда шло навстречу, а уж аэрофлотовские людишки и подавно были рады стараться.
И Василий Иванович тоже рад — и новому званию, и солнцу, и морозу, и предстоящей встрече.
Хотя и волнуется немного.
Дело в том, что в прошлый раз, ровно год назад (летом Анечка не приезжала — написала, что едет в стройотряд, а потом в какой-то лагерь, интернациональной дружбы, что ли), уже в последний вечер случился тяжелый, безобразный и не нужный никому разговор, они друг друга наобижали и вдрызг разругались, так что простились совсем нехорошо, как чужие.
А началось все с того, что Василий Иванович, глядя со снисходительной и счастливой улыбкой, как Анечка крутится перед зеркалом в только что подаренной им дубленке (спасибо Ларисе Сергеевне — донесла, что на складе в Военторге появилось несколько штук этого вожделенного всеми советскими модницами и модниками дефицита), когда дочка в очередной раз подскочила к нему с визгом: «Ой, папка! спасибо!» — и повисла у него на шее, зачем-то проворчал:
— А все вам советская власть не нравится!..
Ну пошутить он хотел! Просто пошутить!
А Анечка вдруг скорчила рожицу и нагло так:
— Да дубленка, вроде, югославская… — и сразу же: — А тебе-то самому нравится?
— Мне-то? — он все пытался вернуть веселье, не обращать внимания на дочкину провокацию: — Мне-то самому-у… нравится!.. моя!.. — и заграбастал ее в свои ласковые лапы: — Анка-обезьянка! И Нюрка-хулиганка! И…
Но Анечка не поддержала их старинную игру, выскользнула и продолжила:
— И чем же она тебе так уж нравится?
Тут и генерал (тогда еще, впрочем, полковник) начал потихонечку закипать:
— А тем, что она меня вырастила и выкормила! И выучила, и в люди, в конце-то концов…
— Только сначала она тебя родителей лишила, если я не ошибаюсь?
Чем сильней горячился злосчастный отец, тем холодней становилась непочтительная и злобная дочка.
— А вот это вот не твоего ума дело! Поняла? Много вы знаете! Наслушались… Время такое было!
И тут, как назло, из детской вышел Степка-балбес и тоже пошутил, ляпнул из «Неуловимых мстителей»:
— Но время у нас такое! Нельзя нам без сирот!
(Это, помните, Сидор Лютый Даньке говорит.)
Ну и получил от распалившегося папки подзатыльник.
Тут Анечка как заорет:
— Не смей его бить! Тут тебе не казарма!
Василий Иваныч остолбенел:
— Что? Да когда ж я в казарме?.. Ты что?!
— Ну не ты, так твои… твои… вся твоя армия, твоя… коммунистическая партия!
— Да ты ополоумела, что ли, в конце-то концов? При чем тут партия вообще?!
— Ну ты ведь у нас коммунист?!
— Степка, а ну марш в кровать!
— Да рано ж еще…
— Марш, я сказал!!
— Что, боишься, сын правду узнает?
Сын, надо сказать, уже смылся от греха подальше.
— Да какую правду?! Ты что, с цепи сорвалась?! Совсем у себя там охренели!
И эта засранка вдруг:
— В таком тоне я разговаривать с собой не позволю!
И — хлоп дверью.
Василий Иванович обиделся ужасно.
И не только и не столько за советскую власть и коммунистическую партию, сколько за себя, всю жизнь баловавшего и обожавшего эту сопливую антисоветчицу.
Главное, за что? Что он сделал-то?
А все она, Ахматова эта, все с нее, гадины, началось!
Но теперь все будет по-другому.
Генерал за этот год все хорошенько обдумал и вынес окончательное и мудрое решение.
Никаких споров, ни о какой советской власти. Сама со временем перебесится и одумается. А так только хуже, из упрямства одного станет перечить и противоречить.
Вот уж характер у девки.
Ничего. Найдем, о чем говорить.
На лыжах пойдем по озеру, как тогда. До самых островов. Чаю в термос, коньяк во фляжку, бутерброды и конфеты — и айда на полдня!
Все хорошо будет. Как раньше.
Музыкальным аккомпанементом для своего радостного и тревожного ожидания генерал выбрал (он всегда что-нибудь про себя мурлыкал и мычал) арию Мельника из оперы Даргомыжского —
Ох, то-то все вы, девки молодые,
Посмотришь, мало толку в вас.
Упрямы вы, и все одно и то же
Твердить вам надобно сто раз!
Неудачный выбор, надо сказать, и предзнаменование недоброе.
Вспомнил бы, чем там у них все обернулось и что напоследок запел этот ворон здешних мест.
Но генерал ничего этого не думает и не боится.
Да нет, куда, упрямы вы,
И где вам слушать стариков.
Ведь вы своим умом богаты,
А мы так отжили свой век!
Ну, как же!
Мы ведь отжили свой век!
Вот то-то! Упрямы вы, одно и то же
Надо вам твердить сто раз.
Да, надо вам твердить сто раз!..
Ну вот, практически все главные действующие лица, за исключением, наверное, одного, худо-бедно представлены, пора уже начаться и самому действию.
Ах да — время и место.
Живет и служит генерал-майор Бочажок в военном городке Шулешма-5, в часе езды от самого райцентра Шулешма, на берегу знаменитого некогда раскольничьими скитами и берестяными поделками озера Вуснеж, в заповедных и дремучих, как пел Высоцкий, лесах, на северо-востоке европейской части РСФСР.
Что же касается времени, обозначим его так — где-то между празднованиями столетнего юбилея Владимира Ильича Ленина и шестидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции.
А вот наконец и самолет.
ГЛАВА 2
Шут. А ты как думал, дяденька?
Кукушка воробью пробила темя
За то, что он кормил ее все время.
Потухла свечка, вот мы и в потемках.
Лир. Моя ль ты дочь?
В. Шекспир в переводе Б. Пастернака
И вот уже среброкрылая птица (так в советских газетах для вящей красоты назывались воздушные лайнеры), а если быть точным — турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24 идет на посадку, и вот уже сел, и вот уже выруливает к зданию аэропорта, и вот уже, все еще тарахтя, замирает (в конце-то концов!) в десятке метров от генеральской «Волги».
Счастливый папа приосанивается, поправляет папаху и воображает, как он сейчас лихо козырнет дочке и гаркнет:
— Разрешите представиться!..
Нет, лучше даже — честь имею представиться: генерал-майор Бочажок!
Анечка ведь его еще в генеральской форме не видела. И вот уже мимо проходят первые торопливые пассажиры. И вторые, и третьи. И вот уже на трапе никого нет. Совсем уже никого.
Нет и нет.
Да Господи же!
Да ну нет же!
Прислала же телеграмму!
— Там еще пассажиры какие-нибудь остались?
Толстая тетка, волочащая за руку укутанного, как шар, ребенка, ничего не ответила, может, не слышала, а обогнавшая ее крашеная и простоволосая бортпроводница обернулась и сказала:
— Не, вроде, нет.
И когда уже генерал, утратив всякую бравость, постыднейшим образом поддался паническим настроениям, в самолетной двери — Ну слава те, Боже! — появилась Анечка.
Василий Иваныч замахал ей обеими руками и, если бы не честь мундира, понесся бы к ней сам.
Аня увидела их и тоже махнула рукой, но как-то вяло и не очень высоко. И стала спускаться — медленно-медленно и почему-то боком.
Вот она, моя доченька, солнышко ты мое, дуреха моя золотая!
Вот уж действительно дуреха — такой мороз, а она — нараспашку!..
— Василий Иваныч, да не застегивается на ней дубленка, вы что, не видите?
Степка-балбес захихикал рядом.
— Пап, чо это у Аньки живот-то?..
И вдруг осекся и притих.
А живот, правда, как два генеральских, прямо гора какая-то, а не живот.
Что ж это такое? Что это, доча?..
— Ну хватит, товарищ генерал!
Прекрасно вы видите и уже с ужасом понимаете, что именно это такое.
Беременна ваша Анечка.
Неимоверно, непоправимо, неслыханно — бе-ре-ме-н-на!
Прямо скажем — брюхата!
— Здравствуй, папа.
— Здравствуй…
— Там багаж еще…
— Багаж?
— Чемодан и сумка.
— Садись в машину. Степан принесет.
— Он тяжелый.
— Ничего, не надорвется.
Степка был только рад возможности улизнуть, всей своей гусиной кожей ощущая предгрозовую атмосферу и по опыту зная, сколь велика вероятность подвернуться под горячую генеральскую руку.
Аня села на заднее сиденье. Генерал закурил и остался стоять у машины. Оба молчали и не глядели друг на друга.
Василий Иванович вообще ни на что уже не глядел и ничего уже не видел. Света белого не взвидел наш военачальник, ошеломленный и опешивший в буквальном смысле этих слов, то есть выбитый из седла и контуженный на всю голову — неожиданным и нечестным ударом.
— А может, она замуж… — пролепетал внутренний генеральский голос. Да за какой на хрен замуж?! Замуж! Чего б тогда скрывать! Не-е-т, это для тех, кто поглупей да попроще, а мы и без мужей управляемся, у нас ведь ни стыда уже, ни совести, ни… Ни хера уже у нас нет и не будет!
Дрянь, дрянь, просто дрянь какая-то! Что же ты дрянь-то такая, доча?
Что ж ты натворила-то, а?
Анечка, Анечка, ну как же это?
Стыд-то какой.
Но с каждой секундой приближался стыд еще больший и горший — закипали в широкой груди, подступали к глазам и рвались на свет Божий невидимые пока миру генеральские слезы.
И были те слезы совсем не скупыми и, боюсь, не мужскими.
Выручил Степка.
— За смертью тебя посылать! Где тя черти носят, деятель!
(«Деятелем» или, совсем уж презрительно, «великим деятелем» Василий Иванович называл того, чье ничтожество и никчемность хотел иронически подчеркнуть.)
— Да чо, я виноват?
— Ты у нас никогда не виноват. Пушкин, наверно, виноват.
Может быть, и Пушкин, а уж Ахматова — вне всякого сомнения!
Тут я вынужден согласиться — без нее не обошлось.
О Муза плача!
Пора уже, видимо, объяснить ту роковую роль, которую эта прекраснейшая из муз играла, и то большое значение, которое это шальное исчадие ночи белой имело, к ужасу и гневу генерала, в судьбе семьи Бочажков.
Но сначала, наверное, имеет смысл поближе познакомиться с самой блудной дочерью и попытаться понять, как же это она, папина надежда и отрада, дошла, как говорится, до жизни такой.
Анна Васильевна Бочажок, год рождения 1954.
Место рождения город Ковель Волынской области УССР.
Студентка третьего курса факультета русского языка и литературы МГПИ им. Ленина.
Ныне находящаяся в академическом отпуске и в интересном положении и — увы — незамужняя.
Когда генерал называл свою дочь красавицей, он был не так уж далек от истины.
Горизонтальные параметры (до беременности, естественно) были вообще идеальны — пресловутые 90–60–90, ну плюс-минус сантиметр. Но рост и длина ног явно недотягивали до стандартов фотомоделей. Впрочем, этих худосочных дылд на просторах нашей тогдашней Родины еще видом не видывали, а по сравнению с красотками «Советского экрана» — от Любови Орловой до Натальи Варлей — Аничкины тазобедренные характеристики казались даже чересчур скромными и недостаточно сексапильными, на взгляд записных бабников.
Но зато глаза!
Вернее, контраст между огромными карими глазами и светло-светло-русыми волосами! Да еще и брови — как в песнях и сказках — соболиные! То есть, по определению сайта KakProsto.ru, — «широкие, густые и темные. Они придают лицу невероятную выразительность, подчеркивают губы и глаза!».
О, это было что-то!
Что-то, что, как сказал певец пиров и финских скал, красоты прекрасней и говорит не с чувствами — с душой!
Ох, знаем мы эти разговоры с душой!
Знаем не понаслышке.
Вот и договорилась ты, девочка, до беды.
Ну да что уж теперь…
В отличие от трагической героини «Рale Fire» Анечка, к счастью, была похожа не на кряжистого папашу, а на красавицу-мать. От Бочажка унаследовала она только цвет обильных волос и среднерусскую форму носа. Нет-нет, толстоносой она, слава Богу, не была, но об аристократической горбинке и изысканном вырезе ноздрей северокавказской родни могла только мечтать. И мечтала. Буквально до слез. Особенно после роковой встречи с Анной Андреевной. Хотя носик был аккуратненький и вполне себе милый, слегка вздернутый.
До середины восьмого класса Анечка оставалась образцовой, да можно сказать, идеальной советской девочкой — круглой отличницей, общественницей, пионерской, а потом и комсомольской активисткой, непременной участницей концертов художественной самодеятельности, а спортивные достижения в пионерболе, волейболе и настольном теннисе совсем уж переполняли гордостью и умилением отцовское сердце.
Да что! Да уже с первого дня она была радостью и праздником! С самого первого дня, когда папа со старшим лейтенантом Дроновым и старшиной Алиевым наклюкались дорогущим шампанским, как поросята (Дронов говорил — как гусары!), и угощали всех знакомых и не очень знакомых офицеров и хозяйку домика, где Бочажки квартировали, тетку Богдану, которая вообще-то была вредная женщина и постоянно дразнила и подначивала постояльцев тем, что «при панах-то было лучше!». Да куда уж лучше! А личному составу батареи накупили конфет и пирожков с повидлом и целый ящик ситро!
Потом Бочажки долго занимали-перезанимали деньги, которых не то что до получки — до следующего вечера не хватило.
И как одуревший от радости и перемешанного с самогонкой шампанского Бочажок распевал на плацу: «Ночь весенняя дышала светло-южною красой…», а Ленька и Алиев пытались дурными голосами подпевать и вместо «гондолы» орали, конечно же, «гондоны» и ржали, как сумасшедшие.
А тут командир полка, и давай их чехвостить и грозить дисциплинарными взысканиями, хотел даже на гауптвахту посадить, но, узнав, в чем дело, поздравил молодого отца и крепко пожал руку и только Дронова предупредил, что больше выходки его терпеть не намерен! Господи, как будто вчера было!
И как Анечка успокаивалась только у него на руках, а Травиата ревновала и сердилась, и как он укачивал ее (Аню, конечно, хотя засыпала как раз Травушка), и пел свои любимые песни и романсы, и мама твоя запрещала петь «В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик», потому что не надо ребенка пугать и есть ведь нормальные колыбельные, из кинофильма «Цирк», например. Ну зачем из «Цирка»? Лучше Моцарта (хотя, говорят, это и не Моцарт вовсе) — «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни…» Или в окнах?
Но ты, радость моя, не спала и не собиралась даже, и таращила свои черные смородины, и смешно так кривила ротик, да улыбалась же! ну правда, Травушка, улыбалась! — Ну не выдумывай, Вася, они в этом возрасте еще не умеют. — Они, может, и не умеют, а моя дочь мне улыбнулась!
А когда мама засыпала, папа-таки пел про встающего из гроба императора и про то, что легко на сердце стало, забот как не бывало, и бездельник, кто с нами не пьет, и про то, как
При луне шумят уныло
Листья в поздний час,
И никто, о друг мой милый,
Не услышит нас.
Привычная и намотавшаяся за день Травиата действительно ничего не слышала и сладко сопела, а вот злобная тетка Богдана стучала в стенку и по утрам выговаривала отправляющемуся на службу сонному Васе, прозрачно намекая на то, что польские офицеры были не в пример лучше воспитаны и не орали и не выли по ночам.
А знаете, где спала первый месяц Анечка?
В корыте!
В обыкновенном цинковом корыте! И ничего страшного.
Тогда вообще ничего страшного не было и быть не могло.
Ох, Василий Иваныч, Василий Иваныч, ведь неглупый, вроде бы, человек и не лживый, и уж точно не подлый, а такую порете, извините, херню, или, как вы деликатно выражаетесь, херомантию.
Ну да сейчас не о том речь.
Сейчас речь пойдет о книгах.
Анечка ведь принадлежала к последнему поколению (ну может, предпоследнему), которое воспитано было не столько семьей и школой, сколько изящной словесностью, и для юных представителей которого было в порядке вещей ночь напролет втайне от взрослых задыхаться и потеть, укрывшись с головой одеялом и освещая потрепанные библиотечные страницы карманным фонариком, чтобы поскорее узнать, как же выкрутится Морис-мустангер из коварной западни, или что станется с Реми, собачками и обезьянкой после смерти синьора Виталиса, или кто же такой этот таинственный, могучий и немного смешной Черный рыцарь.
Да-да, родителям тогда приходилось следить, чтобы дочки-сыночки хоть на время еды и сна отрывались от книжек, и выражение «читать запоем» предельно точно описывало то наркотическое состояние, в котором пребывали тогдашние мальчики и девочки.
И нисколько я не преувеличиваю.
Да, конечно, не все советские ребята были такими вот оголтелыми книгочеями, но процентов сорок как минимум. А то и все пятьдесят.
Среди детей промышленного пролетариата и колхозного крестьянства доля тех, кому рано понравившиеся романы заменяли почти что все, была, наверное, поменьше, в семьях трудовой интеллигенции, конечно же, намного больше, а вот из отпрысков офицеров, генералов и сверхсрочников влюблялась в обманы и Дюма-отца, и Фенимора Купера, и всей «Библиотеки приключений» приблизительно половина, во всяком случае, если судить по тем гарнизонным школам, где я сам учился.
И то сказать — кино раз в неделю, от телевизора родители отгоняют, да и не очень-то он и интересный, да и не везде и не у всех он есть, ну поиграешь на улице, полазаешь по чердакам и подвалам, погоняешь мяч на пустыре, «постражаешься» деревянным мечом («Крест! Могила! Богатырская сила!»), половишь головастиков и тритонов в непросыхающей луже за школой, но ведь вечером все равно домой загонят. Вот и читали.
Думаю, если бы у меня в мои двенадцать лет была возможность смотреть, скажем, «Звездные войны» или «Индиану Джонс», или даже эти невыносимые «Приключения Электроника», ни о каком «Айвенго» не было бы и речи, и вы бы вряд ли сейчас читали этот, пока еще самому мне не ясный и сомнительный, роман.
А что уж толковать о выборе между Вальтером Скоттом и прекрасным новым миром компьютерных игр!
Не осталось тут, братцы мои, никакого выбора…
Ну а отрочество Анечки, то есть шестой, седьмой и восьмой класс, прошло в местах, где никакого телевидения тогда вообще не было и быть не могло, да к тому же и шастанье по улицам и игры на свежем воздухе были очень часто невозможны и даже запрещены и опасны.
Потому что служил тогда Василий Иванович за Полярным кругом, у самого моря Лаптевых, в военном поселке Тикси-3.
И когда случалась пурга, а случалась она нередко, занятия в школе отменялись, и на улицу детей пускать было не велено.
Звезда полковой самодеятельности, дебелая жена капитана Рукшина, переделав популярную песню «Морзянка», пела со сцены клуба части: «Четвертый день пурга качается над Тикси-3 (вместо «над Диксоном»)! Но только ты об этом лучше песню расспроси!».
И бурные и продолжительные аплодисменты слушателей свидетельствовали не только о вокальном таланте исполнительницы и искусстве ее аккомпаниатора, ефрейтора Москаленко, замечательно имитирующего писк морзянки на баяне, но и о волнующей реалистичности и актуальности самого произведения (музыка М. Фрадкина, слова М. Пляцковского).
И по утрам Анечка не спешила вставать, невзирая на неоднократный призыв мамы: «Ну-ка, рала вера! Рала вера!» (это «вставай!» по-осетински, так Травиата смешила дочку, копируя нальчикскую бабушку). Но Аня все медлила, надеясь, что вот сейчас по гарнизонному радио объявят об отмене занятий в связи с метеоусловиями.
И как же она ярилась, когда погода была недостаточно суровой и дома оставались только учащиеся младших классов, то есть Степка, который противно и бестактно кричал: «Ура!».
Но это было уже в последний год их тиксинской жизни, первые два бестолкового братца с ними не было.
А иногда снежная буря разыгрывалась прямо во время уроков, и из школы тогда никого не выпускали, из каждой воинской части присылали за детьми вездеходы и развозили по домам. Что за вездеходы? Ой, не знаю я, как они точно называются — такие на гусеницах, похожие на БТР.
Мальчишки, естественно, пытались прорваться через кордон дежурных старшеклассников и уйти пешком, но это удавалось редко. И слава Богу! Потому что все эти предосторожности не были обычной советской перестраховкой, пурга действительно бывала опасной и по-настоящему страшной и злобной, как похитительница Кая и соперница Герды. Василия Ивановича однажды порыв снежного ветра так шарахнул об стену штаба, что синяк был на пол-лица целый месяц!
Ну понятно, дурак Пилипенко не упустил возможности пошутить:
— Сильный, но легкий!
Но и без всякой пурги, что, собственно, делать в темноте полярной ночи и на свирепом морозе быстро взрослеющей барышне?
Ну не кататься же с визжащей малышней с огромной, собранной бульдозером снежной горы? Метров десять, ей-богу! И заливалась водой, так что катались без всяких санок, кто на чем, на картонках каких-то, некоторые просто на брюхе!
Можно было бы проводить время на катке, там-то выпендривались и старшеклассники, и даже молодые офицеры, но с коньками у Анечки что-то не заладилось, кататься-то она умела, но никаким фигурным выкрутасам, которыми хвастались многие ее сверстницы, так и не научилась.
А быть на вторых ролях набалованная дочка Василия Ивановича не привыкла и привыкать была не намерена.
И вообще спорт и физкультура по мере полового созревания уходили, к сожалению, из ее жизни навсегда.
Вот танцы — дело другое, на школьных вечерах, которые в тиксинской школе устраивались гораздо чаще, чем на материке, и куда допускались даже шестиклашки, очевидно, чтобы компенсировать школьникам тяготы полярной зимы, она уже с седьмого класса была признанной (одними с восторгом, другими скрепя сердце) королевой бала.
Хоть вальс, хоть фокстрот, хоть твист, хоть новомодный, завезенный солдатиками-москвичами шейк!
Да — чарльстон еще!
И кретинская, но веселая и коллективная летка-енка.
Дело, впрочем, было, я думаю, не в какой-то особенной хореографической одаренности ученицы Бочажок, а в ее черных очах, хотя еще не жгучих и не страстных, но уже прекрасных и томительных. И, может быть, в еще большей степени, в тех потрясающе модных и красивых нарядах, которые шила по выкройкам таллинского журнала «Силуэт» искусница Травиата.
Многие завистницы даже не верили, что эти платья и блузки самодельные, настолько профессионально и аккуратно был выполнен каждый шовчик. Подозревали блат в Военторге, а некоторые даже намекали на черный рынок, мол, кавказцы все спекулянты, потому и ходят во всем импортном.
Однако и эти упоительные вечера случались все-таки не каждый день, поэтому времени читать у Анечки оставалось хоть отбавляй, тем более что училась она легко и как-то по инерции хорошо, даже отлично, домашние задания делала быстро (или, злоупотребляя своей репутацией, не делала вовсе).
И так же быстро, но с неизмеримо большим вниманием и волнением поглощала Анечка художественную литературу, и стало для нее внеклассное чтение занятием важнейшим и любимейшим.
Домашняя библиотека Бочажков в то время была скромной и случайной — два подписных, еще неполных собрания сочинений — Горького и Тургенева, двухтомник Маяковского, «Происхождение семьи, частной собственности и государства», три книги из «Библиотеки пионера», «Библия для верующих и неверующих», «Война и мир» почему-то без первого тома, «Семья Тибо», «Иду на грозу», альбом «Эрмитаж», два тома Домашней энциклопедии, осетинские народные сказки, томики Коста Хетагурова, Виссариона Саянова и Константина Симонова, басни Михалкова, ну и всякая специальная литература — военная и техническая для Василия Ивановича и педагогическая и естественнонаучная для мамы.
Была еще целая груда детских, растрепанных и разрисованных цветными карандашами книжек, но из них даже Степка уже давно вырос.
Заметим кстати, что фонотека Василия Ивановича к тому времени насчитывала уже больше двух сотен пластинок и подобрана была любовно и с толком. В ней были даже и зарубежные диски — присланные из ГДР бывшим сослуживцем песни Шуберта и Брамса.
Ну а Анечка добывать духовную пищу должна была самостоятельно, благо в ее распоряжении было аж три библиотеки — школьная, полковая и Дома офицеров.
Последнее из этих книгохранилищ было самым большим и богатым, но не самым любимым. Потому что там работала очень строгая и неприветливая библиотекарша, довольно часто и с удовольствием отказывавшая Ане, говоря, что это ей еще рано, причем ладно бы речь шла о каком-нибудь Мопассане или Золя или даже Бальзаке, а то ведь «Отверженных» и тех не дала. Да когда ж их и читать-то, если не в шестом классе?!
Анечка и прочитала, но для этого пришлось Травиате Захаровне самой пойти и записаться в эту библиотеку.
Ну а о том, чтобы пустить девчонку саму рыться на книжных полках Дома офицеров, и речи быть не могло. А ведь это, может быть, главное библиотечное наслаждение!
Зато в библиотеке при клубе папиной части Анечка была, как вы сами понимаете, не то что желанной гостьей, а чуть ли не хозяйкой.
И школьная библиотекарша ее тоже баловала и разрешала самой искать интересные книжки, потому что, в отличие от грымзы из Дома офицеров, эта тетенька не раздражалась, а, наоборот, умилялась тем, что Аня не только хорошенькая, как куколка, но еще и не по годам умненькая.
Умненькая!
Вот мы и видим, какая она вышла умненькая!
Сидит, уткнувшись лбом в ледяное стекло, молчит.
Да и все в машине молчат.
Степка уже забыл обо всем, безнаказанно шмыгает носом, смотрит на бескрайнее белое озеро с редкими черными точечками рыбаков и думает, как и из чего сделать санки под парусом, как в «Клубе кинопутешествий», и носиться по Вуснежу, главное — парус, вот если стырить, скажем, простыню или пододеяльник, заметит отец или нет?
Водитель Григоров, мечтающий об отпуске и поэтому всячески подлизывающийся, думает о том, стоит ли предложить включить радио и поймать какую-нибудь классику, но, искоса взглянув на Василия Иваныча, понимает, что не стоит, ну его на хрен.
Ну а генерал и его дочь думают о приближающемся со скоростью шестьдесят километров в час выяснении отношений.
И обоим хочется, чтобы эта дорога никогда не кончалась, чтобы не надо было ничего говорить и даже думать, чтоб вот так и тянулся бы справа заснеженный ельник, а слева вращалось и вращалось бы вокруг своей далекой оси озеро.
Но генерал это желание вскоре подавляет и стряхивает как малодушное и стыдное и начинает себя накручивать и наядривать для предстоящего крупного разговора, а Анечка внезапно чувствует, что ее сейчас вырвет.
Ну а ты как хотела, матушка? Токсикоз.
— Остановите, пожалуйста, — обращается Аня к Григорову, тот недоуменно и нерешительно смотрит на генерала.
— Да приехали уже почти, — говорит, не оборачиваясь, Василий Иванович.
— Останови!! — неожиданно визжит Анечка, испуганный сержант жмет на тормоза, «Волгу» заносит, а будущая мама, не дождавшись, уже распахивает дверь.
— Ты что, взбесилась?! — ревет генерал и видит, как его доченька, высунувшись из машины, содрогается и надрывно блюет.
Папа отворачивается и зажмуривается от боли и жалости.
Ужас.
Нет, правда, ужас.
Потому что вот тут-то и понимает генерал, осознает со всеми вытекающими последствиями, что он теперь абсолютно, окончательно бессилен! Что ничего он уже не поделает, ничто не прекратит и не запретит, и ничему и ничем он уже не сможет помочь!
— Ну ты как?
— Все уже… Ничего, нормально… Прости… Простите (это уже сержанту, тот глупо улыбается и кивает).
— На, возьми, — отец протягивает носовой платок, Аня утирается.
— Может, еще подышишь?
— Нет, поедем… Холодно…
— Поехали, сержант. Только давай аккуратно…
Внимательный читатель или, как в «Что делать», — проницательный радостно возопит:
— Вот так автор! Ну и халтура! Платок-то остался у Степки! Двух глав не написал, а уже запутался!
Но я, как Николай Гаврилович Чернышевский, над ним восторжествую: нисколько не запутался. Просто у моего героя всегда с собой два носовых платка! Да, такая вот странная привычка. Зачем два? Потому что один для дамы! Ну и на всякий пожарный. Откуда такие смешные изысканности и галантности при нашей бедности? Да от Леньки Дронова, который был для молодого Бочажка непререкаемый арбитр изящества и блюститель настоящих офицерских манер. Да генерал и сам на всякой гигиене и чистоплотности был просто помешан, что долгие годы отравляло жизнь многим и многим офицерам тыловой службы и единственному сыну тоже. Ну? Есть еще вопросы?
И вот они едут дальше, все так же молча и тихо, Григоров ведет машину осторожно, медленно и печально, как сказал бы подполковник Пилипенко.
Ну а что ж генерал — ничего больше не мурлыкает и не мычит? (Жалко все же, что в русском нет аналога глаголу to hum, приходится использовать какие-то зоологические и неточные слова).
Нет, не мурлычет.
Но в душе у него звучит-надрывается трагическая партия другого оперного отца, злосчастного Риголетто:
Куртизаны, исчадье порока,
За позор мой вы много ли взяли?
Вы погрязли в разврате глубоко.
Не продам я честь дочери моей!
Безоружный, я боязни не знаю —
Зверем вам кровожадным явлюся!
Дочь мою я теперь защищаю!
За нее жизнь готов я отдать!
Господи, Василий Иваныч, какие куртизаны?
Куртизанки мужского рода, что ли? Такого и слова-то нет в русском языке.
Слова, может, и нет, а вот самих куртизанов полным-полно! Уж генерал-то знает, кто это такие — вон они мятутся перед его воспаленным внутренним взором — мерзкие, наглые, кривляющиеся, все эти стиляги и живаги, патлатые жуки в мерзких жабо и литературные власовцы и солженицеры, вон они сосут свои разноцветные коктейли из трубочек и пляшут, пляшут в круге бесконечном, извиваются похабно со своими порнографическими тунеядками, дергаются под вой саксофонов, под пронзительный визг рогатых электрогитар и людоедский грохот барабанов, окружая пьедестал, на котором высится она, окаянная полумонахиня полублудница, разоблаченная, но не обезвреженная товарищем Ждановым.
Et Satan conduit le bal!
Что в переводе означает — Сатана там правит бал!
И слышит Василий Иваныч, как эта Сатана в юбке (узкой-узкой, чтоб казаться еще стройней и бесстыжей) и в окаменевшей ложноклассической шали и с красным розаном в инфернальных волосах хохочет, как Фантомас, и говорит, измываясь надо всем, что есть святого в нашей жизни, над всем, что нам дорого:
Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!
И в смятении генерал думает: «Да это же никакая не Ахматова!».
Так точно, товарищ генерал!
Никакая не Ахматова!
Это — Корней Иванович. Вы же сами Анечке читали.
А с Ахматовой этой вы совсем уже сбрендили.
При чем тут, спрашивается, она?
Нет, я с нее вины не снимаю, но все-таки, Василий Иванович?
Ну не беременеют барышни от мертвых поэтесс! Понимаете?
Даже от бессмертных.
Очувствуйтесь уже, придите в себя!
Что за херомантия, в конце концов?!
Не время дурака валять и бредить —
Час мужества пробил на наших часах!
ГЛАВА 3
Вот здесь и поживем.
С. Гандлевский
Приехали.
Два солдатика, увидев черную «Волгу», как ошпаренные, выскочили из КПП (один даже в панике поскользнулся и шлепнулся во весь рост, потеряв шапку и вызвав неуместный Степкин смех, пропущенный Василием Ивановичем мимо ушей без надлежащего выговора) и, суетясь, открыли железные ворота с большими приваренными красными звездами на каждой створке, и дорога пошла довольно круто вверх.
«Не могут сами сообразить песком посыпать, ни уха ни рыла не соображают. Бардак. Пока не скажешь, так и будут… Лишь бы ничего не делать…» — автоматически, без всякого энтузиазма ворчал про себя генерал.
Анечка тупо глядела на знакомые пятиэтажки из силикатного кирпича, на строящуюся крупноблочную башню с подъемным краном, на замусоленные фигурки стройбатовцев у бетономешалки, на свою школу, на щит с надписью «Пусть всегда будет солнце!» на трансформаторной будке, на Дом офицеров и еще непривычный, новенький Дом быта с магазином самообслуживания, на крыльце которого торчали умственно отсталый грузчик по кличке Гапон и местный алкаш Фрюлин. А вот и статуя Ленина с кепкой в руке и снежной тюбетейкой на голове и детская площадка с черными прутьями кустов и железной каруселью, которую тихо вращал ветер с озера, как будто какие-то невидимые и печальные призраки дошколят проводили здесь свой загробный досуг.
Солнце давно уже скрылось, все было серым-серо, неприютно и неприкаянно, и до генеральской дочки наконец дошло, что ее столичная жизнь миновала безвозвратно.
Хотя чего уж такого она забыла в этой Москве и в этой гребаной общаге?
«Волга» остановилась у самого крайнего и самого высокого (двенадцать этажей!) дома, который так и назывался — «генеральский», хотя генерал там жил всего один, а вот полковников три, а все остальные обитатели — подполковники и майоры, даже капитаны. Ну и члены их семей, естественно.
Григоров взялся было за чемодан, но Василий Иванович угрюмо сказал:
— Не надо! — и указал сыну: — Давай тащи, чего встал?
Степка подхватил сумку и действительно тяжеленный чемодан и на полусогнутых посеменил к дому. На скамейке, как всегда, сидела старуха Маркелова.
— С приездом!
Генерал что-то буркнул, Анечка сказала:
— Спасибо. Здравствуйте.
И они вошли в подъезд.
Лифта долго не было.
— Этот балбес опять дверь не закрыл! — сказал генерал, все еще не глядя на дочь. Та молчала.
Нет, дверь Степка на сей раз закрыл, поэтому лифт все-таки приехал и привез всю семью Юдиных с истеричным пекинесом.
— Здравия желаю! Здравствуйте! Ой, Анечка! С приездом! Ой, а Бимка-то узнал, как радуется!
Да провалитесь вы пропадом, идите, идите уже, нечего тут разглядывать!
До шестого этажа лифт поднимался ужасно долго, приблизительно час, а то и три, а может, и целые сутки.
Анечка смотрела на свое тошнотворное отражение в зеркале, генерал уставился в какие-то мрачные дали, разверзающиеся, видимо, за дверью.
Ну не в лифте же, действительно, начинать следствие по особо важному делу?!
Василий Иванович пропустил дочь и загремел ключами.
— Пап, дверь, — сказала Анечка. Генерал повернулся, сдержал яростное желание хлопнуть этой дурацкой дверью изо всех оставшихся сил и прошипел:
— Смешно, да?
Но Анечка и не думала смеяться.
Хотя вообще-то, конечно же, смешно.
Жалко, Степка не видел.
Вошли.
Дверь в гостиную была открыта, и оба сразу же увидели накрытый стол с белой скатертью и вазой с красными яблоками и бутылкой шампанского и хрустальным водочным графином.
И тут же раздался звонок. Генерал открыл дверь.
На пороге стояла Лариса Сергеевна с противнем, накрытым полотенцем. Сзади выглядывало очкастое, улыбающееся и глупое лицо Корниенко, который крикнул:
— А вот и мы! А где наша красавица?
Бог ты мой! Василий Иваныч и забыл, что соседи тоже должны были участвовать в торжественной встрече этой бесстыдницы.
— Простите… Давайте потом… — генерал начал оттеснять недоумевающих супругов. — Потом… Аня себя плохо чувствует… устала… перелет все-таки… Простите… давайте отложим…
— А пирог? — обиженно спросила Лариса Сергеевна.
— Не надо… потом… — генерал уже открыто и нетерпеливо выталкивал соседей, которые, кажется, так и не разглядели, почему Анечка чувствует себя настолько плохо.
Дверь закрылась. Заиграл магнитофон.
— А ну вырубай к черту своих жуков! — крикнул генерал, и томный голос Пола Маккартни, уламывающего belle Michelle, сменился тишиной.
Аня прошла в свою комнату. Да, отныне это будет снова ее комната, братца придется выселять.
А генерал все стоял, не снимая шинели, в прихожей.
— Ну хватит! — сказал он сам себе. — Чего ждешь?
Но Анечка первая собралась с силами.
Решительными шагами, насколько это возможно с таким пузом, она вышла из комнаты и, глядя прямо в лицо страшному папе, заговорила, как по писаному и заученному наизусть:
— Давай договоримся раз и навсегда — кто отец ребенка, тебя не касается, я с ним рассталась и больше общаться не намерена. Подожди. Если ты согласен меня принять — хорошо, спасибо, а если нет, я… Подожди!! Я уеду. Решать тебе. Подожди же ты!! Я понимаю, что ты чувствуешь, но уже ничего не поделаешь. Постарайся понять. Извиняться я не буду — не за что! Это моя жизнь и мое решение!
Генерал стоял, выпучив глаза на это обнаглевшее вконец существо (на самом деле на два существа, Василий Иваныч!), не верил своим ушам и не доверял своему мозгу, где шарики с шумом закатывались за ролики, и все порывался что-то сказать, но, что именно, и сам не знал.
— Нет, ты мне скажи… Гляди-ка!.. Мое решение!.. Ишь!.. Что значит, меня не касается? Что значит…
— Не надо, папа. Я все сказала. Прости, я устала…
— Устала она! А я, значит…
Но Анечка развернулась и скрылась в свою комнату, где Степка как ни в чем не бывало возился с порванной магнитофонной лентой, и закрыла за собой дверь.
Генерал постоял в одиночестве и попыхтел.
Потом, помотавши обалдевшей головой, прошел к столу, налил рюмку золотистой «Старки», подержал ее, но пить раздумал.
Это что же — всё? Ну нет, дорогуша, так не пойдет! Давай-ка, доченька, поговорим серьезно!
Из двери детской вышел Степка, неся магнитофон со стопкой бобин, как Лариса Сергеевна противень.
— Ты чего тут?
— Анька сказала, что я теперь тут буду спать.
— Анька сказала! О как! Какая командирша нашлась!
Степка дипломатично промолчал.
А генерал ворвался к Анечке.
Дочь сидела на диване, откинувшись и закрыв глаза. При появлении отца она их открыла и устремила на него такой взгляд, что, будь генерал в более адекватном расположении духа, не стал бы он сейчас к Анечке приставать.
— Не-ет, дорогая моя! Так дело не пойдет!
— Пап, уйди, пожалуйста…
— Нет, погоди, давай поговорим… Я отец!.. в конце концов!.. я имею право… я… должен знать… Ты давай не очень!
— Пап, давай потом.
— Нет, давай сейчас! Давай сейчас!.. Что молчишь?.. Я тебя спрашиваю!.. Я с тобой по-человечески хочу, а ты!.. Анна!!. Совесть есть у тебя?!.
— Папа, я прошу тебя…
— Просит она!.. Теперь вот просишь… Опозорила, как… Хорошо, хоть мать не дожила…
— Уйди! Уйди! Уйди! — завопила нежданно и невыносимо Анечка и заколотила по дивану ладошками: — Ну я прошу тебя — уйди!! — и уже рыдая: — Мне переодеться надо.
Генерал попятился и так и вышел задом, не отрывая глаз от рук дочери, скрывших ее подурневшее, жалкое, ненаглядное лицо.
«Всем скажем, что вышла замуж и приехала рожать. Поверят, не поверят — плевать. Путь только вякнут!»
Он выпил, налил еще, выпил и куснул яркое, но какое-то безвкусное яблоко.
Да в чем, собственно, дело?
Что за трагедия такая?
С чего это советский генерал-майор, да еще и войск противокосмической обороны, так разнюнился?
Ну залетела дочь, бывает. Спору нет, нехорошо, но что тут такого уж кошмарного и позорного? Чего убиваться-то? Жилплощадь позволяет, с материальным благополучием тоже все, вроде, в порядке. Двадцатый век на дворе. А тут какие-то средневековые и деревенские дикости и предрассудки.
Ну так Василий Иванович и был по происхождению деревенским, а по воззрениям своим, как мы потом постараемся показать, самым что ни на есть средневековым.
Да и чем, по большому счету, военный городок от деревни отличается?
Народу немного, все про всех всё знают. Начальство тем более на виду. Об отцах-командирах да об их женах и детках посплетничать — самое милое дело!
Такого насочиняют…
Вон про первого полкового командира и про его несчастную Серафиму Андреевну чего только не рассказывали — и что сам он всю войну на «ташкентском фронте» жировал (и это несмотря на боевые награды и шрам через все лицо) и что полковника-то он получил только за то, что женился на подстилке какого-то важного армейского чина и поэтому пьет запоями и бьет жену, как сидорову козу! А командир ведь был практически непьющий, а уж какой маршал польстился бы на его тощую долгоносую жену, вообразить было невозможно. Но воображали и живописали — со всякими безобразными подробностями.
А про Травиату сколько всего навыдумывали гадкого? Убил бы!
Ну а тут и фантазировать не надо — девка жесточайшим образом беременна.
Ужасно хотелось выть.
Василий Иваныч стоял, перекатываясь с каблуков на носки так и не снятых ботинок, курил и глядел в окно.
Солнце опять вышло из-за туч, вернее, опустилось ниже их волнистого края, но теперь оно было уже оранжевым и с каждой минутой все больше краснело, приближаясь к темной полоске далекого противоположного берега, где уже загорались редкие огоньки.
А у своего окна так же, не зажигая света, стояла Анечка, смотрела, как зажигаются фонари и разноцветные окна, как в синем сумраке к Дому офицеров собираются черные человечки — в кино, наверное, а может, на танцы, сегодня же суббота, как из трубы котельной идет белый, нет, в свете не видной отсюда луны голубой толстый дым. А там, выше и правее, какая-то крупная и яркая звезда… А ведь пятерка была по астрономии в десятом классе.
И тут во чреве ее шевельнулся сын.
А Василий Иванович отрезал толстенный ломоть хлеба, наложил сверху ветчины и сыра, плеснул грамм сто пятьдесят в фужер для шампанского и ушел к себе.
Надо было все спокойно, без нервов обдумать. С этой психической говорить нечего. Надо самому.
Генерал сел за стол, на котором стоял гипсовый бюстик Чайковского, фотография покойной жены и дюралевый макет истребителя, подаренный на прощанье тиксинскими летчиками, надел наушники армейского образца (он завел их давным-давно, когда с огорчением убедился, что ни жена, ни дети не разделяют его музыкальных пристрастий) и поставил одну из своих самых любимых и ценных пластинок — «Зимний путь» в исполнении Дитриха Фишер-Дискау.
Вот интересно, что бы сказал Бочажок, узнав, что этот обожаемый им волшебный баритон был в свое время самым настоящим немецко-фашистским агрессором, и даже первое его выступление состоялось в американском плену? И пел он там тоже, кстати, Шуберта.
Да и потом, кажется, предпочел, вражина, гэдээровской народной демократии неонацистскую и реваншистскую ФРГ!
Но и без этого компромата жалобы коченеющего странника на неверную возлюбленную и взывания к ворону и старому шарманщику сегодня совсем не умиротворяли, а, напротив, еще больше растравляли душу. Warum? Warum?
«Господи, эта дура ведь с утра ничего не ела… И что мне теперь, идти ее уговаривать?! Поешь, деточка! За па-апочку! За ма-амочку!»
И генерал все-таки тихонько взвыл, как от зубной боли.
Постучал и просунул голову Степка.
— Пап, ты в наушниках. Можно я тихонечко магнитофон включу?
— Валяй… Нет, стой!
Степка, успевший обрадоваться и снова приуныть, повторил:
— Тихонечко!
— Слушай. Давай-ка перебирайся сюда. Здесь будешь… как ты там говоришь — кайфовать! Пластинки тронешь — шею сверну!
Сын изумился и забыл поблагодарить.
— А картинки можно приклеить?
— Не наглей. Твоих волосатиков тут не хватало. Всё. Шагом марш. Нет, постой… Я сейчас пойду прогуляюсь, а ты давай сестру покорми…
— Как это?
— Из ложечки! Иди, не зли меня.
На улице было уже совсем темно и холодно.
У дома майор Юдин, держа на руках свою визжащую и вертящуюся собачонку, ругался с владельцем громогласно лающей и рвущейся с поводка черной овчарки:
— Намордник надо надевать!
— Да ваш сам лезет все время!
При виде генерала все, кроме пекинеса, замолчали.
Юдин глупо спросил:
— На прогулку, товарищ генерал?
— Нет, на …ки! — захотелось ответить, но Василий Иванович, конечно, сдержался и просто промычал:
— Угу.
Он ведь вообще не матерился. Только про себя. И то нечасто.
Да и что на людей-то бросаться. Юдин, что ли, виноват?
Издалека доносилось неясное и нестройное пение рот, вышедших на вечернюю прогулку.
Пели в основном ненавистную «Не плачь, девчонка». Фирменную пэвэошную песню «Нам по велению страны ключи от неба вручены» исполняла исключительно рота обслуживания, которой вручены были только разводные сантехнические ключи. Со строевыми песнями вообще была беда — или совсем тупые и некрасивые, или бойцы так переврут мелодию, что взыскательные уши Василия Ивановича вяли, как хризантемы в саду.
Увидев шедшую навстречу парочку, генерал свернул с освещенной дорожки вниз, к озеру. Не хотелось видеть людей.
Здесь, как ни странно, было намного светлее — от снега, берез и надкушенной с правого бока луны. Светлее, тише и лучше. Генерал вступил на темнеющую тропинку и тут же — но все-таки поздно! — вспомнил о непосыпанной песком территории КПП!
— Ой! О-ей! О-о! О! О-о-о-о-о! — кричал Бочажок и несся, выделывая какие-то немыслимые телодвижения и рассыпая беломорские искры, по раскатанной мальчишками ледяной трассе.
И не падал ведь! Только папаху потерял.
Но этот Winterreise оказался все же гораздо короче шубертовского, и финал его был предрешен. В самом низу располагался устроенный юными физкультурниками трамплин.
Генерал взлетел, увидел свои раскоряченные на фоне фиолетового неба ноги, на миг завис в воздухе и сверзился — сначала спиной, а потом и (довольно чувствительно) затылком — на поверхность земли.
И покатился дальше — до самого конца.
Полежал, пожевал и выплюнул погасшую папиросу, и расхохотался, вспомнив, как Травиата пошутила, когда необъятная Жанна Петровна вот так же грохнулась, но не на лед, а в осеннюю жидкую грязь, забрызгав все в диаметре трех метров, а Травиата так тихо: «А город подумал, ученья идут!». Сама, главное, не смеется, а с Бочажком натуральная истерика, он Жанну подымает, а сам от смеха обессилел и опять ее уронил.
Не разговаривала потом с ними полгода.
Вот и сейчас, видимо, истерика. Хохочет и хохочет, не может перестать. Так и лежал, смеясь прямо в лицо не обращающей на него никакого внимания луны, которая была удивительно похожа на товарный знак неведомой еще никому компании Apple.
— Э, мужик, ты чо? Вставай, замерзнешь на хер… Вот же, …, нажираются!.. Ну, давай, давай!.. Ой!.. Простите… Вам помочь, товарищ генерал?
ГЛАВА 4
Скатившись с горной высоты,
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый…
О Дружба, это ты!
В. Жуковский
А воскресенье началось со звонков в дверь — нетерпеливых, долгих и ранних даже для Василия Ивановича.
Выскочив из-под душа и торопливо, под нескончаемые электрические трели, натянув на мокрое тело треники и майку, генерал открыл дверь, готовый узнать о каком-нибудь ЧП, но на пороге увидел не посыльного из штаба с грозными вестями, а Машку Штоколову.
— Здрассте. А Аня дома?
— Господи! Очумели вы все? Какая тебе Аня? Семи часов нет!
— Да я вот думаю, заскочу перед работой.
— Какая работа? Воскресенье!
— Ой, да мы ж в выходные работаем! Можно к Ане?
— Ну ты, как танк!.. Щас спрошу.
Генерал постучал и громко, но старательно бесстрастно произнес:
— Анна, к тебе.
Из-за двери раздался сонный голос:
— А кто это?
— Машка.
— Ну пусть заходит, — без особой радости сказала Анечка.
— Ну иди. Принчипесса изволит…
Но Машка не дослушала и ринулась, чуть не сбив генерала, к своей долгожданной подружке.
— Анька!!. Ой, Ань… Ой!
— Вот тебе и ой! — мрачно усмехнулся генерал и ушел, чтобы не подслушивать, к себе, то есть теперь, получается, к Степке.
— Чо валяешься, деятель? Подъем!
— Ну воскресенье же, — проныл из-под одеяла трудный подросток.
— И чо? Вон люди уже работают вовсю.
— Какие люди?
— Хорошие… Хочешь, сегодня на лыжах пойдем?
Молчание. Степкина несуразная голова появляется из-под одеяла. Непродранные глаза смотрят испуганно.
— Пап, седня никак… У нас репетиция… И уроки еще…
— Репетиция! Одна палка два струна…
Ну, струны, положим, четыре, Степка был басистом, но играл он, действительно, чудовищно, а петь ему, к счастью, в ансамбле «Альтаир» не позволяли старшие товарищи. Хотя они и сами-то были теми еще виртуозами — барре брали нечисто, шестая струна вообще не звучала, вместо Em7 играли просто Em, а о существовании Gm6,, а тем более Fsus4, даже не догадывались. Так что можете себе представить, что у них за Yesterday получалось.
И репетиции, кстати, сегодня никакой нет, все он врет, лишь бы только остаться еще немного в теплой постели, и не натирать эти чертовы лыжи чертовой мазью, и не предаваться бегу, и не слышать, скользя по утреннему снегу, за своей спиной бодрого и насмешливого окрика: «Лыжню!». А потом откуда-то из морозной дали: «Ну где ты там? Поднажми!». Очень надо.
Генерал идет на кухню, ставит чайник, смотрит в окно. Погода какая-то невразумительная, снег то ли идет, то ли нет, какая-то мельчайшая ледяная хрень наполняет воздух, и солнце сквозь это марево, вроде, и яркое, но бледное-бледное, практически белое.
На самом деле и ему вставать на лыжи не очень-то и хотелось.
Генерал подходит к двери, из-за которой слышится гудение девичьих голосов (к изумлению угрюмого отца, довольно веселое), прокашливается и зовет:
— Маша!
— Что, Василь Иваныч?
— Вы что будете — омлет или глазунью?
— Ой, Василь Иваныч, да я завтракала.
«Вот дура! Завтракала она! Можно подумать, я тебя накормить стараюсь!» — мысленно сердится генерал, но вслух говорит с фальшивым добродушием:
— Ничего-ничего. Завтрак съешь сам, ужин отдай врагу… Ну так что?
За дверью зашептались.
— Глазунью. А можно, мы здесь поедим?
— Можно.
— Помочь вам?
— Да сиди уж. Помощница… Степан, а ну подъем, в конце концов!.. Сонное царство.
«А ведь ей теперь, небось, особое какое-нибудь питание нужно», — с тоскливой тревогой размышлял генерал, заваривая не всем доступный индийский чай. Сами они со Степкой обедали в офицерском кафе, а ужинали вообще чем попало, обычно колбасой какой-нибудь. Ну или сардельками. Надо у соседа спросить, все-таки врач.
Ага, только ты сначала пойди, извинись перед ними за вчерашнее, наври с три короба, напомнил себе генерал. Да извиниться-то нетрудно, да и соврать с благой целью не так уж зазорно. Но вообще… Бардак какой-то начинается. Кристально ясная и твердая жизнь Бочажков расплывалась в какую-то мутную, вязкую и тягостную херомантию.
Генерал прямо физически ощущал, как все разлаживается, расхлябывается и разбалтывается.
— Маша! Готово! — сердито закричал Василий Иваныч. И сразу же, спохватившись, повторил помягче: — Готово, Маш! Забирай иди.
Машка протопала на кухню.
— Вот ведь слон! — хмыкнул про себя генерал.
И действительно — Анина лучшая подруга была очень большая, нет, не толстая, а какая-то по всем статьям преувеличенная и чрезмерная.
Помните, как Ахматова, не тем будь помянута, обсуждала с Лидией Чуковской внешность блоковской жены: «Когда-то мне Анна Андреевна говорила, что у Любови Дмитриевны была широкая спина. Я напомнила ей об этом. Ответ был мгновенный. Две спины, — сказала она».
Вот и у Маши Штоколовой всего было ну если и не два, то полтора — и роста, и веса, и объема, и громкости и, видимо, температуры — такая она всегда была раскрасневшаяся, запыхавшаяся и по какому-нибудь ерундовому поводу горячащаяся и пламенеющая.
В школе ее все, кроме Ани, звали Большой Бертой — в честь знаменитой немецкой пушки.
В новенькую Бочажок, явившуюся в 9-й А после летних каникул, Маша влюбилась без памяти с первого взгляда, но, как советует частушка, не подумайте плохого! Теперь-то, наверное, такая вот девчоночья дружба-влюбленность уже и невозможна — нынешние отроковицы стоят в просвещении наравне с нашим удивительным веком, так что объект обожания сразу почует неладное и насторожится, да и субъект, возможно, тут же заподозрит сама себя в сафической одержимости.
Не мастер и не любитель рыться в подсознательном и бессознательном, я могу сказать только, что любовь Машки была бескорыстная, восторженная и беззаветная, как у хорошей собаки (друзья Лады и Александры Егоровны поймут, что ничего унизительного в этом уподоблении нет, скорее наоборот). Ну, или сравним ее чувства с преданностью Сэма мистеру Пиквику. Или даже Фродо!
Или даже нет! Не помню, кто там из хоббитов был как-то особо восторженно заворожен эльфами. Вот для Машки Анечка и была такой эльфийской принцессой, или принчипессой, как, наслушавшись пучиниевской «Турандот», звал доченьку генерал, иногда ласково: «Моя ты принчипессочка!», иногда саркастично: «А может, посуду в кои-то веки принчипесса помоет? Уж сделайте милость, ваше высочество!».
Ну а Анечка принимала Машкину влюбленность как должное, она ведь к этому привыкла с младенчества, ею все восхищались, пусть Травиата Захаровна вслух осуждала это, и тревожилась, и предупреждала Василия Ивановича, что баловство до добра не доведет, испортишь ты девочку! Но ведь и она сама под покровом строгости любовалась и гордилась дочкой, хотя со своим Степочкой была гораздо ласковей и нежнее.
Да все, кто не завидовал ей, как одноклассницы и однокурсницы или какие-нибудь корявые официальные и начальствующие тетки, Анечку любили и охотно ей потакали. Даже будущий папа ее сына. Или правильней сказать — будущего сына? Ну да ведь он же существует, уже и даже вон шевелится. Впрочем, и папа этот тоже существует. Правда, уже не шевелится. Мертвым притворился, как жучок. Затаился и прозябает в своем Новогирееве, со своею толстожопой эпузой (это язвительное словцо Анечка подхватила где-то у Достоевского).
Урод и мудак.
Да нет, Аня, совсем не урод и не совсем мудак. Просто трус и лентяй. Как он сам говорит — эгоцентрик. Да и дочка ведь у него, пусть и не такая яркая и бойкая, и о жене его ты ведь на самом деле ничегошеньки не знаешь! Ну а верить тому, что рассказывают о своей супружеской жизни блудливые мужья таким дурочкам, как ты, это уж совсем, извини меня, глупо.
Да о чем вообще разговор? Ты-то, можно подумать, его любишь или любила когда-нибудь?!
А?
Ну вот то-то.
Это уж пусть Василий Иваныч почитает тебя соблазненной и покинутой, как Стефания Сандрелли, а также униженной и оскорбленной, мы-то с тобой знаем, как дело было.
— Ань, ты доедать будешь? — Машка, поглощенная, восхищенная и ужасающаяся необычайной love story, от волнения забыла, что уже завтракала.
— Ешь.
— Ой, а тебе, наверно, нужно много кушать, за двоих! — сказала Большая Берта, но придвинула к себе Анину тарелку и даже хлебушком потом вытерла остатки желтка.
— Ну а ты как тут? — без большого интереса спросила Аня.
— Наверно, в следующем году в школу перейду, Анжела Ивановна должна, вроде, на пенсию пойти.
Маша училась на заочном в том же самом педагогическом институте. По окончании школы она, не раздумывая, отправилась с Аней в столицу, поступать на филфак МГУ, исключительно за компанию, литература ее интересовала не слишком, а по русскому вообще четверку в аттестат получила еле-еле. Анжеле Ивановне надо спасибо сказать — пожалела, ну и обе, конечно, не прошли по конкурсу.
Генеральскую дочь путем каких-то не очень честных ухищрений и махинаций, да скажем прямо — по блату! — устроили в Ленинский пед. Там проректором по хозяйственной части был старинный приятель (еще по горкому комсомола) Травиаты Захаровны, а у другого проректора как раз отчислили из МИСИ и призывали в армию шалопая племянника, вот местом его службы и стал штаб дивизии, возглавляемой Бочажком.
Очень не любил генерал вспоминать эту и на самом деле не красящую его и пятнающую мундир историю.
Вот он на что ради нее пошел, вон как себя и свои принципы покорежил, а она!..
Ай, Василий Иванович! Ну полно уже! Вот что «а она?»? А она трахнулась? Ну, простите, простите… Но все-таки — что? А она отдалась порыву порочной страсти? Или, может, — а она, распутница, не сберегла «цветок роскошный», как поет ваш Риголлето?
Помните, Дронов перед танцами, наставляя вас в науке страсти нежной и борясь с вашей дикарской робостью и целомудрием, цитировал вам Толстого, вернее, Горького, который пересказывал Толстого: если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали.
А Анечке сколько? Чего ж вы хотите?
Хотя, говоря по правде, ничего такого Анечка не хотела, никакому властному зову истомленной плоти не внимала, и удовольствия никакого от этого занятия не получала, чего немного стыдилась.
Ну как? Все ведь «бражники здесь, блудницы», а ее от алкоголя тошнит, и секс этот ваш хваленый кажется каким-то смешным и глупым. Но она это тщательно и искусно скрывает… Noblesse oblige!
В общем, родительскими стараниями осталась Анечка в столице, вселилась в общежитие на улице Космонавтов и стала изучать (поначалу с большим энтузиазмом) историю педагогики, основы языкознания, старославянский, античную и другие литературы, ну и историю партии с диаматом, конечно.
Ну, а зареванная Машка вернулась в Шулешму, год проработала старшей пионервожатой, а потом опять помчалась в Москву — поступать в Анечкин институт. Но и тут ей, бедолаге, не повезло, на экзамене по истории перепутала, кто кого разбудил — Герцен декабристов или наоборот, так что на дневное отделение не попала и теперь работала в библиотеке, которая уже полчаса как должна была быть открытой.
— Ну а что твой Васильев?
— Чего это мой? Что ты выдумываешь…
— Сама ведь писала.
— Ну мало ли… Он оказался такой глупый!.. Очень ограниченный человек… Ну просто не о чем вообще поговорить, знаешь, никаких общих интересов, просто какой-то дундук… И нахал такой… И, знаешь, про кофе говорит — растворимое! Я ему говорю — мужского рода! А он — да ладно, не умничай, будь проще, и люди к тебе потянутся! Нужно мне, чтобы такие дураки тянулись… И знаешь, — Машка наклонилась к Анечкиному ушку, как будто кто-то еще мог услышать ее нескромные откровенности.
— Ну ни фига себе! — изумилась Аня. — Какие у вас тут, оказывается… Декамерон просто!
Машка прыснула:
— Декамерон! Ну ты скажешь! Декамерон!.. Ух ты, времени-то сколько! Всё! Побежала я!..
Побежала, но уже из коридора вернулась:
— Ой, Ань! А какой у меня читатель есть! Ну ты не представляешь! Раньше редко ходил, а теперь просто через день, ну иногда реже! «Иностранку» все берет. На руки-то я журналы не выдаю, ну с собой в смысле, тем более рядовому составу, вот он и сидит, читает. Этого, ну… «Сто лет одиночества»… Серьезный такой. А ресницы — как будто накрашены, вот честно! Такие… Вот такие! — Машка растопырила толстенькие пальцы и приставила к вытаращенным глазам.
— Ты влюбилась, что ли?
— Да ну тебя! Ничего не влюбилась, просто редко такого интеллигентного встретишь, тем более солдата, столько читает, и все одну классику, ну и фантастику тоже — только не советскую, а там Брэдбери и другого еще… ну как же… на М… ну ты знаешь!.. Саймак! Он при Доме офицеров, в ансамбле играет на танцах… а в духовом на барабане большом… Бум-бум! — Маша показала, как ее читатель бьет в барабан. — И фамилия такая смешная — Блюменбаум. Представляешь? Блюменбаум! Москвич кстати. Львом зовут. Львом Ефимовичем…
И, уже выбегая, повторила с выражением, как стихи, даже руками взмахнула: — Блюмен-баум!.. Пока, пока! Я после работы, может, еще забегу.
— Давай, давай… Эй, подожди!
Машка развернулась.
— Слушай… Машуня, знаешь… Тебе этот цвет ну, совсем не идет! Совсем! Ну, какая ты брюнетка?.. Давай вместе тебе подберем что-нибудь… А лучше вообще, как было…
— Да? — Маша совсем не обиделась, а даже обрадовалась и была благодарна за проявленную заботу. — А Васильев говорил, что клево, жгучая, говорит.
— Он же дурак, сама сказала.
— Дурак, не то слово!.. Всё, бегу!
Генерал перехватил Машу у входной двери.
— Маш, ты уж давай это, не забывай подругу… Видишь, как у нас тут…
— Ой, да что вы, Василь Иваныч! Что вы! Да не волнуйтесь, я всегда все, что надо… Вы же знаете! Не волнуйтесь, я ведь понимаю!
— Ну молодец. А то у нас ведь что — одни мужики, в этом деле ни бум-бум. Ни уха, ни рыла. Так что давай, подруга, на тебя вся надежда.
— Да все хорошо будет, Василий Иванович! Что вы! Будет у вас отличный внук! Или вы внучку хотите?
Не дожидаясь ответа, Маша исчезла. И тут только, только в эту минуту, генерал, наконец, дотумкал! Да ведь и правда! Ведь так и есть! Внук или внучка! Именно что — внук или внучка! Дело-то не в Анечкином недостойном поведении, не только в нем, и не в позоре на седую голову и генеральский мундир! Дело вон в чем! Внук. Ну ни хрена себе! Анька, и в самом деле, родит живого человека.
— Ну а вы что думали — неведому зверушку?
— Да ничего я не думал, и в голову не приходило!.. Внук. Родится, будет жить. Тьфу-тьфу-тьфу!
Как-то это все чудно́. Ничего не было — и внук. Или внучка. Надо же! А я, выходит, дед. «Санки сделал старый дед маленькому Ване, пес Буян пришел смотреть, как несутся санки!» — так Анечка в детском саду пела и все не могла и не хотела спеть «сани», и правильно, какие сани, дед санки ведь сделал.
Именно — дед. Дедушка Вася. Смешно. А Степка-то — дядя, выходит! Дядя Степа-милиционер.
Ну что, мать? А? С тобой-то насколько было бы все яснее и проще. Как бы ты нам, Травушка, сейчас наладила бы все… Так! Давай-ка без этого! Без паники. Кончай уже. Все рожают, и мы родим. Вон и врач за стеной, если что…
Вот ведь какая херомантия-то!
В конце концов!
Тут Василий Иванович услышал шарканье и оглянулся. Он ведь так и стоял, уставившись в дверь. Аня в длинном мамином халате тяжело и медленно шла на кухню, относила тарелки и чашки. Генерал смотрел на ее нечесанный затылок, на тонкие бледненькие лодыжки и чувствовал разом весь, так сказать, спектр человеческих чувств — от нежности и жалости до негодования и насмешки.
Брякнула посуда в раковине.
«Ну, помыть-то за собой мы, конечно, нет, ниже нашего достоинства, — пытался рассердиться дедушка Василий. — О, выплывают расписные!»
Анечка, и вправду, выплыла в коридор и шла к генералу.
Он молча стоял и ждал — в страхе и трепете.
Анечка подняла глаза, и взгляды их встретились: отцовский — умоляющий и вопиющий, и дочкин — перепуганный, но бессмысленно и нарочно надменный.
— Доченька! — хотел крикнуть или прошептать генерал, но доченька уже открыла дверь в ванную и исчезла. Зажурчала вода.
ГЛАВА 5
<Вполоборота, о, печаль,
На равнодушных поглядела.
О. Мандельштам
— Ну а что же Ахматова-то?
— Ох, ребята, с Ахматовой все непросто.
Ну, во-первых: она, на самом-то деле, давно уже не являлась самодержавной властительницей Анечкиных дум. Теперь это уже была не абсолютная, а конституционная монархия — Анна Андреевна делегировала почти всю свою власть разношерстному собранию авторов — и Мандельштаму, и нелюбимому ею Набокову, и любимому внучатому племяннику Бродскому, и, наконец, неугомонному дедушке Пушкину. Ну и куче всяких мелких литературных отщепенцев, если не сказать — власовцев.
Так что генерал, подтверждая правоту Черчилля, готовится к прошлой, уже проигранной им, войне. Но это, в общем, его проблемы, мне-то что? На автора это никакой порочащей тени не бросает. Так даже интереснее и забавнее.
Но вот что меня заботит гораздо больше — люди, которые помнят то время… я подчеркиваю — которые помнят, а не которые тогда жили, — ведь большинство детей этих, по сути дела, страшных лет России могут забыть все что угодно, да уже и забыли и заменили собственную неповторимую жизнь веселыми картинками «Мосфильма» и студии имени Горького под милейшую музычку Бабаджаняна, Таривердиева, Френкеля с Окуджавой и других советских композиторов в исполнении ансамбля имени Александрова или супругов Никитиных. На слова Онегина Гаджикасимова и Роберта Рождественского.
В общем, как спьяну напевал мой покойный друг: «Прекрасное жестоко, не будь ко мне далеко!».
Но те, кто помнит (а именно на них я и возлагаю свои нескромные писательские надежды), бывают ужасными занудами и придирами. И они, скорее всего, укажут автору на искажение исторической правды — очаровать и сбить с толку восьмиклассницу должна была не Анна Андреевна, а Марина Ивановна!
Да вспомните неуклонно нарастающее цветаевское беснование в 60-е, 70-е и 80-е годы!
Татьяна Доронина душемутительным голосом декламирует и записывает пластинку, София Ротару по радио «Маяк» транслирует: «Горечь! Горечь! Вечный привкус на устах твоих, о страсть!», Белла Ахмадулина с горькой, но все-таки рискованной иронией обещает за Мандельштама и Марину отогреться и поесть, тысячи (а может, и миллионы) девочек и неустроенных женщин вслед за Барбарой Брыльской лицемерно благодарят за то, что вы больны не мной, а я больна не вами, а сотни (или тысячи) поэтических юношей, получив от журнала «Юность» оскорбительно короткий ответ и рекомендацию больше читать классику, шепчут в ночи:
— Поэты мы — и в рифму с париями!
Или даже:
— В сем христианнейшем из миров поэты — жиды!
Что проку спорить! Нашей юностью, которая проходит мимо, была, вне всякого сомнения, Марина Цветаева.
Но, дорогие мои ровесники, уважаемые мои пенсионеры и пенсионерки! Дело в том, что неоткуда и не от кого было Анечке Бочажок получить эту обольстительную отраву и даже узнать о самом существовании этой серебрящейся и сверкающей сирены, чье дело измена, чье имя Марина!
Вспомните, если уж вы такие памятливые, где и когда все это происходило! Год приблизительно 67-й, поселок Тикси-3, Булунский район Якутской АССР!
Да не было никакой Цветаевой ни в одной из трех посещаемых Анечкой библиотек городка! Да и Ахматовой, как выяснилось, тоже.
И самое главное — не очень-то наша подрастающая героиня интересовалась поэзией и нисколько не пылала страстью для звуков жизни не щадить. Что вообще-то странно, потому что еще с дошкольных лет Анечка постоянно выступала с чтением стихов и делала это с видимым удовольствием и, можно даже сказать, вдохновенно!
Едва научившись говорить, уже тешила родителей и подвыпивших гостей декламацией Чуковского — сначала дуэтом с папой:
В.И. Замяукали котята:
А. Мяу-мяу!
В.И. Надоело нам мяукать.
А. Мяу-мяу!
В.И. Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!
А. Хью-хью-хью!
А потом и соло:
— Взяй баяшек каяндашик! взяй и написай! я мемека! я бебека! я медедя забадай!!
И действительно, бодала хохочущего папку, державшего ее на руках, в щеку, а однажды в нос — больно и до крови.
А в пять лет в Нальчике, уже немного умея читать, сама разучила стишки из «Родной речи» своей старшей подружки Тани Хакуловой и, сидя на папиных плечах, оглашала июньский парк звонким и смешным голосом:
Помним нынешнее лето,
Эти дни и вечера!
Столько песен было спето
В теплый вечер у костра!
Мы на озеро лесное
Уходили далеко.
Пили вкусное парное
С легкой пенкой молоко.
Огороды мы пололи,
Загорали у реки
И в большом колхозном поле
Собирали колоски!
Вот интересно, догадывались ли авторы (М. Смирнов, стоявший под стихотворением, был на самом деле псевдонимом Агнии Барто и подправившего ее Маршака), с каким именно Указом партии и правительства и с каким количеством смертных приговоров ассоциировалась последняя строчка их стихотворения у некоторой заинтересованной части советского народа?
Набираем «колоски указ» и получаем от Яндекса 769 тыс. ответов. И вот буквально вторая ссылка (первая — Википедия, тоже интересно), читаем Валерия Ерофеева (видимо, самарского краеведа):
«Пожалуй, одной из самых трагичных страниц в истории российского крестьянства стало время репрессий, начавшихся после принятия Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Суды получили право карать расхитителей народного имущества с порой неоправданной жестокостью — вплоть до расстрела. И уже с ноября 1932 года в Средневолжском краевом суде, который располагался в Самаре, началось массовое вынесение смертных приговоров по делам крестьян, укравших в колхозе зерно или даже просто собиравших колоски в поле. В народе это постановление получило название «Указ семь-восемь», или «Указ о колосках».
И далее:
«Только в течение первых восьми месяцев действия «Указа о колосках» за хищение колхозного и общественного имущества в Средневолжском крае было расстреляно более тысячи человек».
Правда, потом Сталин и Вышинский это дело слегка притормозили — так ведь никаких кубанских казаков и свинарок и пастухов скоро бы не осталось вообще, и некому было бы нашу целину поднимать. Не Шолохову же с Пырьевым и Дунаевским!
Ну да пока оставим это…
А коронными номерами в школе у Анечки были «Гренада», «Коммунисты, вперед!» Межирова (мне кажется, напрасно многочисленные фанаты культового цэдээловского лирика замалчивают этот в своем роде безукоризненный текст) и «Смерть пионерки».
С каким гневным презрением и брезгливой насмешкой произносила Аня постылые, скудные слова придуманной Багрицким отсталой матери:
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький
Твой крестильный крест.
По мысли романтического поэта, видимо, все-таки съест или натворит чего-нибудь еще хуже.
Но не тут-то было!
Голос ученицы Бочажок взмывал под своды, ну ладно, не своды — потолок актового зала, и победно звенел, славя торжествующую коммунистическую молодежь, строгих юношей и девушек, эх, эх, без креста —
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед!
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас!
Кто и на какой площади убивал Эдуарда Багрицкого, равно как и то, каким образом Светлов умудрялся песню держать в зубах, одновременно наигрывая это разудалое «Яблочко» смычками страданий на скрипках времен, пусть выясняют историки советской литературы и социопсихологи, мы же хотим только отметить, что и в те годы пиитические восторги были не вовсе чужды Анечке, вполне она была способна загораться стихотворным пафосом и отдаваться волнующим ритмам декламируемых строк. Но все это было как-то вскользь, не по-настоящему.
Ой, забыл рассказать о самом большом триумфе нашей героини на сцене полкового клуба, когда она довела до настоящих слез замполита Пилипенко. Правда, он был порядочно пьян, но все-таки.
Это было на концерте в честь 23 февраля. А читала шестиклассница Бочажок стихотворение Сергея Михалкова, которое, на мой взгляд, является одной из вершин его творчества и нисколько не уступает ни трем государственным гимнам, ни моей любимой басне «Лисица и бобер». Текст довольно длинный, но я все-таки приведу его полностью, уж больно хорош!
На сцене шел аукцион.
Детей с отцами разлучали.
И звон оков, и плач, и стон
Со всех сторон в толпе звучали.
Плантатор лезет негру в рот —
Он пересчитывает зубы.
Так покупают только скот,
Его ощупывая грубо.
«Кто больше?.. Продан!.. Чей черед?
Эй, черный! Встать! Ты здесь не дома!»
Шатаясь, Том шагнул вперед.
Друзья! Купите дядю Тома!
«А ну, за этого раба
Кто больше долларов предложит?»
Том! В чьих руках твоя судьба?
Кто заплатить за выкуп сможет?
Кто больше?» — «Больше денег нет!» —
«Кто больше?» — «Вот еще монету!» —
«Кто больше?» — «Вот еще браслет!
Еще возьмите брошку эту!»
«Кто купит негра? Кто богат?» —
Плантатор набивает цену,
И гневно зрители глядят
Из темноты на эту сцену.
«Кто больше?.. Раз!.. Кто больше?.. Два!»
И вдруг из зрительного зала,
Шепча какие-то слова,
На сцену девочка вбежала.
Все расступились перед ней.
Чуть не упал актер со стула,
Когда девчушка пять рублей
Ему, волнуясь, протянула.
Она молчала и ждала,
И это та была минута,
Когда в порыве против Зла
Добро сильнее, чем валюта!
И воцарилась тишина,
Согретая дыханьем зала.
И вся Советская страна
За этой девочкой стояла…
И Анечка протянула выданную ей в качестве реквизита пятерку!
Тут-то Пилипенко и разрыдался в голос, а когда исполнительница сошла со сцены, стал ее обнимать и противно целовать, причитая: «Ой, девонька! Ой, девонька!», пока Бочажок это не прекратил.
Кончилось все это совсем некрасиво. Выведя своего заместителя по политической части из зала на темную и морозную улицу, Василий Иванович стал его жестко отчитывать, убеждая идти домой и проспаться. Пилипенко то ныл, то огрызался, то пытался шутить. А потом вдруг, желая чем-нибудь уязвить, или насмешить, или просто сменить тему, он брякнул: «А ты знаешь, Василий Иванович, что твой Чайковский — пидарас?».
Бочажок замахнулся, но не ударил. Пьяный политработник, отшатнувшись, потерял равновесие и сел в снег, в ужасе глядя на нависшего над ним командира, вернее, на его все еще воздетый кулак, черный-черный на фоне прекрасного и страшного северного сияния.
Немая сцена продлилась секунд десять. Потом Бочажок взял за грудки, поднял и несколько раз тряхнул Пилипенко. «Пидарас — это ты!» И по-хулигански, как станционная шпана в его детстве, сплюнул через зубы под ноги обмершего комиссара.
К счастью, никто этого не видел, концерт еще продолжался, и Ваня Самойлов как раз играл, сбиваясь и краснея, «Неаполитанский танец» Петра Ильича, который хотя и был несомненным педерастом, но Василий Иванович все равно прав.
Бочажку вообще не везло с замполитами — или вот такое животное, как Пилипенко, или теперешний полковник Самохин — балалайка бесструнная, иудушка и иезуит.
— Ну а Ахматова-то что, в конце концов?!
— Да сейчас уже, Господи! Что за спешка-то?
Встреча эта произошла совершенно случайно, если не вдаваться в неразрешимый и вечный вопрос — существуют ли вообще в нашей жизни случайности или все заранее решено и подписано в небесной канцелярии.
Прилетев из Якутска перед Новым годом, генерал привез подарки — Степке черный пистолет с пистонами, запах дымка от которых будет помниться всю жизнь, и конструктор, то есть набор таких блестящих металлических палочек с дырочками, гаечек и болтиков, колесиков с настоящими резиновыми шинами и других деталей, из которых по прилагаемым схемам можно было собирать машинки, мотоциклы, самосвалы и даже подъемные краны.
Так что дуться и почитать себя обойденным у Степана не было никаких оснований, но он все-таки надулся и готов был даже заплакать, когда отец со словами: «Это — тебе, а это маме» — достал из чемодана заказанные еще в прошлую командировку якутские национальные сапожки из оленьего меха с бисерным узором по верху голенища, очень красивые, но я забыл, как они называются.
— А мне? — не удержался крошка-сын.
Все засмеялись.
— Может, тебе еще бантики повязать? — обидно спросил отец.
— Степушка, это женская обувь, мальчики такую не носят, — сказала, обнимая набычившегося сына, Травиата Захаровна.
— А унты? Мужчины унты носят!
— Ну то унты, а это (она произнесла то самое слово, которое я забыл и не могу сообразить, как его узнать с помощью Google)… Это все равно, как ты бы мои туфли надел. На шпильках. Ну? Ты же не хочешь, чтобы над тобой смеялись?
Этого Степа совсем не хотел. Опыт уличных измывательств над его не соответствующей мальчишеским приличиям одеждой был богат и мучителен. Ведь Травиата Бочажок не только себя и дочку обшивала и обвязывала, но и своего Степушку тоже одевала красиво и модно. Не то чтобы она его наряжала, как маленького лорда Фаунтлероя, но всякие брючки гольф и яркие пуловеры неизбежно провоцировали издевательский хохот, а подчас и негодование пацанвы, донашивающей за старшими братьями выцветшие вельветовые курточки, драные шаровары с начесом или носящей неуклюжие, тяжелые, купленные на вырост пальто.
А когда Степа появился в пермском дворе в новеньких польских техасах (так поначалу у нас назывались джинсы, ну не настоящие, конечно, а как у Шурика в «Кавказской пленнице», Травиата полдня отстояла за ними в очереди), да еще и с изображением слоненка на правом заднем кармане, которые вообще-то Степке ужасно понравились, потому что походили на брючки стиляг из журнала «Крокодил», а эти смешные человечки Степке по неизвестным причинам были чрезвычайно симпатичны, — о! тогда дружный рев «На жопе слон!! На жопе слон!!» заставил его через пару минут в яростных слезах убежать домой и больше никогда не надевать позорные штаны. Даже когда мама отпорола злополучную картинку.
Это, впрочем, относилось больше к жизни в Перми, Нальчике и Харькове, где Бочажки обитали среди гражданского населения. В военных городках и социальные контрасты были не такими бросающимися в глаза, и никакой уличной малолетней шпаны, в сущности, не было.
А в Тикси вообще все мальчишки зимой (то есть практически весь учебный год) бегали в так называемых спецпошивах — солдатских бушлатах для Крайнего Севера, почему-то черных, вернее, конечно, серых, линялых, они ведь все списанные были, с капюшонами и такими особыми намордниками, оставляющими неприкрытыми только глаза.
Да и девочки и жены офицеров тоже пользовались армейской амуницией — дублеными полушубками, да нет, наверно, все же тулупами, тоже черными. Но, конечно, не Травиата и Анечка! Эти и с валенками-то мирились скрепя сердце. А потом получили от Деда Мороза эти оленьи… торбаса. Вот! Вспомнил — торбаса! Теплые и красивые. На зависть не только Степе, но и многим гарнизонным дамам.
Но на этот Новый год из Якутска были привезены и другие подарки, менее эффектные и более привычные, — Степке «Семь подземных королей», дочке «Дикая собака Динго» (которую она еще в третьем классе прочитала, да и фильм с маленькой Польских уже видела), а Травиате Захаровне антология любовной лирики «Я помню чудное мгновенье».
Травиата, о которой мы так до сих пор и не удосужились ничего толком рассказать, тогда единственная из всей семьи читала стихи. О Степке говорить нечего, Василий Иванович поэзию почитал только в качестве либретто или слов для романсов, да и тут, как и сам Глинка, предпочитал Нестора Кукольника и Ивана Козлова, ну а Анечка же как раз завершала переход от Бальзака и Диккенса к Толстому и Достоевскому и воображала себя то Наташей, то Кити, а то и вовсе Настасьей Филипповной, в этих толстых книгах можно было полноценно и полнокровно жить, а стишки (спасибо Багрицкому и Ко) на этом фоне представлялись чем-то несерьезным, крикливым и даже глуповатым.
Кстати, именно тогда с легкой и недоброжелательной руки Анечки, прочитавшей «Господ Головлевых», младшенького Бочажка стали звать Степка-балбес, несмотря на протесты, а подчас и угрозы возмущенной мамы.
А сама Травиата Захаровна стихи читала и любила, хотя подарок Василия Ивановича и тут был не совсем точен — антология включала в основном классику, а жена предпочитала поэзию современную, «совремённую», как до конца своих дней упорно говорил генерал, вкладывая в это «ё» горький сарказм реакционера и консерватора, выброшенного на обочину истории неудержимым прогрессом.
Ибо был наш генерал не Скалозубом, а Стародумом.
А Травиата Захаровна с прогрессом шагала в ногу, просто обожала все новое — всякие стиральные машины, пылесосы, холодильники (пока что чисто платонически, где их было взять?), новые моды, новые фильмы, керамику вместо хрусталя и Евтушенко — Рождественского — Вознесенского вместо Исаковского и Долматовского. Ну и нейлон вместо льна и шелка, чего уж греха таить.
То есть эта поэзия для нее была частью и знаком общего модернистского и оптимистического напора хрущевских лет. Почти как спутник с Белкой и Стрелкой и атомоход «Ленин».
И не было ничего в этих поэтах чуждого советскому образу жизни, глупости какие, это были наши, хорошие советские ребята, готовые и в космос, и на целину, и куда угодно! А узкие брюки — это просто красиво и удобно. И экономно, между прочим!
Правильно и точно написал Василий Аксенов и произнес актер Ливанов:
— Мы не стиляги! Мы врачи!
Или еще даже лучше сказала Юлия Друнина:
Мы сами пижонками слыли когда-то,
А время пришло — уходили в солдаты!
Заметим, что негодующее презрение мужа к Никите Сергеевичу Хрущеву Травиата целиком и полностью разделяла и была уверена, что это «трепло кукурузное» подло оболгало товарища Сталина.
И все-таки — мог ли быть крепким союз такой прогрессистки и модницы и отъявленного ретрограда? Еще как мог! Дело в том, что оба относились к эстетическим взглядам оппонента с юмористической снисходительностью, считая их слегка досадным, но, в сущности, терпимым и безобидным недоразумением.
Василий Иванович подшучивал над любимой певицей жены, называя ее Эдитой Потехой или даже Идиты Пьеха, очень смешно передразнивал, к восторгу детей, ее акцент, манеру пения и даже телодвижения: «Я иду и пою! И земля поет! Оу!», а фамилию Ларисы Мондрус произносил с такой интонацией и с такой двусмысленной ухмылкой, что Травиата Захаровна краснела, качала головой и говорила:
— Все-таки ты, Вася, иногда такой дурак, просто уму непостижимо.
Да что Эдита Пьеха! Жестоковыйному Бочажку и сама Эдит Пиаф и все Ивы Монтаны и Фрэнки Синатры были нипочем. Музыка толстых, и все тут! У него для всей эстрады, и советской тоже, включая и довоенную, было только две оценки — или это горьковское определение джаза или «Угу, понятно! С одесского кичмана сбежали два уркана!». В самое последнее время появилась третья категория — «Жуки в жабо!».
Это когда по телевизору показывали какой-то ВИА, то ли Голубых, то ли Поющих гитар, Василий Иванович, войдя с приказом немедленно уменьшить звук, спросил:
— А чо они в бантах-то, как коты?
А Степка, как раз представлявший, как зэконски выглядел бы «Альтаир» в таких вот костюмах, обиженно ответил:
— Это не банты, это жабо!
— Точное слово, — похвалил генерал.
Классификация эта была очень нечеткая, одни и те же исполнители и произведения оказывались то жуками, то музыкой толстых, то с одесского кичмана.
Обожаемый советским народом Утесов, например, проходил сразу по двум категориям.
Покойная боевая подруга, считая своего Васеньку все равно лучшим из всех мужчин на земле, мягко посмеивалась (как правило, про себя) над его деревенской неотесанностью и отсталостью.
На самом же деле смешно было как раз то, что любовь к классической музыке, с которой она впервые столкнулась именно в лице Бочажка, казалась поэтому нашей сомнительной горожанке (окраины тогдашнего Нальчика с курами, гусями, садами и теплой дорожной пылью от сельской местности отличались разве что наличием водопроводных колонок) таким же проявлением если не колхозной дикости, то, во всяком случае, некой эстетической недоразвитости, как и насмешки Бочажка над мастью коня у Петрова-Водкина или керамической фигуркой трехногого разноцветного жирафа, которой Травиата заменила фаянсовую Царевну-Лебедь на телевизоре.
— Вот ведь парадоксель! — воскликнул бы генерал, узнав о таком странном мнении Травушки.
Кстати, для симметрии нужно рассказать, что и Травиату тоже одолевал бесенок злобной пародии, и она тоже с наслаждением и довольно грубо попыталась однажды передразнить музыкальных кумиров супруга.
Было это еще в Перми. Генерал… да какой генерал, он тогда только-только подполковника получил, возвращаясь из Нальчика, где оставил на лето семью, купил в Москве у магазина «Мелодия» пластинку Марии Каллас. Что называется, с рук.
Решился он на такое по сути преступное дело только потому, что спекулянт, обратившийся к нему на выходе из магазина, был не какой-нибудь наглый хлюст, как в «Деле пестрых», а маленький седенький старичок, чуть ли не в пенсне и в трогательном берете, как у Гурвинека. И обратился он так смешно — «Товарищ военный». Ну и внешний вид диска поразил генерала нездешней красотой, особенно портрет черноокой и горбоносой дивы, отдаленно напомнивший любимую жену.
В общем, отвалил генерал этому хитрецу немыслимую сумму, хотя и так уже потратил на свое баловство больше, чем планировал, но уж больно соблазнительно и сладко струились речи старичка про настоящее бельканто, звезду Ла Скала и Метрополитен-опера и арии из совершенно неизвестных в России опер.
Приехав к себе, Бочажок тут же поставил соблазнившую его на противоправное деяние пластинку. По законам жанра и пресловутому закону подлости тут должно бы настигнуть Василия Ивановича смешное и обидное разочарование, должен бы простодушный дурачок оказаться жертвой наглого столичного обмана. Я сам помню рассказы (вряд ли правдивые) о людях, купивших таким образом модные диски, на которых было записано только «Никому не рассказывай, как тебя …!», пропетое издевательским голосом.
Но нет! Старик, хотя и нарушал социалистическую законность, Бочажка не обманул. Все так и было — и божественная Casta Diva, и ария, вернее дуэт, из неизвестной оперы неизвестного тогда Бочажку композитора Чимарозы.
Восторг и упоенье!
Как всякий любящий муж и отец, Василий Иваныч хотел и близких своих приобщить к своим наслаждениям, поделиться, так сказать, радостью. Это было мучительно!
— Травушка! Ты только послушай!
— Я слушаю, Вася.
— Анька, ты слышишь?.. Ань?!
— Слышу…
— Вот сейчас будет самое красивое место.
— Угу.
Однажды после этих истязаний Травиата вошла на кухню и, не заметив, что у окна стоит дочка, в сердцах передразнила:
— Аморе! Аморе!.. Купи мне «беломору»!
Анечка радостно расхохоталась и продолжила любимый папин дуэт:
— Си! Си!..
А остроумная мама тут же нашлась:
— И спички принеси!
И уже обе покатывались и не могли остановиться.
И, давясь от смеха, все повторяли свой экспромт.
Как говорит Степка — радости полные штаны.
Степка их и заложил. Когда папа в очередной раз изображал какую-то эстрадную звезду, кажется, Бюльбюль-оглы, радостный сынишка крикнул:
— А теперь мама пусть споет Аморе-беломоре!
— Что-что? — удивился Василий Иваныч.
— Да глупости… Что ты, Степа, выдумываешь?
— Не выдумываю, не выдумываю, вы с Анькой поете — аморе-аморе!
— Вот как? — обрадовался генерал и пошутил: — Спой, светик, не стыдись!
Травиата не знала, что и делать, а Анка-хулиганка (и обезьянка) вдруг, нагло и весело глядя отцу в глаза, пропела все это издевательство над знаменитым дуэтом из неизвестной в России оперы.
Папа ничего не сказал, повернулся и вышел.
Больнее всего Василию Ивановичу было то, что его любимица ужасно фальшивила, ну просто невыносимо, как пьяный Дронов на расстроенной гитаре.
Вот тогда и появились наушники. Хотя их радиола ничего такого не предполагала и Бочажок сам должен был придумать и сделать какие-то усовершенствования и приспособления, отгоняя от горячего паяльника привлеченного запахом канифоли маленького сына.
Но взамен уязвленный отец потребовал, чтобы и они в свою очередь не оскорбляли его слух своими Хилями, Кобзонами и Магомаевыми (последнего Василий Иванович ненавидел особенно люто как перебежчика и иуду — ведь оперный же певец, голос такой великолепный, а поет, прости Господи, Бабаджаняна! Тьфу!).
Так что на какое-то время в квартире Бочажков умолкла всякая музыка — и толстых, и тонких, и с одесского кичмана, и из Большого зала консерватории.
Но и на этих заранее подготовленных позициях глава семейства не удержался и продолжил бесславное отступление под натиском развеселой попсы (правда, слова такого тогда еще не было и в помине).
Однажды, вернувшись раньше времени из командировки (как в анекдотах о супружеских изменах), Василий Иванович еще на лестничной площадке услышал:
Бабушка, отложи ты вязанье!
Заведи старый свой граммофон!
И мое ты исполни желанье —
Научи танцевать чарльстон!
Радиола пела на полную громкость, поэтому никто не слышал, как глава семейства открыл дверь и выглянул из прихожей.
Изменщица Травиата в утреннем неглиже и дочка тоже в одной розовой ночнушке танцевали этот самый, непонятно как снова вошедший в моду нэпманский танец и были счастливы и прекрасны.
Так славно плясали, так ладно!
Даже Степка и тот заливался дурашливым хохотом и дрыгал тоненькими голыми ножками — нелепо и невпопад.
Ну что ты будешь делать?
Да пляшите вы, сколько хотите, дурынды, и слушайте вашу белиберду, коли уж вам так она нравится!
Ну, а о попытках Бочажка организовать по приезде в Пермь еженедельные семейные культпоходы в театр оперы и балета, о неизменно засыпающей в темном зале Травиате, о хитростях симулянтки Анечки и о непрестанных просьбах пописать обпившегося в буфете лимонадом Степки не хочется даже говорить.
После нескольких бесславных попыток Василий Иванович стал посещать оперные и балетные спектакли один-одинешенек.Через годы, через расстоянья песня оставалась с человеком, а вот романсы и вокальные циклы русских и зарубежных композиторов этот глупый и непослушный человек слушать не умел и не хотел.
Господи! Да ведь эта же глава должна была быть о знакомстве Анечки с Анной Андревной! И эпиграф ведь для этого был подобран. Какие на хрен торбаса и техасы, какой Багрицкий и бельканто?!
Ну ладно, что ж теперь делать? Вычеркивать жалко.
Зато следующую главу прямо с Ахматовой и начнем.
А вот пока до кучи картинка, как Василий Иванович примерял новую (как он брезгливо говорил, «хрущевскую») форму.
— Шляпы велюровой только не хватает.
— Шляпы? — робко изумилась Травиата, чувствуя, что Василий Иванович хоть и пытается шутить, но внутри клокочет и ежесекундно готов взорваться.
— Ну как же! Ботиночки, галстучек, пиджачок. Шляпки только не хватает! Парадоксель! Это — офицер?! — Бочажок уставил негодующий палец в зеркало и сам ответил: — Нет!! Это… Это…
Не найдя достаточно выразительного слова среди нетабуированной лексики, Вася показал, кто это, пройдясь туда-сюда с какими-то трагикомическими ужимками и гримасами. Кого он хотел изобразить, осталось неясно.
— Да нет, Вася. Ничего. Очень даже. Я китель немного ушью, будет ничего, — лгала Травиата Захаровна.
Ей тоже, при всей ее страсти к новациям и модернизациям, совсем не нравилось. Галифе и воротник-стойка с белоснежным подворотничком и сияющие хромовые сапоги были, конечно, красивее. Намного. А это — ни то ни се.
Так что не всегда эстетические вкусы супругов вступали в непримиримые противоречия. Что-что, а чувство стиля у Травиаты Захаровны было безукоризненное.
ГЛАВА 6
Одна с опасной книжкой бродит,
Она в ней ищет и находит…
А. Пушкин
В Тикси у Анечки была подружка, Света Анциферова. Черненькая такая, кучерявая, как негритенок, и в толстых очках. Немного смешная, но милая и мечтательная. В восьмом классе, после летних каникул, встретившись с Анечкой после долгой разлуки (вспомните, сколько длились в этом возрасте три месяца), она тут же поведала о своей любви к мальчику из первого отряда. В любовной переписке Светы с ее избранником (тот жил под Москвой, а встретились они в пионерлагере Министерства обороны в Евпатории) Анечка принимала самое активное участие, хотя была немного разочарована, когда после романтических рассказов подружки увидела присланную фотографию. На Печорина юноша ну никак не тянул.
Но когда Света получила письмо со стихотворением Александра Блока «Нет, никогда моей и ты ничьей не будешь» и возникла необходимость адекватного ответа, выяснилось, что подобрать подходящий поэтический текст у подружек не получается, обе были книгочейками, но, как мы уже говорили, все больше романов. Проблема была еще и в том, что стихи должны были быть все-таки женскими, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Есенин, ни тот же Блок не подходили.
И тут Анечка вспомнила про привезенную папой антологию.
Книжка, надо сказать, была довольно странная. Составитель со всей очевидностью куражился над советскими литературными приличиями, воспользовавшись и злоупотребив доверчивостью республиканского начальства, ни в одном из центральных издательств такое прихотливое собрание любовной лирики появиться в те времена не могло. Нет, ничего недозволенного цензурой антология не содержала — никакого Гумилева или там Ходасевича. Но зато и Маяковский (Маяковский!) не был представлен ни единой строчкой, не говоря уж об Асеевых, Сельвинских и т.п.
Соблазнительно было бы объяснить это антисоветскими взглядами составителя и представить его одним из недобитых врагов народа, выжившим, но так и не разоружившимся перед партией спецом из бывших или, наоборот, молодым да ранним умником и злопыхателем, тем более, что и поэта-декабриста Рылеева среди авторов тоже не было, а вот мракобес Соловьев был представлен несколькими стихотворениями, причем одно было вовсе не любовным, потому что «неподвижное солнце любви», противопоставляемое смерти и времени, никакого отношения к чудным мгновениям, конечно же, не имело. Однако зияющее отсутствие Цветаевой (решившее в некотором роде судьбу генеральской дочери) и, например, Велемира Хлебникова политической тенденциозностью объяснить было невозможно.
Еще более экстравагантным был выбор самих стихотворений. Некоторые, как мы уже указали, к заявленной теме вообще не относились, отношение же других было косвенное и формальное или насмешливое. Так, рядом с «Я не люблю иронии твоей» и «Зеленым шумом» помещена была знаменитая некрасовская эпиграмма (заметим кстати, полностью совпадающая с трактовкой толстовского романа Травиатой Захаровной):
Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует гулять
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.
А вслед за заглавным «Я помню чудное мгновенье» шли подряд двустишие «Amour, exil» — «Какая гиль!» и мое любимое «Мне изюм Нейдет на ум, Цуккерброд Не лезет в рот, Пастила нехороша Без тебя, моя душа».
Апухтин был представлен сомнительной «Парой гнедых», а Случевский таким, например, рискованным стихотворением:
Не Иудифь и не Далила
Мой идеал! Ты мне милей
Той белой грудью, что вскормила
Твоих двух маленьких детей!
Девичья грудь — она надменна,
Горда! ее заносчив взгляд!
Твоя — скромна и сокровенна
И мне милее во сто крат!
Она мной чуется так ярко,
Сквозь ткань одежд твоих светла.
Предупредил меня Петрарка:
Лаура девой не была.
Многие стишки вообще стояли на грани порнографии, а иные, как пушкинские Антипьевна с Марфушкою, пользуясь трепетным отношением начальства к классическому наследию, безнаказанно переходили эту, впрочем, весьма зыбкую границу.
И много еще было текстов, неопровержимо свидетельствующих о твердом намерении составителя поглумиться не только над партийным руководством, но и над широкими читательскими массами Якутской АССР.
Ну представьте, покупает молодой человек книжку с таким хорошим названием и дарит своему гению чистой красоты на 8 Марта, та открывает и — бац! — наталкивается на прутковское «Древней греческой старухе, если б она домогалась моей любви». Стихотворение, положим, замечательное и очень потешное, но какая же это любовная лирика?
А если чуть забежать вперед, то среди ахматовских текстов найдем «Тебе покорной? Ты сошел с ума!». Хорошенькое чудное мгновенье!
В общем, книжка была во всех смыслах издевательская и провокационная, а то, что все это безобразие было предано тиснению, пусть и в захолустном издательстве, являлось наглядным свидетельством, что советская власть потихонечку дряхлела, жирела, теряла бдительность и зоркость и, как говорится, мышей не ловила, а эти расплодившиеся юркие грызуны, пока что удовлетворяясь ситуацией «Кот из дома — мыши в пляс!», были уже морально готовы к инсценировке лубочного сюжета «Как мыши кота хоронили!».
Все это Анечка оценила позже, антология эта даже стала потом ее как бы талисманом, но пока что раскрыла она ее с целью чисто утилитарной, хотя и благородной, — помочь закадычной подружке.
Чтобы не терять даром времени, Анечка начала с содержания и отметила авторов с женскими фамилиями, их оказалось совсем немного. Ни графиня Ростопчина, ни Каролина Павлова не показались ей заслуживающими внимания, у Мирры Лохвицкой было отмечено два стихотворения (увы, Анечка, не задумываясь, загнула те самые собачьи уши, с которыми неистово боролась советская интеллигенция, считая их ужасной бескультурностью, так что я, например, только под старость взбунтовался и теперь загибаю уголки нужных мне странниц совершенно бесстыдно).
Следующей была Ахматова. Ну понятно, «Сероглазый король», «Так гладят кошек или птиц», еще какие-то стихи, по тем или иным причинам не годящиеся для Светкиного письма и забракованные, а потом вдруг, нежданно-негаданно:
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
Ух ты!
Анечка удивилась и встревожилась, и, непонятно чему, обрадовалась.
И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.
Ничо себе! Это…
Это что же такое?
Что?
Как это так получается?
— Но ины-ым открыва-ается та-айна, — вслух произнесла, почти пропела Анечка.
— И мне тоже, и мне открывается! И на мне почиет, я прямо чувствую — почиет!
Ей становилось странно и чуть-чуть страшно.
Любопытно, насколько сама-то Ахматова понимала, что это за тайна такая и о чем вообще речь? Или как у Набокова — та-та, та-та-та-та, та-та?
Точнее не скажешь.
К концу этого знаменательного дня все восемь стихотворений Анны Андреевны Анечка знала уже наизусть и медленным торжественным шепотом декламировала, лежа в кровати и глядя куда-то гораздо выше потолка: «Какое нам, в сущности, дело, что все превращается в прах…».
Даже даты ахматовских рожденья и смерти сразу и навсегда запомнила, а на следующий день на первой же перемене помчалась в библиотеку, но увы — ее любимая библиотекарша захворала и дверь была заперта.
После школы, не заходя домой, Анечка отправилась в клуб папиной части.
Там таинственная Ахматова быстро нашлась. Прибежав домой, Анечка, полная сладостных предвкушений (прямо как отец с Каллас), раскрыла книжечку наугад, почти посередине.
Небо сбросило звездную шаль,
Гордых маков зарделись огни…
Я тебе подарю — мне не жаль! —
Красоту недотроги Чечни.
Подарю полевые цветы —
Все в предутренних капельках рос…
Подарю полевые цветы —
Все в предутренних капельках рос…
Чо-то не то. И при чем тут Чечня? Анечка недоуменно взглянула на обложку и одновременно расстроилась и обрадовалась. Ну конечно! Ахматова, да не та! Впопыхах она не посмотрела внимательно, а глупая библиотекарша просто ничего не понимала, как папа говорит, — ни уха, ни рыла! Это был сборник стихотворений Раисы Солтамурадовны Ахматовой, народной поэтессы и даже Председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Кстати, Травиата Захаровна эту книгу прочитала потом с удовольствием и посетовала, что вот у всех горских народов есть большие всесоюзно прославленные поэты — в Дагестане Расул Гамзатов и Фазу Алиева, в Кабардино-Балкарии целых три — Алим Кешоков, Кайсын Кулиев и Инна Кашежева, вот и у чеченцев своя Ахматова, а у осетин только классический Коста Хетагуров. Он, конечно, несравнимо выше и лучше всех перечисленных, но все-таки совсем несовременный, дореволюционный еще.
А Анечка на следующий день отправилась к зловредной библиотекарше из Дома офицеров.
— Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас есть стихи Ахматовой? Анны, — уточнила Анечка.
— Что-о?! — Грымзу аж передернуло всю, как током.
Но дочь Бочажка была, как вы знаете, не робкого десятка.
— Стихи Анны Ахматовой, — твердо проговорила она и с унынием подумала: «Щас скажет — тебе еще рано и предложит почитать “Буратино”».
Но ответ оказался гораздо интереснее.
Библиотекарша долго смотрела Ане в глаза, дожидаясь, очевидно, что наглая девчонка их отведет, а потом прошипела:
— А ведь комсомолка, наверно… Комсомолка?!
— Комсомолка, — ответила Анечка и уже довольно грубо повторила: — Так есть стихи Ахматовой?
— Нет!! Нет и не будет!!
Ошибаешься, дура старая, еще как будут. И не то еще будет.
А в конце этой судьбоносной недели вышла, наконец, на работу заведующая школьной библиотекой, в которой, впрочем, Ахматовой тоже не оказалось, но огорчение Анечки тут же сменилось нетерпеливой надеждой, когда библиотекарша, почему-то понизив голос и многозначительно улыбнувшись, сказала:
— Но у меня дома кое-что найдется.
После уроков, забежав домой, чтобы предупредить маму, Анечка впервые (хотя приглашалась не раз) отправилась в гости к Римме Геннадиевне — так звали баловавшую ее библиотекаршу и по совместительству учительницу домоводства.
Была она бездетной вдовой военного летчика, но ничего героико-романтического тут не стоит искать, муж ее умер в госпитале от перитонита как раз перед тем, как они должны были получить квартиру в новой пятиэтажке, давать одинокой гражданской женщине эту однокомнатную служебную квартиру никто, понятное дело, не стал, да, наверное, и не мог, поэтому она осталась жить в бараке, неподалеку от клуба папиной части, который, в сущности, тоже был деревянным бараком, только чуть пошире.
Я хорошо помню и этот клуб, и этот барак. Первое время в Тикси мы жили именно там. Для мамы, наверное, это было кромешным адом — четыре человека в одной комнате, вода привозная, ее доставляет машина с цистерной, и весь барак бегает с ведрами и наполняет металлические бочки, стоящие в коридоре у каждой двери, туалет общий в неотапливаемом предбаннике (я его описал потом в дидактической поэме «Сортиры», там вообще много про Тикси), кухня тоже общая с керосинками и керогазами (примусов не помню), под потолком в углу нашей комнаты мыши прогрызли дыру в обоях и высовывают наглые мордочки, а за стенами мрак, стужа и вой пурги. Вот не помню и не могу сообразить, а где мама стирала? На кухне, что ли? И как же весь этот ужас мне, десятилетнему, нравился, каким все казалось интересным и необычайным, так что, когда нам наконец дали нормальную двухкомнатную квартиру в этой новой пятиэтажке, я был ужасно огорчен.
Вот в такой барак и пришла Анечка в чаянии встречи с неведомым и прекрасным. В коридоре сладко пахло белым керосином и пережаренным луком, но, поскольку Аня еще не обедала, запах этот не был противным, а, наоборот, немного даже соблазнительным. А вот в комнате пахло не очень приятно, какой-то тоскливой старушечьей затхлостью, хотя до старости Римме Геннадиевне было еще далеко, всего-то сороковник стукнул с небольшим хвостиком.
— Ну, заходи, заходи, раздевайся, вот тапочки.
— Да не надо, спасибо, у меня носки теплые.
Но все-таки пришлось Анечке преодолеть унаследованную от папы болезненную брезгливость и надеть эти стоптанные чужие тапки.
— Вот, Аня, я уже все приготовила. Вот это я еще в институте переписывала, а это уже потом, — хозяйка по очереди протянула две толстые общие тетради, — а вот тут, — она бережно подняла со стола большую ветхую книгу, — тут тоже Ахматова есть, ну и не только она, конечно, тут все почти, и Гумилев даже. Книжка очень редкая, ее ни разу не переиздавали с тех пор, видишь, рассыпается уже вся, так что ты уж, Анечка, поаккуратнее, ладно? Ну а теперь давай чаевничать. Ты вареную сгущенку любишь?
Ну кто ж не любит вареную сгущенку? Хотя сейчас Анечке хотелось только одного — поскорее уйти, и чтобы побыстрей начать уже читать, и из-за этого запаха непонятного. Но сбежать сразу было никак нельзя, невежливо, пришлось еще целый час пить этот бессмысленный чай и слушать не очень увлекательные рассказы о подмосковном дачном детстве и студенческой юности, да и сгущенку эта милая женщина варила неправильно, Анечка со Степкой любили, чтоб она становилось густой-густой, почти твердой и коричневой, а тут была какая-то совсем недоваренная, жидкая и только слегка потемневшая.
В книге, сбереженной библиотекаршей (это была выпущенная в 1925 году «Русская поэзия ХХ века» с наглым марксистским предисловием), оказалось всего три страницы Ахматовой, а в тетрадях тоже было не так уж много — почерк у Риммы Геннадиевны был по-детски крупным, хотя и неразборчивым. За два вечера перекатав все стихотворения (еще не вчитываясь и не наслаждаясь как следует, только торопливо изумляясь и восторгаясь), Анечка, уже вся во власти сребровечного неотвязного мелоса, уже зараженная этими болезнетворными бактериями или, лучше сказать, подсаженная на этот, вызывающий роковую зависимость галлюциногенный препарат, вновь прибежала к своей сообщнице и наркодилерше.
— Ну что? Понравилось? Правда ведь, поразительная поэтесса? Поэт! Она не любила слова «поэтесса»… Давай я повешу… Вот тапочки… А какое твое самое-самое любимое? У меня «Небывалая осень построила купол высокий, был приказ облакам этот купол собой не темнить…».
Декламируя, Римма Геннадиевна как-то потешно вскидывала голову и слегка подвывала, но целеустремленной девочке было не до этого.
— «…А куда подевались студеные, влажные дни?»
— Провалились, — машинально и бестактно поправила Анечка, — А еще есть?
Ну в точности Винни-Пух в гостях у Кролика.
Библиотекарша, очнувшись и перестав мотать головой, посмотрела на Анечку внимательно и ничего не ответила.
— Нету?
Анастасия Геннадиевна продолжала молчать и высматривать что-то в лице своей юной гостьи.
Потом сказала:
— Вообще-то есть. Только дай честное слово, что никому не расскажешь.
Аня удивилась, но слово дала.
— Не знаю, может, рано тебе еще… — все сомневалась Римма Геннадиевна, уже вытаскивая из-под кровати и открывая маленький фибровый чемоданчик без ручки. Потом она, как показалось Анечке, необъяснимо долго возилась в его содержимом, но наконец распрямилась, держа в руках тонкую канцелярскую папку, и сказала:
— Ох, Аня, не знаю даже…
— Это что — неприличное? — предположила Аня.
— Ну, Господь с тобой, девочка, ну что ты говоришь такое… У Ахматовой — неприличное! Это, — и собравшись наконец с духом, она сказала: — Это, Анечка, запрещенные стихи. Понимаешь? Их считают антисоветскими. За распространение можно даже срок получить, понимаешь?
Аня ничего не понимала, но кивнула.
— Я тебе их дать не могу, ты их тут почитай, но только не переписывай, пожалуйста. И не говори никому. Никому вообще, понимаешь? Ни маме, ни папе, никому. Обещаешь?
Аня развязала тесемочки и огорчилась, увидев всего несколько жалких машинописных страничек, почти слепых, экземпляр как минимум четвертый, а то и пятый.
— Ну ладно, девочка, читай, я не буду мешать, я пока пойду, приготовлю нам что-нибудь.
И Римма Геннадиевна ушла.
«Реквием», — прочитала Аня и вспомнила застрявшую почему-то в памяти папину фразу: «У Верди, например, реквием нисколько не хуже, чем у Моцарта! И у Брамса, в конце концов! «Немецкий реквием» знаешь какой? Ого-го! Сила!».
Подвыпивший Бочажок (наверно, потому это и запомнилось Анечке — она его нечасто таким видела) перегнулся через новогодний стол к беспомощно улыбающемуся гостю, не обращая никакого внимания на мечущую предостерегающие взгляды жену, и начал петь. Но уж этого ему Травиата Захаровна позволить, конечно, не могла…
Когда библиотекарша вернулась со шкворчащей сковородкой и словами «А ты оленину ешь? А то некоторым не нравится, говорят, жесткая слишком», Анечка уже давно и два раза прочитала этот, может быть, и не самый лучший у Ахматовой, но заслуженно бессмертный и бесстрашный текст.
— А это про что? — спросила юная читательница и тут же смутилась и рассердилась на себя. Ну что за тупость такая? Как Степка — про рыцарей, про индейцев. Ну разве так о стихах можно?
На правах автора вмешиваюсь и категорически заявляю:
— Можно и должно! Это ведь не свист же художественный (о котором мы еще поговорим), это человеческие слова, а они всегда и неизбежно про что-нибудь.
А те, кто утверждает обратное, как правило, шарлатаны или просто глупые люди. Ну, иногда сумасшедшие.
Римма Геннадиевна, видимо, моих простецких убеждений не разделяла, потому что усмехнулась и пожала плечами:
— Ну как можно сказать, про что… Про что? Ну, если очень грубо и приблизительно, — про сталинские репрессии. У нее ведь мужа расстреляли и сына посадили. Представляешь? И саму мучили.
— Пытали? — ужаснулась Анечка.
— Можно сказать, пытали. Не печатали, травили, Жданов оскорблял. Такой был тоже сталинский прихвостень и палач. Постановление было о ней и Зощенко. Ужасное. Но тут главное, что она не только про себя, она про всех нас, понимаешь, про всех.
— Понимаю, — сказала Анечка, и подумала: «Нет, не про всех. Папа вон Сталина защищает. Да и мама, в общем-то, тоже».
Так наша героиня за считаные дни проделала тот путь, на который у большинства ее ровесников уходили долгие-долгие годы — от невинного упоения необычным, чуждым и несоветским до откровенно вражеских и оголтело антисоветских взглядов и поступков.
А сколь многие ее запоздалые попутчики потом обернулись вспять и заторопились всем галдящим и гогочущим гуртом на исходные позиции, об этом нам сейчас думать и унывать нечего — роман как-никак исторический.
— Пап, а у нас есть Адажио Вивальди?
Ох как обрадовался и встрепенулся Бочажок!
— А какое именно?
— Не знаю. Адажио Вивальди просто.
— Ну, Анюта, понимаешь, адажио — это же медленная часть, ну это темп такой, ну и часть симфонии там или концерта.
— Я не знаю. Вот у Ахматовой.
Генерал прочел вслух две строчки, напротив которых стоял карандашный вопросительный знак.
Мы с тобой в Адажио Вивальди
Встретимся опять.
(Поначалу-то Анечка думала, как и я в ее возрасте, что Адажио Вивальди — это что-то такое архитектурное, петербургское, ну вроде — павильон Кваренги или там колоннада Растрелли.)
— Да, неясно. Ну вот у нас есть «Времена года». Там тоже адажио есть. В каждом концерте. Давай послушаем?
Вот оно, блаженство-то, — и музыка, и Анечка, все вместе! Да как внимательно слушает, умничка моя!
Аня, и вправду, слушала внимательно и в общем-то с удовольствием, но так и не поняла, почему Ахматова назначила свидание в таком необычном месте. Хотя, папка прав, красиво. Очень даже.
— А Чакона Баха?
— Что-что?
— Чакона Баха.
— Не, Анечка, нету. Я такого не знаю даже. Никогда не слышал… А хочешь Бранденбургские концерты, а? Или вот оратория, — Василий Иванович торопливо выхватил с полки гэдээровскую пластинку и прочел: — Э-э, «Маттхаусспассион». Знаешь, давай потом.
Так что надежды Василия Ивановича оказались напрасными и быстро развеялись, всего лишь раз еще довелось ему слушать вместе с дочерью пластинку из своей разрастающейся как на дрожжах коллекции, после Ленинградской симфонии Анечка за музыкальными консультациями к нему уже не обращалась.
А через год из комнаты дочери послышалось такое, что несчастный Бочажок просто замычал от боли и замкнул руками слух, уподобившись моей любимой героине из «Друзей», которая, увидав совокупление Моники и Чендлера, в ужасе зажмурилась и завизжала: «О, my eyes!! О, my eyes!!».
Я безумно боюсь золотистого плена
Ваших медно-змеиных волос,
Я влюблен в ваше тонкое имя Ирэна…
Фирма «Мелодия» выпустила пластинку Вертинского, отвратительного Бочажку еще со времен лейтенантской молодости, когда Ленька пытался спьяну воспроизвести эти бананово-лимонные галантерейности, вынудив простодушного Васю впервые усомниться в безукоризненности дроновского вкуса, не говоря уж о музыкальном слухе.
Я и сам упивался в десятом классе этим комически-грассирующим старческим голоском, но нынче готов со стенающим Бочажком согласиться…
Это вы еще, Василий Иванович, не слышали все это в исполнении Александра Ф. Скляра!..
Первая диверсия Ахматовой, направленная на подрыв семейного счастия и спокойствия Бочажков, была осуществлена, как это ни смешно, посредством Степки.
Перед 9 Мая второклассникам задали самостоятельно найти и выучить стихотворение о Великой Отечественной войне.
Надо отметить, что в те годы День Победы еще не праздновался с таким похабным и истерическим размахом, войну еще многие помнили, она все еще была бедой и горем, еще даже Рождественский не набрался нахальства заявить, что живет на доброй земле за себя и за того парня, хотя беснование, приведшее на наших глазах к георгиевским бантикам на клатчах от Louis Vuitton, появлению в «Ералаше» призрака убиенного фашистами мальчика и созданию при поддержке Министерства культуры фильмов типа «Апперкот для Гитлера», потихонечку нарастало.
Степка ничего сам искать не стал, а по очереди спросил у папы, мамы и старшей сестры. Папа велел читать «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», мама Юлию Друнину — «Я только раз видала рукопашный…», а Анечка, конечно, «Час мужества пробил на наших часах».
Дороги Смоленщины показались Степе непомерно длинны, читать стихи от женского лица значило подвергнуть себя неизбежным насмешкам одноклассников, так что выбора у младшего Бочажка, в сущности, не было.
К несчастью, он таки был вызван к доске и, хотя с грехом пополам, сбиваясь и начиная сначала, все-таки дочитал ахматовский текст до конца получил двойку. Нельзя сказать, что подобная оценка была для Степки чем-то экстраординарным, но в этот раз он ведь не филонил, все честно вызубрил, а в результате — пара! Даже не тройка! Согласитесь, обидно! Степа пришел домой в слезах и обвинил во всем сестру, которая, по его уверениям, нарочно подсунула ему неправильный стих.
— Он не военный, не военный! — корил сестру маленький братец.
— Дурак ты, Степка. Конечно, военный! Военное… Стихотворение о войне и написанное в то время!
— Учительница сказала — не военный! И Ахматова эта — плохая! Она предательница! Ты специально! Специально!
— Дура твоя учительница!
— Аня! Ты что говоришь такое? — возмутилась Травиата Захаровна.
— А что, не дура разве? Ахматова ей плохая!
— Ну-ка давайте все успокоимся! — вмешался Василий Иванович. — Что за стихотворение-то? Давай, орел, читай, если, правда, выучил.
Степка прочел.
— Всё? — спросил отец.
Степка кивнул.
— Правда, всё? — Василий Иваныч обращался уже к Ане.
— Да, всё! — с вызовом ответила дочь.
— Гм… Ну начало нормальное… Про мужество… и про пули… Но потом чо-то… При чем тут слово?
— Ну конечно! Вам ведь нужно, чтобы обязательно броня крепка и танки наши быстры!
— Ты как с отцом разговариваешь? — грозно спросила Травиата, и этот вопрос в последующие годы ей предстоит повторять все чаще и чаще, а пугать Анечку он станет все меньше и меньше.
Надо было бы тут родителям насторожиться, но папа чересчур был уверен в кристальном совершенстве своей доченьки, а мама и без того тревожилась уже давно, но заботила ее не идеологическая червоточина, начинающая разъедать внутренний мир Анны Бочажок (такого Травиата просто не могла себе представить), а дочкина избалованность, то бишь своеволие, самоуверенность и дерзость. И поскольку внешние проявления этих несовместимых с идеалом кавказской девушки свойств стали под воздействием идеалов ложноклассических исчезать, мама не только не била тревогу, но даже радовалась этим неожиданным изменениям, объясняя их тем, что Анечка взрослеет и умнеет.
Все было именно так — но и ум, которого набиралась наша восьмиклассница, и преждевременная взрослость, потихоньку расцветающая в ее теле и душе, были уже генномодифицированы, и ягодки от этих цветочков будут, на вкус родителей, горьки и ядовиты.
О, как корил себя Василий Иванович за то, что сам, своею собственной рукой подлил этого яда в протянутый неразумной дочерью смертельный фиал. Ведь именно он по просьбе Анечки достал с превеликим трудом оба сборника Ахматовой, стоящие сейчас на ее книжной полке!
За черненькое «Избранное» просто нещадно переплатил, а том из «Библиотеки поэта» выменивал несколько недель у алчного тиксинского книголюба (тиксинского — в смысле из гражданского поселка, из порта, который располагался километрах в семи от гарнизона и был обозначен, несмотря на свои микроскопические размеры, на всех картах).
Бочажок даже на нарушение закона пошел ради этой книги, во всяком случае, в первый и единственный раз злоупотребил служебным положением и подбил библиотекаршу списать всю трилогию Дюма-отца, которую вдобавок к новенькому собранию сочинений Горького и страшно дефицитной книге о половой жизни «Три влечения» потребовал этот бессовестный портовый бухгалтер.
Да нет, Василий Иванович, конечно, попытался выяснить, достойна ли эта Ахматова такой беззаветной любви, он ведь смутно помнил о том давнем постановлении, но они ведь тогда много чего напостановляли, они вон и кибернетику с генетикой гнобили, а Травиата говорит, что стихи хорошие, но все-таки как-то было смутно у Бочажка на душе, видно, сердце-вещун предупреждало о грядущих бедствиях.
Специально зашел он в библиотеку и посмотрел в Большой советской энциклопедии.
«АХМАТОВА (псевд.; наст. фам. — Горенко) Анна Андреевна [11(23).6.1889, Одесса, — 5.3.1966, Домодедово Моск. обл.; похоронена в Ленинграде], русская советская поэтесса. Род. в семье офицера флота. Училась на Высших женских курсах в Киеве и на юридич. ф-те Киевского ун-та. С 1910 жила преим. в Петербурге. В 1912 вышла первая кн. стихов А. «Вечер», за ней последовали сб-ки «Четки» (1914), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921), «Anno Domini MCMXXI» (1922) и др. А. примыкала к группе акмеистов (см. Акмеизм). В противоположность символистам с их тягой к нездешнему, туманному лирика А. вырастала на реальной, жизненной почве, черпая из нее мотивы «великой земной любви». Контрастность — отличит. черта ее поэзии; меланхолические, трагич. ноты чередуются со светлыми, ликующими.
После Октября, далекая от революц. действительности, А. все же резко осудила белую эмиграцию, людей, порвавших с Родиной («Не с теми я, кто бросил землю…»). В течение ряда лет трудно и противоречиво формировались новые черты творчества А., преодолевавшей замкнутый мир утонченных эстетич. переживаний. С 30-х гг. поэтич. диапазон А. несколько расширяется; усиливается звучание темы Родины, призвания поэта («Маяковский в 1913 году», «Данте», цикл «Тайны ремесла»); в ее творчество влилась струя историзма — саркастич. отходная дореволюц. эпохе («На Смоленском кладбище», «Предыстория», «Царскосельская ода», «Петербург в 1913 году»). В годы Великой Отечеств. войны в поэзии А. выделяются патриотич. стихи («Клятва», «Мужество»). Мотивы кровного единства со страной звучат в лирич. циклах «Луна в зените», «С самолета». Вершина творчества А. — большая лирико-эпич. «Поэма без героя» (1940–62). Трагедийный сюжет самоубийства молодого поэта перекликается с темой надвигающегося крушения старого мира; поэма отличается богатством образного содержания, отточенностью слова, ритмики, звучания. Поэзия А. в целом характеризуется классич. простотой и ясностью стиля, конкретностью и «вещностью» образного строя, высоким лиризмом, мелодичностью. А. принадлежат переводы из восточных, зап.-европ., евр., латыш. поэтов. Ее работы о творчестве А. С. Пушкина отмечены тонкостью анализа. Стихи А. переведены на мн. языки».
Василий Иваныч перечитал эту изумительную статью три раза, немного успокоился — мотивы кровного единства со страной как-никак, но сюжет самоубийства ему совсем не понравился. Вернувшись в штаб, он решил все-таки на всякий случай проконсультироваться с замполитом, он хоть и дурак, но чему-то же их учат, в конце концов!
— У меня вопрос по твоей части.
— Ну? — похмельный Пилипенко был мрачен и нелюбезен.
— Поэтесса Ахматова. Как она?
— А тебе зачем?
— Да дочка просит достать, а я думаю…
— Пороть надо дочку!
— Что?
— Я бы своему всыпал по первое число!
— Ну, это уж не твое дело, знаешь. Ты мне про Ахматову скажи.
— Белогвардейская …!
— …? — удивился комполка.
— …, — подтвердил замполит.
И рассвирепевший Бочажок решил во что бы то ни стало отыскать для дочери эту русскую советскую поэтессу.
Тем более — из семьи офицера!
Анечкино преображение вскоре заметили все. Ну, начнем с того, что она без спроса постриглась, указав соседке Риммы Геннадиевны, подрабатывающей стрижкой и завивкой, в качестве образца известный портрет кисти Альтмана.
Результат Аню не удовлетворил, и она всерьез подумывала о том, чтобы перекраситься в черный цвет, но в итоге все-таки не решилась. Она и так получила изрядную нахлобучку и от матери, и даже от отца, огорченного гибелью дочкиной толстенной косы.
Но метаморфозы, достойные Овидиева пера (или стилоса? Чем они там писали?), только начинались.
К весенним каникулам озорница, болтушка и плясунья преобразилась в молчаливую, томную и дичащуюся школьных забав гостью из прошлого.
Вместо белозубого хохота явились какие-то загадочные и заносчивые хмыканья и усмешки, вместо страстных споров и задушевных бесед — одинокие блуждания по занесенному пургой поселку.
Не живешь, а ликуешь и бредишь
Иль совсем по-иному живешь.
И никакой тебе художественной самодеятельности! Даже от участия в литмонтаже по стихам Маяковского, Рождественского и Долматовского Анечка уклонилась.
А потом последовало скандализировавшее педагогический коллектив и учащихся старших классов заявление с просьбой освободить ее от должности секретаря комсомольской организации, якобы потому, что общественная работа мешает учебе, а ей надо подтянуть алгебру и физику.
И становилась Анечка все менее прозрачной, если воспользоваться набоковской метафорой, и разного пола и возраста мсье Пьеры уже боязливо и раздраженно присматривались и принюхивались к ней.
Даже со Светой не могла она поделиться своей тайной и тишиной, опочившей на ее светлой головке, даже и от Риммы Геннадиевны постепенно отстранилась, не снеся нецеломудренную и профанирующую ее святыню болтовню о жизни и творчестве Анны Ахматовой.
Ну а для ответа далекому Светочкиному избраннику было рекомендовано все-таки стихотворение Мирры Лохвицкой, и, надо отдать должное Анечке, одно из лучших:
Ты — мой свет вечерний,
Ты — мой свет прекрасный,
Тихое светило
Гаснущего дня.
Странно, конечно, такие слова обращать к девятикласснику, не то что не угасающему, а, напротив, расцветающему и рдеющему всеми прыщами неумолимого пубертата.
Но сам-то он этим блоковскими стихотворением кому уподобил застенчивую и очкастую Свету?! Той самой, «на букву бэ», поведение которой так возмущало Василия Ивановича и мешало спокойно наслаждаться дивной музыкой Бизе. «Я сам такой, Кармен!» Хорошенькое дело!
ГЛАВА 7
Любви нас не природа учит,
А первый пакостный роман
А. Пушкин
Не всегда пакостный и необязательно роман (поэзия обучает даже чаще и лучше), и не только любви, а вообще всему.
Природа же не то что любви, она и трахаться-то научить толком не может, вспомните хотя бы (если кто читал) Дафниса и Хлою.
Жаль, конечно, что Литературу потихонечку оттеснили педагоги помоложе и побойчее — в первую очередь Киношка и Телик, а учитывая то, что директором в этой школе с недавнего времени числится совсем уж «совремённый» и отвязанный Интернет, не исключено, что скоро многотысячелетний трудовой стаж будет прерван и отправится учительница первая моя, с седыми прядками и какими-то тетрадками, на заслуженный отдых и вечный покой.
Впрочем, кумир поверженный все бог, и развалин и катакомб оставленного храма литературоцентризма на наш век, кажется, хватит, есть еще где спрятаться и затихнуть, а там пусть себе пируют на просторе и бороздят этот самый простор на своих «Титаниках».
Даже и не очень проницательный читатель заметит, наверное, что автор невольно и постыдно уподобляется своему заглавному герою, не удержавшись от клеветы и озлоблений на изменяющую жизнь. Только генерал свой сварливый старческий задор ни прятать, ни заглушать не собирался и, в отличие от своего создателя (немного кощунственно звучит, но «творец» звучало бы еще наглее), никогда не сомневался в собственном праве и правоте.
И когда полковник Самохин с ласковым и как бы шутливым упреком говорил ему: «Ох, Василий Иваныч! Отстал ты от жизни!» — генерал только фыркал пренебрежительно.
Можно подумать, гонюсь я за этой вашей жизнью! Прям спешу и падаю!
В свое время генерала поразил и заставил призадуматься парадокс, которым позабавил однополчан Ленька Дронов.
Задав собутыльникам бессмысленный вопрос: «Может ли один солдат шагать в ногу, а вся рота не в ногу?», Ленька огорошил их нежданным ответом: «Может! В том случае, если этот солдат, единственный из всего подразделения, по команде «Шагом марш!» начал движение, как положено, с левой ноги, а все остальные раздолбаи с правой!».
Так что только он один печатает шаг правильно, а вся рота тупо (или нагло) топает левыми сапогами на счет два!
В этом-то вся штука! Не в том дело, кого больше, а кто действует в строгом соответствии с приказом командира.
Это все хорошо и к правде близко, а может быть, и ново для меня и многих других штатских, но напрашивается неизбежный вопрос:
И кто ж у вас Командир, товарищ генерал?
Брежнев, что ли?
Или покойный генералиссимус из адовых глубин подает вам команды?
Или, может, Маркс — Энгельс — Ленин?
Чего морщитесь?
В том-то и дело, в этом-то и вся безумная сложность нашей с вами жизни, что даже и безукоризненное выполнение своего долга не всегда спасает от ошибок и даже преступлений, и все зависит от того, чьим велениям внемлет бедная, зашуганная и запутавшаяся человечья душа, какому, в конце-то концов, Верховному главнокомандующему она служит.
Отчасти этому вопросу и была посвящена памятная дискуссия будущего генерала и его непослушной дочки на летних каникулах после Анечкиного первого курса.
Ранним субботним утром Василий Иванович обнаружил на кухонном столе, за которым дочка засиделась вчера чуть не до утра (потому что там можно было курить, не рискуя быть унюханной — все списывалось на папкин «Беломор»), кроме раскрытого тома «Доктора Фаустуса», несколько ксерокопий с текстами псалмов на церковнославянском языке.
Бочажка охватил ужас.
Потрясая крамольными листочками (возможно, антисоветскими прокламациями), генерал вопил:
— Что это, Аня?! Что это?! Как это попало к тебе?
Анечка спросонок долго не понимала, чего от нее хотят, а потом рассмеялась и объяснила, что это задание по старославянскому (так советские лингвисты на всякий случай перекрестили язык святых равноапостольных Кирилла и Мефодия).
— Я ж тебе рассказывала, у нас его такая стерва ведет, почти весь курс завалила, вот задание на лето дала.
— Фу ты! А я уж перепугался, думаю, дочка божественной стала, как бабка Маркелова!
— Да? А что ж в этом такого уж страшного? И почему сразу Маркелова? Почему не Достоевский, например? Или академик Павлов?
— Что академик Павлов? — не понял Василий Иванович.
— Академик Павлов был глубоко верующим человеком.
— Академик Павлов?
— Да, представь себе.
— Это кто ж такую глупость тебе сказал?
— Ой, пап, это всем известно.
— Ну вот мне, например, неизвестно!
— Ну что я могу поделать. Печально.
— Ох ты — печально! Смотри-ка! Опечалилась она! — начинал сердиться Василий Иванович. — А по мне так печально, что вы голову себе всякой дрянью забиваете!
— Это ты сейчас о чем?
— О чем!.. Может, ты и в церковь ходишь?
— Может, и хожу!
— Ух ты! И иконы, может, целуешь? (Это христианское обыкновение казалось Василию Ивановичу особенно диким и пакостным.)
— Нет, лучше, конечно, мумии поклоняться!
— Какой еще мумии?
— В Мавзолее!
— Что-о?!
— То!!
— Аня, ты как с отцом разговариваешь? — попыталась остановить этот кошмар Травиата Захаровна.
— Не, Травушка, погоди! Тут у нас интересный разговор получается! Очень интересный! Тут у нас, оказывается, диссиденты объявились!
— О, Господи! Ты хоть значение этого слова понимаешь?!
— Нечего тут понимать!! Академик Павлов у нее верующий!!
— Да, верующий!! Все нормальные люди верующие!!
— Слыхала, мать?! Мы с тобой, выходит, ненормальные!! Умственно отсталые!! Может, ты теперь и крест уже носишь?
Шлея, попавшая под хвост, не давала Анечке остановиться или хотя бы замедлить неудержимый галоп, и с мрачным торжеством во взоре она сунула руку за пазуху и вытащила тоненькую золотую цепочку, подаренную ей родителями на восемнадцатилетие, на которой болтался серебряный крестильный крестик.
Ну не пугайтесь так, Василий Иванович, он ее не съест, может, даже наоборот. Да и не стала она еще никакой христианкой, к величайшему моему сожалению. Просто наслушалась и начиталась, и пару раз ее свозили к отцу Александру Меню, ну и Бердяев, конечно, и, кажется, уже самиздатский Честертон, переведенный Натальей Леонидовной Трауберг.
Так что Христос был для нее не Богом Живым, а неким, прости Господи, главарем антисоветского подполья и сопротивления.
Каковым Он вообще-то в некотором смысле и являлся, да-да, просто потому, что в качестве Пути, Истины и Жизни не мог не противостоять убогому распутству, лжи и мертвечине развитого социализма.
Так что Анечкино понимание христианства было, конечно, недостаточным, но необходимым и по сути дела верным, как бы ни возмущались ревнители древлего благочестия, всеми силами и средствами пытающиеся превратить нашего Спасителя в того самого русского Бога, которого так зло описал князь Вяземский.
Потрясение от Анечкиной выходки было настолько сильным, что все притихли и если и не успокоились, то угомонились, и дальнейший разговор велся уже без такого обилия восклицательных знаков.
В ход пошла ирония.
— Выходит, ты у нас теперь богомолка. Поздравляю. Может, в монастырь поступишь?
— А ты у нас, выходит, несгибаемый марксист?
— Марксист-ленинист! — уточнил Василий Иванович, смутно припоминавший из истории ВКП(б) какого-то Каутского и прочих ревизионистов и социал-предателей.
— Ну и какие же именно труды Карла Маркса убедили тебя, папочка, в истинности диалектического материализма? Ну и исторического, разумеется?
— Какие. Известно, какие…
— Ну а все-таки?..
Можно подумать, что ее убежденность в лживости и подлости марксизма зиждилась на тщательном изучении первоисточников!
Вот что бы Василию Ивановичу не ответить на голубом глазу — «Капитал»!
И все — исчерпан вопрос. Но уж очень не любил Анечкин отец врать. Да и побаивался — хрен ее знает, эту выучившуюся, на его беду, пигалицу, начнет еще гонять по теме, стыда ведь не оберешься!
В уме багровеющего Бочажка проносились какие-то бессмысленные обрывки политзанятий и лекций. — Учение Маркса всесильно, ибо оно верно, пролетариату терять нечего, кроме своих цепей, призрак бродит по Европе, религия — опиум… Вот же гадство!
Дело в том, что для Василия Ивановича, как и для всего остального многонационального советского народа, весь этот диалектический материализм сводился к тому, что «Бога нет, а земля в ухабах», а исторический, соответственно, указывал пути изничтожения этих ухабов под руководством Коммунистической партии и лично Имярека. А говоря еще короче и яснее — кровью народа залитые троны кровью мы наших врагов обагрим! И нечего их, гадов, жалеть, они-то нас не пожалеют!
Несет ли Маркс ответственность за подобную редукцию и вульгаризацию своей доктрины, равно как и два других духовных столпа ХХ века — Фрейд и Ницше — за беснования своих отмороженных фанатов, — вопрос, как говорится, открытый.
Но лично мне кажется, что — да, виновны.
А вот почему мы оказались столь падкими на все эти глупости и гадости, почему с таким энтузиазмом провозгласили сомнительные гипотезы аксиомами и поменяли местами относительное и абсолютное, а телесный низ с небесным верхом — тут ответ, по-моему, очевиден: да потому что клокочет в наших жилах кровь повадливой прародительницы и сынка ее Каина, а пепел Содома и Гоморры стучит в наше сердце. Так идея, овладевшая массами, становится нечистой силой, тварь притворяется Творцом и Отцом материя.
А дочка меж тем ждала ответа, глядела, не отрываясь, на попавшего как кур в ощип отца, и уста ее нежные были тронуты наглой улыбочкой.
А, была не была!
— «Происхождение семьи, частной собственности и государства»! — выпалил отец и с вызовом посмотрел на экзаменаторшу.
— Вот как? Боюсь тебя разочаровать, папа, но это — не Маркс!
— Ну, Энгельс, какая разница, — выкручивался пойманный с поличным комдив.
— И действительно — какая? — уже откровенно издевалась дочь.
— Ты как с отцом… — начала Травиата, но Анечка ее перебила.
— Да никак я не разговариваю. Смысла нет, — и ушла купаться и загорать в новом, только что сшитом мамой купальнике на Вуснеж.
Что-то не очень симпатичная у нас девушка получается, да?
Это меня, признаюсь, ужасно тревожит, потому что, если Анечка окажется просто эгоистичной и избалованной дрянью, пусть даже и близкой нам по идеологии и эстетическим вкусам, — все мои писчебумажные старания пойдут насмарку и даже коту под хвост.
И тут дело, поверьте мне, не только в литературной несостоятельности автора и неполном служебном соответствии его Музы.
Тут все гораздо сложнее.
Ну вот, договорился и докатился, — все гораздо сложнее.
Ай, молодец!
Сколько раз сам издевался над этим блеянием: на самом деле все гораздо сложнее… нельзя не учитывать… не стоит недооценивать… и бла-бла-бла!
Давай еще скажи, как Василий Иваныч, — время такое было!
Хотя оно, и правда, было такое.
Все ведь у Анечки имелось, чтобы быть безусловно хорошей, — и ум, и доброта, и честность, и чувство юмора, и вкус хороший, и даже эрудиция, как это ни странно в ее возрасте, не хватало ей, как и мне, и большинству наших сверстников, только двух старосветских и новозаветных добродетелей — смирения и целомудрия.
Но винить ее в этом было бы верхом несправедливости. Где ж ей было набраться таких диковинных свойств?
Смирение уже давным-давно было переведено в разряд если и не пороков, то позорных и жалких недостатков, человек, даже будучи по факту рабом или холуем, должен был звучать обязательно гордо, то есть пресмыкаться перед силой было можно, а иногда и должно, но добровольно признать свою ничтожность, слабость и греховность и отказаться от сладкого права судить, осуждать и роптать было все равно, что на зоне самому объявить себя опущенным или, например, дембелю драить полы в казарме вместе с салабонами.
Смирение ведь без веры в Высшее Благо, Всемогущую Любовь и Несомненную Истину попросту невозможно: если Бога нет, то перед кем же смиряться? По сравнению с кем или с чем я так уж плох и несовершенен? Почему это я должен себя с червем сравнивать, а не с Соколом или Альбатросом?
Какая-такая греховность? Что естественно, то не безобразно! Это пусть малообразованные христиане, которым попы заморочили головы, каются и ужасаются тем, что мы якобы Бога распяли!
Закадычный дружок Есенина Анатолий Мариенгоф, стишки которого по большей части скучны и маловразумительны, однажды выразил эту нехитрую мысль чрезвычайно ярко:
Твердь, твердь за вихры зыбим,
Святость хлещем свистящей нагайкой
И хилое тело Христа на дыбе
Вздыбливаем в Чрезвычайке.
Что же, что же, прощай нам, грешным,
Спасай, как на Голгофе разбойника,—
Кровь Твою, кровь бешено
Выплескиваем, как воду из рукомойника.
Кричу: «Мария, Мария, кого вынашивала! —
Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!..».
Зато теперь: на распеленутой земле нашей
Только Я — человек горд.
В принципе, если разобраться, человек горд всегда именно этим, потому гордыня и почитается худшим из пороков, потому-то ее так и пестовали и культивировали инженеры человеческих душ.
Тут поверхностный наблюдатель мог бы усмотреть противоречие — для чего внушать подневольным колхозникам, что они звучат гордо? А ну как загордившиеся глуповцы неповиновение начальству окажут или, не дай Бог, вообще взбунтуются?
Глупости. Горделивый человек для себя лишь хочет воли, ничьими страданиями его душа не уязвлена, а против властей злоумышлять выходит себе дороже, тут как раз с волей и простишься. Лучше постараться повыше залезть и самому это быдло учить уму-разуму. Швабрин ведь не мятежником был, просто власть переменилась. А мятежниками в некотором смысле были как раз капитан Миронов и его смиренное семейство. Ну а генеральская дочка, несмотря на крестильный крестик, выросши при развитом и зрелом романтизме, ничего этого, конечно, не понимала. Смиренномудрие тогда, да и сейчас, к сожалению, спросом не пользовалось, хотя и было в дефиците.
Целомудрие же, утратив идеологическую и метафизическую поддержку, прозябало на уровне девичьих страхов и телесной брезгливости.
Ну, правда, если половые отношения вне брака — это не грех, то есть не нарушение Божьих заповедей (а с чего бы Богу, даже если Он существует, запрещать такое сладкое и в наше время вполне безопасное занятие?), и если как следует предохраняться и соблюдать правила личной гигиены, то что ж плохого, скажите на милость, в том, чтобы потрахаться?
Во-первых, чаще всего это приятно, во-вторых, никому никакого вреда,
в-третьих, просто для здоровья даже это необходимо! И для психического в первую очередь!
Вошедшая в историю тетенька, заявившая, что в СССР нет секса, была, конечно, неправа, да и имела в виду она, бедненькая, скорее всего порнографию и проституцию, а не добросовестный ребяческий разврат, которому вовсю предавались советские граждане и гражданки.
Хотя, конечно, в наших специфических условиях сексуальная революция имела свои национальные особенности и неповторимые черты. Начавшись раньше, чем в других краях, и будучи младшей сестричкой Великой Октябрьской социалистической, она поначалу продвигалась вперед семимильными шагами — триумфальному шествию …ва, казалось, не будет конца и края, поскольку такая эмансипация здоровых инстинктов победившего пролетариата пришлась по вкусу и красногвардейцам, и краснофлотцам, и красным профессорам, и даже некоторым наркомам, противниками же свального греха были только чудом избежавшие наказания попы, которых, даже если они сдуру и нарушали приказ не вякать, никто, естественно, не слушал.
Но вскоре партия и правительство изменили свое отношение к этому разбушевавшемуся половодью.
На повестке дня вопросы государственного строительства и повышения дисциплины, а тут какая-то анархическая мелкобуржуазная стихия! Абсолютно неподконтрольная и неуправляемая!
То, что на смену ханжескому церковному браку пришли собачьи свадьбы, в плане атеистического воспитания трудящихся факт, безусловно, положительный, но с другой стороны — кто ж нам солдатушек рожать будет и вскармливать?
Нет, пора с этим сексуальным гуляй-полем кончать! Побаловались и будя. Советский человек не может быть и не будет эротоманом, и пусть, сука, только попробует проявлять нетоварищеское отношение к женщине!
Не хрен силы и энергию, необходимые стране, тратить впустую по чужим койкам! Давайте-ка, товарищи, крепить нашу новую социалистическую семью и выжигать каленым железом аморалку!
Ура, товарищи! Даешь моногамию!
Плодитесь, размножайтесь, а о так называемой свободной любви забудьте. Свобода, батенька, — это осознанная необходимость, вот те законная супруга, ее и таракань, сколько влезет!
Эта сталинская пародия на пуританство, никак не вязавшаяся с материалистическим мировоззрением и держащаяся только на страхе перед месткомом и парткомом, ну и на отсутствии свободной жилплощади и паспортном режиме, при Хрущеве стала потихоньку подтачиваться, таять и испаряться, как и прочие «перегибы и нарушения ленинских норм».
На место настоящих, добротных советских идеологем, проверенных временем и закаленных в боях, оттепельные межеумки стали протаскивать всякую романтическую дребедень XIX века, обряжая героев Тургенева и Жорж Занд в плащи болонья и ковбойки с алыми комсомольскими значками.
Так на место дисциплинарного сталинского брака вернулся культ восторженной романтической любви, завершающейся, разумеется, тоже в ЗАГСе, но как средство укрепления семейных уз и поддержания супружеской верности никуда не годный.
«Умри, но не дай поцелуя без любви!» — это все, конечно, очень хорошо и, положим, высоконравственно, но поди докажи, что вот этот засос получен без любви. Или, скажем, прошла любовь, завяли помидоры — и что ж, выходит, не давать законному мужу, а найти кого-нибудь на стороне, кто зажжет это святое чувство? А вдруг опять ненадолго?
И понеслась … по кочкам, а говно по трубам.
Ну, для воспитания старшеклассниц эти «не дай без любви», может, и сгодятся за неимением гербовой, но для регламентации половой жизни взрослых — это фундамент, уж очень хлипкий и зыбкий.
Конечно, богиня, созданная муравьем, которому приспичило на кого-нибудь молиться, по сравнению с людоедскими коммунистическими божками мила и трогательна, но и это ведь тоже идолопоклонство, то самое сотворение кумира, а оно, как учит Ветхий Завет, до добра не доводит.
Так что сексуальная революция в Советском Союзе была, так сказать, с человеческим лицом, то есть смягченная и закамуфлированная всяческой лирической черемухой, что, с одной стороны, хорошо — все-таки не так противно, но с другой, может быть, даже и опаснее, потому что незаметнее.
И никакие Ахматовы — Цветаевы не нужны были Анечке, чтобы знать, что важнее и главнее всего любовь, что она свободна и законов всех сильней, включая и никому уже не внятный Закон Божий.
Я сам прекрасно помню свое искреннее отроческое недоумение и неодобрение — почему же Татьяна Онегина отшила? Сама же говорит, что любит? Чего же боле?
Да ладно Татьяна, там хоть муж, судя по всему, человек приличный, боевой генерал и Онегина приятель, но Маша Троекурова — это вообще какая-то дура набитая и предательница. Что значит — поздно? Вот он, Дубровский, да еще и с пистолетом. Бац этого гадкого князя в лоб и айда!
Вернее, это как раз у князя пистолет, но все равно — тут верные разбойники с ножами!
Вот не зря в народе говорят: «Не ссы Маша, я Дубровский!».
Ссыкло и есть!
Откуда было знать советским ребятишкам, что брак в те дикие времена, действительно, заключался на небесах и в присутствии Вседержителя, и пред аналоем люди давали клятву не в том, что будут любить друг друга вечно, пылать негасимой страстью и неизменно добиваться взаимных оргазмов, а в том, что будут верны до гроба независимо от оргазмов и других обстоятельств долгой и трудной жизни.
Другое дело, что значительный процент населения Советского Союза еще помнил, как порченым девкам ворота дегтем мазали, поэтому за дочками приглядывали строго, чтобы, не дай Бог, не оказаться в ситуации Василия Иваныча. Квадратных метров и так с гулькин нос, куда еще ублюдков плодить? И вели мамаши нашкодивших и залетевших дочек на операцию.
Не хочется говорить, но Аня ведь тоже оставила ребеночка вовсе не потому, что была против убийства, а просто боялась и стеснялась и дождалась в итоге, что все сроки прошли и никакой легальный аборт был уже невозможен. Ну а на нелегальный у нее и денег не было, и знакомств, конечно, никаких.
Ох, кажется, снова меня занесло куда не надо, зарекался же дразнить гусей и гусынь, и что, спрашивается, мне, пенсионеру, до сексуальной революции, плодами которой я в свое время всласть попользовался, даже ведь и неприлично в мои лета на такие темы горячиться, вот разве что процитировать по поводу свободы нравов поэта Некрасова — народ освобожден, но счастлив ли народ?
Анечке, во всяком случае, это никакого счастья пока не принесло.
Вы бы ее лучше пожалели, чем осуждать, себя вспомните в этом идиотском возрасте.
Ну неплохая она, честное слово! И папу своего на самом деле любит. А перед мамой просто-таки благоговеет.
Вот если представить шкалу дочерних чувств, в которой +100 — это крошка Доррит, вернее, ее самоотверженная любовь к родителю, а -100 — это неблагодарность и злоба Реганы и Гонерильи, то Анечкино отношение к Василию Ивановичу будет никак не ниже +55, а временами и намного выше.
Ну а Травиата Захаровна, невзирая на всю свою советскость и на членство в Коммунистической партии и несмотря на любовь к Евтушенко и Расулу Гамзатову, представлялась дочери просто эталоном красоты, достоинства и даже изысканности, и ее Анечка легко и часто воображала (как и саму себя) в интерьерах прельстительного Серебряного века. А папке в эти салоны путь был заказан, ну представьте его даже в какой-нибудь там «Бродячей собаке». Смех да и только!
Но мы немного забежали вперед, давайте все-таки вернемся к началу этой главы.
Итак, воспитанием и отчасти обучением Анечки занялась Анна Андреевна Ахматова (в девичестве Горенко, по первому мужу Горенко-Гумилева).
Хорошо ли это?
И не лучше ли справилась бы с этими обязанностями та же Цветаева?
(Других кандидатов рассматривать смысла нет — Мандельштам в этом качестве вообще непредставим, ранний Пастернак для подростка слишком непонятен, а поздний слишком понятен, пьяные слезы Есенина вызывали естественную гадливость, что уж говорить о механосборочном скрежете и лязге агитатора и главаря.)
Ведь как ни относись к Цветаевой, как ни раздражайся, а то, что она великий поэт, отрицать не приходится, а про Ахматову, как ни люби ее, можно разве что сказать, используя хармсовскую конструкцию, — великая, да не очень.
Но речь ведь не о литературном величии (будь оно неладно), а о сравнительной благотворности (или вредоносности) этих дамских поэтик для неокрепшей девичьей души.
И тут, по-моему, все ясно — хотя обе поэтессы, к сожалению, были равно способны инфицировать читательницу гордынею и пренебрежением к расхожей морали и общепринятым приличиям, но Ахматова обходилась при этом без истерик, была сдержанна, строга и тайно насмешлива, внушала унаследованное от Пушкина (а по происхождению античное) чувство меры (что бы там ни восклицала Марина Ивановна о «чувстве моря») и не подначивала своих воспитанниц на вакхическую разнузданность и расхристанность.
В общем, на должность классной дамы Анна Андреевна, по моему мнению, подходила больше и лучше.
Правда, стоит, наверное, отметить, что, будь Анечка воспитана на цветаевских стихах и обратись она к обрюхатившему ее мужчине с требованьем веры и просьбой о любви или просто с воплем женщин всех времен, возможно, этот трусоватый и мятущийся обсос, загнанный в угол, на что-нибудь и решился бы, и был бы у Анечкиного сына официальный отец, и не пришлось бы ей претерпевать все, что я ей еще уготовил, но —
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
И поэтому не то чтобы совсем без слез, но надменно и просто Анечка решила: да пошел ты на хер, любимый! Объедайся своими грушами и околачивай их в своем Новогирееве поганом! Обойдемся!
ГЛАВА 8
В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань
А. Пушкин
И вот она со всей этой, обобщенно говоря, Ахматовой и неведомо чьим бастардом во чреве вернулась к своему советскому тоталитарному отцу.
И теперь надо было умудряться как-то жить вместе, мирно сосуществовать и выносить друг друга, выстраивать сложную систему сдержек и противовесов и ежечасно искать и не всегда находить разумные и взаимовыгодные компромиссы. Такая, в общем, брежневская политика разрядки, лицемерная, непоследовательная и перемежаемая неизбежными кризисами и локальными конфликтами.
По идее, Шуберт, Шуман и Шопен должны были бы сгладить противоречия и навести мосты между двумя окрысившимися мирами. Но для Анечки на тот момент из всех музыкальных инструментов внятны были только гитары, или сюсюкающие бардовские, или электрические, преимущественно англоязычные, нахрапом овладевающие молодым телом и легко подчиняющие его пульсациям самовластного и допотопного Эроса.
А звуки фортепьяно ассоциировались с тягостными школьными рассветами и трансляцией утренней гимнастики под аккомпанемент отвратительно бодрого пианиста.
Все это, впрочем, нисколько не облегчало участи бедного, ни в чем не повинного Степки с его магнитофоном и все еще недоделанной нелепой бас-гитарой (в «Альтаире» они ведь репетировали на простых акустических, а на школьных вечерах играли на электрогитарах солдатского ВИА в перерывах, пока хозяева отдыхали, танцевали с десятиклассницами или отлучались по своим неуставным делам), ставшего заложником и жертвой этой необъявленной холодной войны. Ни отец, ни сестра в расчет его особо не принимали, и жизнь он вел невероятно сложную и чреватую различной тяжести неприятностями, словно маленькая, но не очень гордая страна третьего мира между двумя быкующими сверхдержавами.
Довольно быстро Анечка и генерал пришли к негласному двустороннему соглашению — избегать по возможности всяких контактов, не только словесных, но и визуальных. Обе стороны искренне и изо всех сил старались ничем не провоцировать друг друга и не нарушать хрупкое и тревожное перемирие.
Но и все эти предосторожности не спасали от взаимного раздражения и не высказываемых, но от этого еще более жгучих претензий.
Ну вот например. Василий Иванович в последнее время по утрам долго и истошно кашлял и громогласно отхаркивался в ванной, для курильщика с таким стажем это неизбежно и нормально, и чего уж тут такого, спрашивается, невыносимого? Но Анечка, лежа в постели и слушая эти доносящиеся через две двери и коридор физиологические звуки, закатывала глаза, шептала: «О, Господи!», накрывалась с головой одеялом и ощущала себя настоящей мученицей.
Но в будни все-таки особых проблем не возникало: утром, когда отец и Степка уходили, Аня еще спала, во всяком случае, оставалась в постели, а когда генерал возвращался, она уже укладывалась, ведь домой Василий Иванович, прямо скажем, не торопился, торчал в своем кабинете иногда часов до одиннадцати, а то и до двенадцати, и выходил из штаба дивизии, как тот император из гроба, и брел по безлюдному полночному поселку, иногда до полусмерти пугая какого-нибудь случайного забулдыгу-прапорщика или блудливого старлея, спешащего наставить рога заступившему на боевое дежурство сослуживцу.
А вот выходные были бесконечны, угрюмы и взрывоопасны. Правда, по вечерам приходила Машка и немного разряжала насыщенную электричеством атмосферу.
Первое время она вообще таскалась каждый день, но даже и с ее эмоциональной близорукостью и полнейшим отсутствием всякой чуткости и мнительности было трудно не заметить, что Анечка не в полном восторге от ее ежевечернего присутствия и громыхания, и докучливых уговоров пойти в кино или хотя бы просто погулять.
Но в субботу вечером Большую Берту ждали с нетерпением все — и мрачная подруга, и генерал, да и Степке было при ней все-таки вольготней и безопасней.
Лариса Сергеевна, уже через день забывшая обиду, тоже попыталась было внедриться и поучаствовать, но Анечка ее безоговорочно отбрила, почувствовав, что соседке кажется чересчур уж интересным то положение, в котором оказалась юная Бочажок. Так она и сказала: «Простите, Лариса Сергеевна, по-моему, это вас нисколько не касается».
Жена военврача, уже изготовившаяся приобнять и утешать бедную девочку, и уговаривать не убиваться так и забыть эту сволочь, ведь у тебя же вся жизнь впереди, встретишь еще свою настоящую любовь, обязательно встретишь! — была оскорблена в этих своих лучших, можно сказать, материнских чувствах.
С Анечкой она теперь вообще не разговаривала, только иногда (реже, чем это было заведено) приносила Бочажкам что-нибудь вкусненькое (она замечательно пекла всякие сладости и пирожки) или, отправляясь в магазин, заходила спросить, не нужно ли чего.
Так и тянулись эти зимние, уже потихоньку удлиняющиеся дни.
Беда и обида стали привычными, потеряли всякий смысл и остроту, и желание биться головой о стену от этого становилось только неотвязнее.
Дольше так продолжаться не могло. Должно же ну хоть что-то случиться?!
Да, я не возражаю, должно, конечно, только никакого мало-мальски вероятного и достоверного события, способного как-то изменить эту вязкую сюжетную ситуацию, вообразить не могу.
Хотя нет!
Как-то однажды приходит генерал вечером домой. Немного раньше обычного. Идет на кухню, ставит чайник, садится с «Красной звездой» за стол, закуривает, протягивает руку, чтобы стряхнуть пепел, и тут видит — в пепельнице лежит довольно длинный, больше половины, окурок, такие в школьном мужском туалете назывались «королевскими бычками» и очень высоко ценились.
Окурок был с фильтром, а генерал, как известно, курил только «Беломор».
— Степан!! — заорал Василий Иванович.
— Что? — из глубины квартиры отозвался подозреваемый.
— А ну быстро ко мне!
Степка, чуя неладное, приплелся не очень быстро.
— Ты что творишь, а?! — во гневе вскричал отец. — Ты совсем обнаглел или как?!
— Да чего я сделал-то?
— Чего?! — суровая папина десница ухватила Степу за тонкую шею и пригнула к столу, а шуйца сунула ему под нос пепельницу с неопровержимой уликой. — Вот чего! Уже, значит, дома покуриваем, да? Ах ты пакость такая! Ну и что с тобой делать, а? Пороть тебя, что ли, дубина стоеросовая? А? Чего молчишь? Пороть?!
Степка не успел ничего ответить на этот животрепещущий и, кажется, не вполне риторический вопрос, на кухню вошла Анечка и тихо, но внятно произнесла:
— Это я.
— Что «я»?
— Это я курила.
— Как это ты? — не понял генерал.
Аня пожала плечами и не ответила.
Освобожденный Степка возблагодарил судьбу и улепетнул быстрее лани.
— Ты что это, серьезно?.. — по виду дочери Василий Иванович понял, что серьезно, и сказал:
— Та-ак.
Наступила тишина. Анечка немного подождала и направилась к себе.
Но тут генерал возопил с новой и еще неслыханной силой:
— Да ты что?! Ты что?! Что творишь?! Ты же в положении, в конце концов?!! Ты что, не понимаешь?! Дура!! Урода хочешь родить, да?! Урода?! Мало того, что неизвестно от кого, так еще…
— Да не ори ты! Весь дом слышит!
— О, какие мы стеснительные вдруг стали! В конце-то концов! Дом слышит! А то никто не знает, можно подумать! — возмутился генерал, но громкость все-таки понизил.
— Еще раз увижу… если еще раз… я тебя… я тебе… запрещаю! Слышишь? Тут тебе не (Василий Иванович хотел сказать «бордель», но, слава богу, одумался) кабак! Не сметь в моем доме!
— Ах, в твоем доме?! В твоем, значит, доме?! — теперь голос повышала уже Анечка.
— В нашем! В твоем! Какая разница? Не цепляйся!.. Анна!.. Аня! Как же ты можешь?! Ну не надо! Я прошу тебя, Аня, я прошу! Ну, пожалуйста!
— Хорошо.
Аня повернулась и вышла из кухни, но тут же воротилась и сказала, не глядя на отца:
— Прости, пожалуйста… Ты прав… Я не буду. Правда.
Этот, по сути дела, ничтожный и глупый случай что-то поменял, вернее, начал менять в отношениях и настроениях Бочажков. Анечка устыдилась (не курения, конечно, а вообще всего своего здешнего поведения) и обозвала себя в ту же ночь бесчувственной сукой и даже … (обсценную лексику, в отличие от отца, она не считала зазорной, хотя и не злоупотребляла ею) и решила встать пораньше и приготовить отцу (о Степке и тут забыли!) завтрак.
Утром она, конечно, проспала, а если быть безжалостно точным, разбуженная прочищениями генераловой носоглотки, все-таки поленилась вставать. Но вернувшись со службы, Василий Иванович обнаружил на кухонном столе приготовленный для него и изысканно сервированный ужин!
Батюшки светы! Ошарашенность и нечаянная радость генерала сравнимы были разве что с чувствами твардовского печника, которого обруганный им Ленин не только не расстрелял и не посадил, а даже похвалил за работу!
Или лучше приведем пример менее противный — так вот у мадам де Сталь возликовал лорд Освальд, обнаружив в комнате уехавшей в монастырь Коринны свой портрет, писанный к тому же ее собственной несравненной рукою!
Ужин был, надо сказать, так себе, ничего особенного — три лопнувшие сардельки с жареной, немного подгоревшей картошкой и зеленым горошком, разогретым в сливочном масле, хотя уже давно остывшим, но так все было красиво разложено, прямо как в ресторане или на микояновских картинках, и еще был любимый генеральский салат (и любимый и генеральский — такое было почему-то у него название) — тертая редька с морковкой и с майонезом. И хрустальный графинчик с остатками той самой старки несказанно красиво и уютно преломлял и отражал свет. Генерал так и сел за стол и долго, тупо и умиленно моргая, глядел на все это дело.
Ах, доча, моя доча!
— Ну просили же вас, Василий Иванович, не употреблять этого глупого и вульгарного слова!
— Да я ведь так, про себя только. Не вслух.
— То-то не вслух!
Утром перед уходом на службу генерал постучал к дочери:
— Ань, спишь еще?
— Нет. А что?
— Мне после обеда в город надо, — врал и не краснел генерал. — Может, чего нужно купить? Ты скажи, я привезу…
— Да, вроде, все есть. Хотя вообще-то… (Вообще-то много чего было нужно, но не все было ловко отцу заказывать.)
— А хочешь, поехали вместе? — решился генерал, но сам испугался и, не дожидаясь Анечкиного ответа, прибавил:
— Можешь Машку взять.
— Да она работает до пяти.
— Ну да… Ну так что?
Аня немного подумала и сказала:
— Ну давай.
— Тогда в полпервого спускайся… И спасибо. Очень все вкусно.
— На здоровье.
Когда ровно в 12.30 генеральская «Волга» подъехала к дому, Анечка уже сидела рядом со старухой Маркеловой и гладила отчаянно мотавшую хвостом огромную черную овчарку.
Несмотря на немного расползшееся, как будто подтаявшее лицо, дочь, впервые за много дней приведшая себя в порядок, была, что ни говорите, очень хороша.
Мамина каракулевая шуба была ей велика и длинна, зато живота совсем не было заметно, а белый пуховый платок, который Травиата бог знает еще когда привезла из Приэльбрусья, был Анечке очень к лицу, хотя и делал ее немного не то что старше, а как бы стариннее.
«Какая же ты у меня красивая, девочка моя бедная. Эх!» — подумал генерал.
— Ты с этим псом поосторожнее, он недавно Юдина покусал.
— Врет он! — выпалил подоспевший хозяин. — Он сам Тома ударил, когда тот на его урода огрызнулся. Том никогда человека не укусит. Без команды.
— Ну хорошо, хорошо. Сами разбирайтесь. Деятели. Ну что, Ань, поехали?
— Ага. Ну пока, парень, давай не кусайся!
Пес, порывавшийся продолжить новую дружбу и остановленный хозяином, проводил Бочажков скулежом и лаем.
— Тебе музыка не помешает? — поделикатничал генерал.
— Нет, конечно.
— Ну-ка, сержант, найди нам чего-нибудь!
Наблатыкавшийся за время езды с генералом, Григоров нашел тотчас и не чего-нибудь, а прямо-таки Пасторальную симфонию. Первую часть. Как по заказу.
На КПП генерал вдруг захохотал, напугав Григорова и изумив дочь.
— Я им сказал песком посыпать, чтоб скользко не было, а они вон что… Заставь дурака Богу молиться! — пояснил Василий Иваныч. Вся территория вокруг КПП в радиусе метров десяти была покрыта довольно толстым слоем песка, прямо хоть детсад выводи куличики лепить.
— Ань, тебя не укачивает? Можно остановиться, подышать.
— Нет, пап, все хорошо.
Да еще как хорошо-то!
Хотя солнца не было, но морозный день был чудесен, под стать настроению наших героев, потому что и Аня тоже была возбуждена и рада — и примирению с папкой, и тому, что выбралась в конце-то концов на свежий февральский воздух.
На снежной глади выделялись далекие острова, словно две бородавки с волосками, одна побольше, а рядышком маленькая.
Вот смотрите, зрительно ведь очень точное сравнение, а по сути дела — совершенная гадость, нисколько ничего не передающая и только поганящая чистую и непочатую красоту. Так часто бывает, потому что тут ведь важна не точность, а… Да нет, точность, конечно, но совсем иная:
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.
Вот таким же наглаженным и накрахмаленным простирался по правую руку Вуснеж, а вдали чернел прозрачный лес, а слева зеленели сквозь иней ели, и почти сзади, как теперь говорят в сериалах спецназовцы, на семь часов, высился над прибрежными березами их рыжий дом, единственный в поселке видный со стороны озера.
— А помнишь, в первую зиму ходили на острова?
— Помню, конечно. Степка еще штаны сзади прожег, когда грелся у костра. И орал, как резаный, пока ты его в снег не усадил. Из-за него никаких шашлыков не жарили, так домой и побежали.
— Ага. А помнишь, я тебе коньячку подлил в чай, как маме, ну чисто символически, чтоб не замерзла, а ты пьяная была вдрабадан!
— Да не была я пьяная!
— Еще как была! Хохотала, как сумасшедшая, всю дорогу обратно и Степку столкнула с лыжни. Я от мамы такой нагоняй получил, ужас!.. А Степка, дурачок, обиделся, что ему не дали попробовать.
— Он потом сам из фляжки наглотался, уже дома. Вот кто, правда, напился, мама сразу поняла, уложила его, а он всю постель заблевал. А ты ничего не заметил.
— Ну?! Вот же засранец! Что, сержант? Как тебе нравится — семья алкоголиков?! — и генерал захохотал, а Григоров вежливо осклабился.
Так и проболтали как ни в чем не бывало всю дорогу до города.
Шулешма была похожа на все тогдашние райцентры— по краям еще деревянная, с наличниками, покосившимися заборами, белыми дымами из труб и даже обледенелыми бревенчатыми колодцами, ближе к центру — пятиэтажная и обшарпанная, а в самом центре еще сохранившая несколько купеческих и дворянских особнячков — от ампира до модерна, не представляющих, впрочем, художественной ценности и загаженных советскими учреждениями. Их постепенно заслоняла и вытесняла незабываемая брежневская архитектура — тоска и скука, застывшая в железобетоне и стекле.
— Ну так. Давай сначала, что тебе нужно купить, ну а потом… детское.
— Да мне, вроде, ничего особо не надо. Вот только обувь… Сапоги жмут, прямо больно, ноги, что ли, опухли, а мамины на каблуках, куда мне… — Аня с комической гримаской показала глазами на живот.
— Давно бы сказала, через Военторг чего-нибудь достали бы импортное. Ну давай пока тут на первое время купим, а там посмотрим.
Но то немногое, что предлагал обувной отдел универмага, было по-настоящему ужасным.
— Ну что? Совсем ничего не годится?
Аня только махнула рукой.
— Ну как же ты будешь, тебе ж гулять надо?
Генерал был так по-детски огорчен, что Анечка, которая уже наливалась привычной злобой на всю эту привычную безнадегу, улыбнулась и задорно сказала:
— А чтобы гулять, у нас валенки есть!
— Ну вот, будет моя дочь в валенках ходить!
— Еще как будет! Лучше обуви для зимы нет! В Москве, кстати, многие теперь носят, самые выпендрежники. Так что будем хипповать! Калоши только купим, это они, вроде бы, еще не разучились делать.
Хотелось бы генералу в воспитательных целях заступиться за советскую легкую промышленность и доказать клеветникам России, что наши сапожники умеют не только отливать мокроступы, но и, к примеру… да примеров-то никаких и не нашлось. Действительно, ведь бракоделы и халтурщики, как будто безрукие все, да и безглазые и безголовые, в конце концов!
Калоши были куплены, и я спешу ответить на резонный читательский вопрос: а куда же подевались чудесные якутские торбаса?
Ответ — мамины, засунутые на антресоли, почикала моль, впрочем, до этого их все равно испортил Степка, попытавшийся переделать их все-таки в мужские и поразить новых одноклассников своим заполярным видом, а Анечкины были проданы соседке по общежитию (родителям было сказано, что украдены) в тот семестр, когда Аня не получила стипендию, а родителям сообщить постыдилась, поэтому денег ей присылали, как обычно (вообще-то довольно много), и приходилось не умеющей разумно планировать бюджет командирской дочке выкручиваться и иногда даже подголадывать.
Ползунки, пеленки, пинетки и прочая младенческая амуниция в наличии, как ни странно, имелись, хотя не ахти какого качества, была куплена также ванночка, погремушки, горшок и еще много чего — нужного и не очень. Даже надувной спасательный круг в виде то ли лебедя, то ли гуся. Генерал нацелился уже и на трехколесный велосипед, но тут уж Анечка его остановила и попросила не безумствовать.
— Ну что тогда — всё? Подумай еще хорошенько, может, чего забыли?
— Пап, ну я ж не завтра…
— А когда, кстати?
— Через два… нет, полтора месяца.
— Скоро уже…
— Да.
Генерал и Анечка синхронно вздохнули и подумали: «Ой-ё-ёй!».
— Ну ладно. В случае чего еще раз приедем, делов-то. А теперь — обед. Какой ресторан предпочитаете, Ваше высочество?
Ресторанов в Шулешме было целых три — на железнодорожном вокзале, при гостинице «Вуснеж» и «Мечта рыбака», славящаяся своими рыбными блюдами.
— Пап, я ведь обед приготовила, щи твои любимые.
— Что-о? Да когда ж ты успела-то, Господи?
— Ой, чего там… Я на бульоне таком из кубиков.
— Ну спасибо! Вот ты удивила-то меня. Спасибо, дочка.
— Да пожалуйста.
— Щи — это здорово, но давай они до завтра подождут, только вкуснее будут. А сегодня давай-ка мы тебя ухой попотчуем, а? Ты ж ее очень любила, помнишь?
— Ну давай. Слушай, а сержант твой? Можно, он тоже с нами, а то неловко.
— Не выдумывай! Неловко. А обедать с генералом ему ловко будет? Дам денег, пусть в столовой пообедает, мороженое себе купит, да что хочет.
Аня вознамерилась было возражать, но представила их втроем за столиком и поняла, что отец прав — ничего, кроме неловкости, из этого выйти не могло. Да и не нравился ей совсем этот Григоров, уж больно искательный, и ресницы такие белые, как у поросенка.
— Ну чем угощать будешь? — обратился генерал к своему старому знакомому в лиловом, не очень свежем смокинге с сиреневыми обшлагами и с лицом, выдержанным в той же цветовой гамме. — Видишь, дочку тебе привел, давай уж не подведи.
— Дочь красавица, вся в отца, — угодничал официант.
— Ну ты скажешь! В отца! Да упаси Бог! В мать она у меня, в маму покойную.
Лиловый халдей счел должным на мгновение изобразить скорбь, а потом спросил:
— На первое — уху? Знатная ушица, сегодняшнего улова!
— Ну что ж ты врешь-то? Ну какого сегодняшнего? Когда успели?
— Да вот вам крест, товарищ генерал!
— Ну креста на тебя отродясь не было, а уху давай — одну порцию, двойную, в смысле уху двойную — дочке.
— А вам?
— Мне — борщ с этими…
— Пампушками?
— Да-да, с пампушками… Так… Аня, на второе что?
— Вот, — Аня показала пальцем в меню — свиную отбивную с картошкой жареной. А кислая капуста у вас есть?
— Есть, конечно, замечательная, с клюковкой, объеденье. — Лиловый поглядел на Анин живот, многозначительно улыбнулся и спросил: — А огурчиков солененьких не хотите? Есть еще помидорки и яблочки моченые.
— Ой, да и яблок моченых, пожалуйста.
— Я вам всего понемногу на тарелочку положу.
— Спасибо.
— А мне — бифштекс с яйцом и… Ты десерт какой будешь?
— Не знаю… Ой, мороженое! Мороженое с вишневым вареньем.
— Значит, два мороженого… Фрукты есть какие-нибудь?
— Яблоки. Только они не очень…
— Хорошо. Пока все.
Официант поглядел на Бочажка с изумлением.
— Может быть, морс фирменный?
— Тьфу ты! — опамятовался генерал. — Сто пятьдесят… да нет, двести грамм «Столичной». А тебе, может, шампанского? Или чего покрепче?
— Пап…
— Ну я даю! Тебе ж нельзя! Ну, морсу тогда. А для форсу выпьем морсу! — пошутил, как в детстве, возбужденный и счастливый отец.
— Ну давай, дочка, — подняв рюмку, сказал Василий Иванович. — Чтоб все у тебя хорошо было… Или нельзя заранее?
— Можно, папа, что за глупости.
— Чтоб ребеночек был жив-здоров и чтобы радовал тебя, как ты нас с мамой радовала.
Анечка поглядела на отца пристально, но нет, никакого сарказма, генерал, очевидно, говорил от чистого сердца, искренне полагая в этот момент, что учиненные Анечкой безобразия с лихвой покрываются этой самой радостью.
Увидев, как дочка уплетает моченые и действительно очень вкусные яблоки, генерал подозвал официанта и велел, хотя Анечка протестовала, упаковать как-нибудь три кило этих солений, чтобы забрать с собой.
— Ну куда столько, папа?!
— Много не мало. Степку угостишь.
Когда дело дошло до мороженого, Анечка посоветовала отцу добавить в него чуть-чуть коньяку, чтобы было еще вкуснее.
— Ну чуть-чуть, наверно, и тебе можно?
— Ага.
Генерал заказал сто пятьдесят грамм «Арарата» (меньше неудобно, дочка, мы же не крохоборы) и по неловкости вылил в свою порцию почти все, насмешив себя и дочь, и пытался хлебать эту сладкую жижицу ложечкой, а потом взял и выпил все под хохот благодарной зрительницы.
Этого веселья хватило и на халдея, прямо охреневшего от ни с чем не сообразных чаевых.
На выходе из ресторана разгоряченный генерал внезапно остановился и воскликнул:
— Парадоксель! А про коляску-то мы забыли!
— Коляску?
— Ну да. В чем ребеночка-то возить будешь?
— Да ну…
— Что да ну! Все нужно заранее, чтоб не в последний день… Или, думаешь, еще рассосется? — неосторожно съязвил генерал, но все обошлось.
Аня только хмыкнула и сказала:
— Вряд ли.
Коляски они, впрочем, не купили за неимением оных не только в продаже, но и на складе, за что генерал строго отчитал сначала продавщицу, а потом и прибежавшего директора. Но сегодня Аня даже это безропотно стерпела и не стала, в свою очередь, отчитывать отца за начальственное хамство, просто отошла подальше и делала вид, что приценивается к страшным пластмассовым зайцам и котам.
Дорога обратно не была уже такой развеселой. Все как-то притихли, глядели на пересекающий наискосок лучи фар нечаянный снег («Как в Тикси, да?» — «Да, папа».) и слушали в тихом исполнении Элисо Версаладзе Фредерика Шопена, который, как обычно, не искал никаких выгод, а домогался единственной корысти — рождать рыданье, но не плакать, и убеждал изо всех своих слабых сил — не умирать, не умирать.
И под эти звуки, и под этот быстрый промельк маховой, и под эту мглу, этот сумрак, и вот уже под эту темноту Анечка заснула, привалившись к куче покупок, да и генералова папаха клонилась к ветровому стеклу, потом резко вскакивала и опять медленными кивками склонялась все ниже и ниже.
Дома пили чай с шоколадными конфетами «А ну-ка отними» и «Белочка», купленными в городе и побелевшими от старости. Степка трескал ресторанные яблоки. Разошедшийся Василий Иванович вытащил дорогой подарочный коньяк и провозгласил тост за своих замечательных детей, и сказал, что гордится ими и желает им счастья, и чокнулся с чашками этих хихикающих над подгулявшим папой детишек, и потом сказал:
— Давайте маму помянем. Не чокаясь.
После, когда Степку уже погнали спать, Василий Иванович убеждал Аню не мыть посуду:
— Ты устала, дочка, давай я!
— Пап, ну что, ей-богу? Тут полторы чашки.
— Ну, давай я вытирать буду.
— Да зачем их вытирать, сушилка же есть. Иди уже. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Анечка, — сказал генерал и поцеловал ее в челку, пахнущую чем-то совершенно невероятным и нездешним. Венгерским шампунем на самом деле.
ГЛАВА 9
Я зачитался, я читал давно…
Р.М. Рильке в переводе Б. Пастернака
Вот бы и угомониться на этом генералу, закрепиться бы на занятых позициях и развивать потихонечку достигнутый успех, глядишь, и наладилась бы нормальная жизнь в этой чудно́й, хотя, с другой стороны, и типической семье.
Но нет! Никак не мог и, главное, не хотел Василий Иванович смириться со своим неведением, жизненно необходимо ему было и до смерти хотелось все разведать и вывести на чистую воду.
Кто таков этот коварный искуситель и будущий папаша генеральского внука (ну или внучки)?
Чьи же гены, в конце концов, будут течь в жилах (Василий Иванович именно так формулировал мучивший его вопрос) этого ребеночка?
Что вообще такое у них там произошло? Может, глупость какая-нибудь девчоночья и все еще можно поправить? В смысле — мирком да за свадебку?
В конце концов, и в Москву слетать недолго, посмотреть в глаза и поговорить по-свойски. Да запросто! Знать бы только фамилию да имя. Ну и отчество хорошо бы, а там уж через адресный стол… Василий Иванович представлял себе какого-нибудь стилягу, хотя их к тому времени уже и след простыл, наглого такого московского прощелыгу, но не окончательно потерянного, в душе хорошего, с добрыми задатками, которые генерал выявит и разовьет, но сначала, конечно, врежет от души по бесстыжей ухмыляющейся роже.
Мужик, по наблюдению поэта Некрасова, что бык, вот и эту блажь, втемяшившуюся в башку нашего героя, невозможно было выбить никаким колом и унять никакими разумными доводами.
Она стала настоящим наваждением, мономанией какой-то, неподвижная идея зудела и свербила в генеральском мозгу, как стекловата, сунутая хулиганами за шиворот.
Один раз он набрался духу и завел-таки с дочерью этот разговор, но был мягко остановлен вопросом:
— Опять? Ну вот зачем тебе это? Что изменится?
Ничего не ответил Василий Иванович. Но желаний своих неистовых не укротил.
Он и к Машке подкатывал с этими расспросами и даже Степку подбивал выпытать у старшей сестры ее жгучую тайну.
И когда в воскресенье сразу после обеда Анечка, отправляясь на прогулку, сказала, что потом пойдет с Машкой в кино на вечерний сеанс, так что придет попозже, и спросила: «А ты-то не пойдешь? Комедия чехословацкая «Призрак замка Моррисвиль», говорят, смешная. Это, вроде бы, тот же режиссер, что «Лимонадного Джо» снял (тут Анечка ошиблась, хотя, действительно, немного похоже), генерал сказал, что ему что-то неохота, и как только Анечка ушла, направился, крадучись (хотя был в квартире один), в дочкину комнату, влекомый, как котенок запахом валерианы, описанными выше похотями…
Ох-ох-ох, Василий Иваныч!
— А что такого? — подбадривал себя генерал, но сам прекрасно понимал, что именно такого в желании без спроса пошарить в чужой комнате и посмотреть, не найдется ли каких подсказок или, как сказал бы знаменитый «мент в законе», зацепок на книжных полках или в ящиках письменного стола.
Одобрить такое поведение отца и командира мы никак не можем и ни в коем случае не собираемся его оправдывать, но просим все-таки учесть смягчающие вину обстоятельства и состояние временной невменяемости или хотя бы аффекта.
Под стеклами книжных полок генерал ничего нового и подозрительного не заметил, только не очень умело вырезанную из дерева фигурку какого-то зверька, вроде бы, белки, почему-то с накрашенными красным карандашом губами и подведенными шариковой ручкой глазами.
На столе лежала в мягкой обложке нерусская книга. «Владимир Набоков. Пале фире», — прочел генерал, открыл, увидел на полях сделанные Аниной рукой мелкие карандашные переводы слов и выражений, покачал головой и положил на место. Тут же лежала странная, вытянутая по горизонтали, как альбом для рисованья, толстая книжка в зеленом переплете без названия. Раскрыв ее, Бочажок прочел на первой ксерокопированной странице заглавие «Записки об Анне Ахматовой». Ну, конечно, как же без нее!
Два нижних ящика были пусты, а верхний закрыт на ключ, но и это не остановило седовласого следопыта, никакого ключа ему не потребовалось, просунув руку под дно тайника, Василий Иванович, приподняв и перекосив ящик, легко преодолел это препятствие.
Письма! Целых два! И фотографии!
Фотки были бледные и мутные, но дочь свою Василий Иванович тут же узнал, а рядом с ней, иногда обнимая ее за голые плечи (картинки в основном были, кажется, пляжные), вырисовывался какой-то длинный, лохматый-бородатый и в очках.
Вот ты, значит, каков, сукин сын! Ну и что же ты в нем нашла, глупая ты девочка?
На конверте значился их адрес, Василий Иванович вспомнил, как позапрошлым летом удивлялся, доставая из почтового ящика чуть ли не каждый день письма, и как подтрунивал над Анечкой, а Травиата волновалась и пыталась еще тогда что-нибудь выведать.
Вместо обратного адреса стояло только К.К.
— Именно что КаКа! Ку-клукс-клан какой-то! — проворчал Бочажок и…
Как ни прискорбно мне признавать это, но никаких заминок и колебаний я не заметил, генерал жадно выхватил чужое письмо и тут же, с первой строки, задохнулся от возмущения.
«Здравствуй, бурундучок!»
— Сам ты бурундучок, козел поганый! — воскликнул про себя гневный перлюстратор, не замечая зоологической противоречивости своей реплики.
«Получил твое второе письмо, оно чудесное, и вот тебе ответ:
Те слова, что являлись блаженством для уха, — мученье для глаз.
Теплый шепот постельный и сладостный стон твой,
детсадовский смех твой
Почта не принимает, бумага не терпит. И точность отточенных ляс
Безуспешна, ведь, сколь ни глазей на Медину и Мекку
На открытках цветных, но хаджою не станешь. И больше скажу —
Не от голода страждет Тантал — от обилия яств. Твои письма
Перечитывать черт меня дергает снова и снова. Хотя побожусь,
Что приносит их ангел-хранитель. И все-таки смесь мазохизма
С онанизмом есть в этом. Ничтожество службы своей
Понимаю теперь и красот, мною писанных трудно
и тщательно, тщетность.
Как беспомощны буквы, и кто в этом мире слабей
И бедней, чем слуга их покорный. Подай же мне голос на бедность!
Между строк ничего не прочесть мне.
А помнишь, сколь много меж фраз
Умещали с тобой мы? Катулл бы считать отказался!
К информации этой изустной с тобой приучили мы нас,
И дыханьем естественным способ рот в рот нам казался!
Впрочем, речь ведь совсем о другом — о вибрации голосовых
Твоих связок, и не говоря уже об ощущеньях других — визуальных,
Например, не касаясь ни кожных, ни волосяных
Твоих нежных покровов и не углубляясь в твой сакраментальный
Мрак трепещущий, в паз, предназначенный соединять
Раздвоение наше, и не говоря уж о том, в стороне оставляя
Отдаленной, читаю я письма. Ищу, на кого бы пенять
И кому бы. И, как Филомела июнь, жду ответа.
Пиши, не ленись, дорогая!
А в остальном все по-прежнему. В Москве жара и скука. Накупайся там за меня. Целую.
К.К.».
Глаза, полезшие на лоб, и челюсть, отвисшая, как у сломанного Щелкунчика, — таким увидел генерала голубь, севший на заоконный — как это называется? Ну не подоконник же? Птица, помнившая баснословную Степкину щедрость, потолклась на этой самой жестяной фигне, привлекла двух других сизокрылых прожор и, разочарованно поворковав, улетела вместе с товарищами промышлять у солдатской столовой.
— Что за херомантия, в конце-то концов?! — наконец сформулировал Василий Иванович.
— Ну что уж сразу херомантия? Стихотворение вполне симпатичное, хотя и…
— Да плевать мне на ваши стихотворения проклятые!.. Парадоксель!.. Стихотворения! Мне бы только узнать, кто он, этот гаденыш!
— Да ничего вы тут не узнаете! Ну вот разве что Бродскому автор, кажется, подражает и не очень ловко!
— А вот мы посмотрим!.. Бродскому… Уродскому! Такой же, небось, тунеядец!
— Ну вряд ли такой же! Бродский все-таки великий поэт. В свое время Нобелевскую премию получит, между прочим!
— Ой, да знаем мы ваши премии!
И генерал стал еще раз внимательно перечитывать стихотворное послание.
— Какая Мекка? Мусульманин, что ли?
— Ну вы, как маленький, Василий Иванович. Ну это метафора такая, неуклюжая довольно…
— Онанизм — тоже метафора?
— Ну да, конечно.
— Ну поздравляю с такими метафорами! Молодцы!
И генерал обратился ко второму письму.
«Привет, Анечка!
Прости, что долго не отвечал — хотел закончить стишок, чтоб послать тебе.
Он вышел какой-то очень странный — длинный и, кажется, невнятный, но… А вот сформулировать, что это за но, я не могу. Скажу только — с таким упоением и опьянением я со школьных лет ничего не сочинял.
Напиши, пожалуйста, честно, «пустого сердца не жалей», как тебе это.
Петров обещал в Питере показать «Лиценцию» одному человеку, который может переправить ее куда следует. Двусмысленно звучит, да? Но Петров клялся-божился, что человек надежный.
Хотя большая часть этих стихов мне уже совсем не нравится, но — еже писах, писах. Да и смешно всерьез говорить о книге, число читателей которой равняется восьми человекам.
Ну вот это стихотворение, я назвал его «Зачин», потому что кажется, действительно начинается что-то новое. Хорошо бы.
Край ты мой единственный, край зернобобовый,
мой ты садик-самосад, мой ты отчий край!
Я ж твоя кровиночка, колосочек тоненький,
Ты прости меня, прощай
да помнить обещай!
Ты прости меня, прощай, край древесностружечный,
край металлорежущий, хозрасчетный мой,
ой, горюче-смазочный, ой, механосборочный,
ой ты, ой, лесостепной
да мой ты дорогой!
Ой ты, ой, суди меня народно-хозяйственный,
социально-бытовой и камвольный наш!
Дремлют травы росные, да идут хлопцы с косами,
Уралмаш да Атоммаш,
да шарашмонтаж!
Литмонтаж, писчебумаж да видимо-невидимо,
да не проехать — не пройти, да слыхом не слыхать!
Ах, плодово-ягодный, ах, товарно-денежный,
ах, боксит, суперфосфат,
да полно горевать!
— Господи Боже! Это ж белая горячка! Самая настоящая! — ужаснулся злосчастный читатель.
Да полно горе горевать, мать варяго-росская!
Тьфу, жидо-масонские шнобели-крючки!
Что ж вы, субподрядчики, сменщики, поставщики?
Что же вы, поставщики,
дурни-дураки?
Эх вы, дурни-дураки, военно-спортивные,
грозные, бесхозные, днем с огнем искать!
Где же ваши женушки да где же ваше солнышко?
Хва, ребята, вашу мать,
да горе горевать!
Да полно горе горевать, золотые планочки,
об рюмашечку стакашек — чок да перечок!
Спят курганы темные, жгут костры высокие,
прийдет серенький волчок
да схватит за бочок!
Прийдет черный воронок, ой, правозащитные!
Набегут, навалятся, ой, прости, прощай,
ой, лечебно-трудовой, жди-пожди, посасывай!
Бедненький мой, баю-бай,
спи, не умирай!
Прийдет серенький волчок, баю-баю-баиньки,
и дорожно-транспортный простучит вагон.
Заинька мой, заинька, маленький мой, маленький,
вот те сон да угомон,
штопаный гондон.
Заинька мой, попляши, серенький мой, серенький!
Избы бедные твои, пшик да змеевик.
Край мой, край, окраина, краешек, краюшечка.
Совесть бедная моя,
заветная моя.
Совесть, совесть, никуда не уйти мне, матушка.
Тут я, туточки стою, агитпроп мне в лоб.
«Здравствуй, здравствуй», — я пою, а во поле чисто,
чисто во поле, дружок.
Зайка скок-поскок.
— Да-а, — протянул немного успокоившийся, но все еще изумленный генерал. — Типичный бред сивой кобылы. Как же Анечка-то не видит?
— Так, может, это вы не видите? Дочь-то в поэзии побольше вашего понимает!
— Да чего тут понимать-то?! Херомантия сплошная!
— На балуете вы нас разнообразием суждений, товарищ генерал, не балуете.
— Пусть тя черти на том свете балуют со всеми твоими этими метафорами и херафорами!
Никогда, никогда Василий Иваныч по-настоящему не любил и не понимал поэзию. Начиная с детского разочарования в «Евгении Онегине» (об этом мы расскажем подробно в свое время), он стал ощущать, что без руководящей роли настоящей музыки эти хитросплетения словес чересчур уж двусмысленны (а то и трех- и четырех- и n-смысленны) и за редким исключением (Лермонтов, например) не вызывают того невинного и головокружительного парения духа, которое дарили смычковые, медные и даже ударные и которое, по убеждению Бочажка, было смыслом и целью всякого искусства и культуры в целом.
Да даже и оперные либретто! Ну взять ту же «Кармен», о которой уже шла у нас речь. Музыка же просто великолепная, а герои?! Дезертир, ставший уголовником, а под конец и убийцей, и, не побоюсь этого слова, …!
А сцена, где этот сброд издевается над офицером?!
«Ах, капитан, мой капитан!»
И пусть не брешут про то, что это, мол, социальный протест такой! Ага! Прям революционерка у нас Кармен! Клара Цеткин и Роза Люксембург! Просто на передок слаба ваша свободолюбивая цыганка, и все!
Как же генерал радовался щедринской «Кармен-сюите» — вся музыка осталась, может, даже и выразительнее еще, а вот бесстыдства этого как не бывало!
Кстати, и «Лакме», с точки зрения верности воинскому долгу, тоже подгуляла!
Да что там легкомысленные французы — вот «Иван Сусанин», казалось бы, уж тут все в порядке, герои как на подбор, тема патриотическая, но и здесь либреттист умудрился напортачить — Ваня, чтобы предупредить Минина, торопится так, что верный конь в поле пал, добегает пешком до цели и что? — достучаться не может! Как вам это нравится, а? А где же часовые? То есть дрыхнет, получается, караул, а может, и все войско! Василий Иванович знал, конечно, что первоначально опера Глинки называлась «Жизнь за царя» (вынужден был композитор замаскироваться от жандармов Николая Палкина!), но не мог себе вообразить, насколько Сергей Городецкий, преодолевший и символизм, и акмеизм, и вообще всякие приличия, покуражился над текстом барона Розена.
И очень досадно было генералу, что князь Игорь не наказал как следует мерзкого князя Владимира и других гадов, воспользовавшихся его отсутствием, во всяком случае, в опере об этом не спели ни слова.
В общем, никакого особого пиетета перед писателями и тем более поэтами у Василия Ивановича не было, и то, что Анечкин избранник оказался стихоплетом, только усугубляло его вину.
На дне ящика лежал обыкновенный канцелярский скоросшиватель, раскрыв его, генерал на первом листе папиросной бумаги увидел от руки написанные иностранные слова «Licentia poetica», а под ними наискосок надпись: «Анечке с любовью и благодарностью. Кирилл».
— Так! Имя есть. Ну давай, Кирюха, посмотрим, чего ты там еще нахерачил…
Из пустого в порожнее льется
Эта музыка. Хочется жить
Несмотря ни на что. Остается
Улыбнуться, прищурясь на солнце,
Чем попало тоску ублажить…
— Ну медаль тебе за самокритику! Так и есть — из пустого в порожнее! — поиронизировал генерал и, лизнув палец, перевернул тоненькую страницу.
СОНЕТ
Неплохо жить, по «Правде» говоря.
Беги трусцой, чтоб с жиру не сбеситься.
На пять процентов чаще веселится
Народ сегодня, чем позавчера.
Ждать нечего. И нечего терять.
Скажи солдату: «Дембель не случится!».
Он перестанет службой тяготиться
И крикнет троекратное «Ура!».
И вот опять транслируют парад,
Благодарят за радостное детство,
Ведь нет войны, а прочее мура.
Ждать нечего. И никуда не деться.
И жить неплохо, если приглядеться.
И все-таки — пора, мой друг, пора.
— Чего тебе пора, чего пора, гаденыш? Пора вот с такими, как ты, разобраться уже в конце концов!
— Это цитата из Пушкина.
— И что?!
— Да ничего. Орать не надо.
Мы не увидели небо в алмазах —
Небо в рубинах увидели мы!
Девушек наших, подруг ясноглазых,
в противогазах увидели мы.
На коммунальных своих керогазах
Студень говяжий готовили мы.
И не увидели неба в алмазах.
На автобазах и овощебазах
дивный узор хохломы-Колымы.
Сколько, о, сколько же МАЗов и КРАЗов
мерзлой землею наполнили мы!
Сколько в казарме ночной унитазов,
Кафеля сколько отдраили мы.
И не увидели неба в алмазах.
В клеточку небо увидели мы!
Грудью прикрыли от вражьего сглаза
Стройки, помойки и фабрики мы.
Ели буржуи вдали ананасы,
рябчиков жрали — не дрогнули мы!
Стойко стояли за мясом и квасом.
Так вот ни разу не дрогнули мы!
И не увидели неба в алмазах…
Так вот, о, Господи Боже, ни разу
не отреклись от тюрьмы да сумы!
Лишь по внеклассному чтенью рассказы
о делегатах родной Чухломы,
лишь диамата точеные лясы,
тихо кемаря, прослушали мы…
Видели — Орден Победы в алмазах,
неба в алмазах не видели мы.
Генерал вспомнил, как Ленька распекал нерадивого дневального: «Я те, …, покажу небо в алмазах!».
Других ассоциаций эта фраза не вызвала, и текст остался для Василия Ивановича не очень вразумительным. Ясно было одно — автор измывается над нашей жизнью и исторической памятью. Вот от кого Анечка нахваталась всех этих гадостей! Генерал в эти минуты даже про Ахматову позабыл.
Следующий стишок его немного успокоил. В нем хотя бы ничего безумного не было, и, в общем, все было понятно и, вроде бы, правильно.
КИНО
Гордо реют сталинские соколы
В голубом дейнековском просторе.
Седенький профессор зоологии
Воодушевил аудиторию.
Отдыхом с культурой развлекаются
В белых кителях политработники,
И на лодках весельных катаются
С ними загорелые курортницы.
Пляшут первоклассницы, суворовцы,
Льется песня, мчатся кони с танками.
Сквозь условья Севера суровые
В Кремль радиограмму шлет полярник.
Комполка показывает сыну
Именное славное оружие.
Конного вождя из красной глины
Вылепил каракалпакский труженик.
И в рубахе вышитой украинской
Секретарь райкома едет по полю,
И с краснознаменной песней-пляскою
Моряки идут по Севастополю.
Свет струит конспект первоисточника,
Пламенный мотор поет все выше,
Машет нам рукою непорочною
Комсомолка с парашютной вышки.
— Ну это, вроде, и ничего. Только рифмы какие-то — «соколы — зоологии»! Ни в склад ни в лад, поцелуй кобылу в зад.
— А кобыла без хвоста — твоя родная сестра! Ох, Василий Иванович! Ну что вы умничаете? Вы ведь в этом ни уха ни рыла! Это ж специально.
— Чо специально? Специально плохо написано?
— Ну если хотите, да.
— И за каким хреном?
— Ну чтобы подчеркнуть… Ой, Василий Иваныч, долго объяснять.
— Торопишься?
— Да я-то нет, а вот вам бы посоветовал поспешить и закругляться уже с этим обыском. Неровен час, дочь вернется. Вот с ней о рифмах и поговорите.
— Чо это она вернется? До сеанса два часа почти.
— Ну глядите!
Генерал, действительно, поглядел на часы еще раз и решил все-таки поторопиться и не читать все подряд. Отлистнув страниц десять, он с сардонической усмешкой читал:
Рожденные в смирительной рубашке
И бесноваты, и смиренны мы.
Как брошенные избы, полны тьмы
Зияют наши души нараспашку.
И стойки мы, как куклы неваляшки —
Основы тяжки, и пусты умы.
Наследье Колымы и Хохломы
Заметно в наших ухарских замашках…
Не дочитав, генерал перескочил еще несколько страниц.
Закрывай поддувало, рассказчик!
Нам никто и ничто не указчик —
Лишь висящий на вахте образчик
Заполненья пустого листа!
Пункт за пунктом диктуют уста,
Вправо-влево каретка шагает.
Это к сведенью жизнь принимают
И приветствуют звоном щита
И меча на петличках блестящих!
Долог век наш, но дольше наш ящик,
Исходящих, входящих, пропащих,
Завалящих, вопящих тщета!
Суд да дело по форме ведутся,
Канцелярские кнопки куются,
Восклицательный знак резолюций
Вырубает дремучий сыр-бор!
Вот он, оперативный простор
Для веденья отчетности полной!
Лишь рисунки и буквы в уборной
С циркуляром пускаются в спор!
Это демон мятежный поллюций,
Это бес жизнестойкости куцой
В темноте подноготной пасутся,
На учет не встают до сих пор!
Это жизнь забивается в щели,
В швы рубах у служивых на теле,
Мандавошкой кусает в постели
Невзирая на званье и чин!
Это дух от монгольских овчин,
От варяго-российских портянок,
От сивушных поминок-гулянок,
От храпящих в казарме мужчин!
Это прет самогонная смелость,
Аморалкою кровь закипела,
Заводи персональное дело!
Но для этого нету причин.
Ведь при взгляде на бланк образцовый
Пропадает эрекция снова,
Ибо мягкая плоть не готова
Смерть попрать, а души не видать,
Ибо служба нам родная мать
И казна нас одела-обула,
Разжимается грязная дуля,
Чтоб оратору рукоплескать!
Двуединая наша основа —
Жир бараний баскакского плова,
И артикул творенья Петрова,
Ать-два-три! и Етить твою мать!
— Да что же это такое, в конце-то концов! Ну ни черта же непонятно! Ну не может же быть, что в самом деле псих?!. А вдруг по наследству такое передается? Главное, все слова по отдельности, вроде, понятны, а вместе никакого смысла. Как будто по-югославски или по-болгарски.
— В некотором смысле так и есть. Вы просто не владеете этим языком, понимаете?
— Каким это языком?
— Ну, скажем, современной поэзии.
— А он у вас не русский, что ли, уже?
— Да русский, конечно, просто…
Но генерал меня уже не слушал, он перевернул сразу сантиметра полтора страниц и, к моему удивлению, хмыкнул.
— Что это вас развеселило?
— Да вон. Смешно.
Клизмы куполов направлены
Богу в зад.
И молитвы православные
Ввысь летят,
Чтобы Бога гневом вспучило
Злым назло,
Счастьем сирых и измученных
Пронесло.
— Это вам остроумным кажется? А по-моему, гадость и глупость… Вознесенщина какая-то голимая. Вообще очень странный автор. Поразительно неровный. Есть тексты прямо неплохие, а есть ну совсем говно!
— Может, все-таки — ку-ку?
— Да перестаньте. Никакой не ку-ку. Скорее всего, просто разного времени стихи, есть явно подростковые. А вкуса и строгости к себе не хватило, чтобы выбросить. С андеграундными писателями такое часто случалось.
— С какими?!
— Неважно. Читайте уж быстрее. Только задерживаете всех, весь сюжет застопорился, а толку никакого!
Генерал не ответил и продолжил чтение. Дальше были стихи, более или менее понятные и менее вредоносные.
Безнадежны морозы авральные.
Март лепечет, печет горячо.
Подрывает основы февральские
Черноречье подспудных ручьев.
Словно карта Европы контрастная
(Майский зной и февральская тень),
Оживляется улица грязная
В ожиданье больших перемен.
Видно, скоро конец двоевластию —
Для успеха работ посевных
Белый царь отречется от царствия
В пользу сброда и черни весны.
* * *
Одуванчики еще не поседели,
Ноги женщин поражают белизной…
— У, кобелина! Ноги его поражают! — не стал дочитывать уязвленный отец.
Безнадежны морозы авральные.
Март лепечет, печет горячо.
Подрывает основы февральские
Черноречье подспудных ручьев.
Словно карта Европы контрастная
(Майский зной и февральская тень),
Оживляется улица грязная
В ожиданье больших перемен.
Видно, скоро конец двоевластию —
Для успеха работ посевных
Белый царь отречется от царствия
В пользу сброда и черни весны.
* * *
Одуванчики еще не поседели,
Ноги женщин поражают белизной…
Генерал, взъяренный посвящением, уже не сдерживался:
— Мудак ты, а не Божье творенье! Вон откуда боженька-то у нас объявился, вот кто тебе, дура, мозги твои куриные засерает! А то — академик Павлов! Келдыша бы еще приплела!
И тут хлопнула дверь, и по Василию Ивановичу пробежала вторженья дрожь. Прижав проклятый скоросшиватель к сердцу, колотящемуся, как тот барабан, по которому бухал рядовой Блюменбаум, Бочажок остолбенел и покрылся противным потом.
— Естедей! — заорал во все горло Степка. — Ол май трабыл сим со фаревей! Нау ит лукс — па ба-ба ба-ба-ба! О ай билив ин естедей!
Он протопал по коридору к себе, но тут же вернулся, продолжая приснившуюся Полу Маккартни песню уже по-русски:
— Нет! Нам! Нет, нам не найти, кто же пра-ав, кого-о вини-ить! Нет! Нет к тебе пути! Нам вчера-а не возврати-и-и-ить! Естедей!
Дверь хлопнула еще раз, и все стихло.
Василий Иванович выдохнул и сглотнул.
Он так обрадовался, что его не застукали, что даже и не разозлился на какофонического сынка, которому тысячу раз было сказано не грохать со всей дури дверью и не петь.
Для святой злобы был объект посерьезнее.
Над книгою в июльский день
Сидел у тещи на балконе.
— Ах ты ж сука! Женатик! Вот в чем дело! Понятно теперь, чего она в молчанку играет. Благородство свое показывает. Принчипесса!.. Ну, Кирюша, ну, сволочь! Доберусь я до тебя! Ох, доберусь! И с тещей твоей поговорю, пусть порадуется на зятька!
Сходил за квасом бы — да лень,
Внимал певцам в соседней кроне.
И слышал за спиной стрельбу
И шум цехов телеэкранных,
И говор хающих судьбу
Жены с мамашей, богом данных.
За жизнью искоса следил
Жильцов строительной общаги,
Неуловимый кайф ловил
И прикреплял его к бумаге.
Ленивый ветер шевелил
Над ЖЭКом выцветшие флаги.
И кучевые облака
Стояли в небе на века.
— Ну полно вам яриться, Василий Иваныч. Может, он развелся уже давным-давно. Вот лучше гляньте — какой про осень стишок. Очень неплохой, на мой взгляд. Подправить только чуть-чуть в одном месте — и прямо настоящие стихи.
Канареечный ясень, малиновый клен,
хриплый жар неокрепшего гриппа
и ко дню Конституции сотни знамен,
и уже обгоревшая липа.
На бульваре, где все еще зелен газон,
Никого, только каменный маршал.
И обложен, как горло, пустой небосклон.
Боль все глуше, а совесть все старше.
Это все — Конституция, боль и бульвар,
Клен да липа, да маршал незрячий,
Жар гриппозный и слезный, бесхозный мой дар
Ничего ровным счетом не значат.
— Ну и чего хорошего? Галиматья же форменная! Можешь ты мне объяснить вразумительно?
— Нет.
ДЕКАБРЬ
Отшелушилась охра и опала.
Белилам цинковым доверившись, пейзаж
Замызган и затерт. Лишь свет полуподвальный,
Чердачный колотун, наждачный говор наш.
И гарью стылою, бесстыдною, венозной
Вороньей сажею мы дышим и поем.
— Гарь-то почему венозная? А, умник?
— Да не знаю я, мне это вообще не нравится. Да, может, просто для рифмы. Ну так и есть!
В кровь обдирая рот, христосуясь с морозной
Стальной неправдою, Петровым топором.
— М-да. Отказать категорически… А вот, Василий Иваныч, по вашей части стишки:
<
СЛОВО О ПОЛКУ Н-СКОМ
1. Строевой смотр
В кирзе чугунной воин запечен.
Для запаха добавлены портянки.
Плац чист, как помышленья пуританки
И, как вакханки похоть, раскален.
И по ранжиру выстроенный взвод
Похож на диаграмму возрастанья
Сознания и благосостоянья,
Которому подвержен наш народ.
Ласкает взгляд прекрасный внешний вид —
Петлички, бляхи, сапоги и лычки.
Взвод получил за экстерьер «Отлично»,
И замполит бойцов благодарит.
— При чем замполит-то? Какое ему до строевого смотра дело? Опять для рифмы?
— Не исключено.
2. Самоволка
Ночи чифирь просветлел
От лимонного сока луны.
Запах портянок уныл.
Телу постыла постель.
Выдь в самоволку. Урчит
Среднеазийская глушь.
Лишь часовой на углу,
Тушью начертан, торчит.
Озеро. Небо. Земля.
Паховая теплынь.
Тело намылилось плыть.
Слышится шаг патруля.
— Что это за «выдь»?
— Ну, как у Некрасова — «Выдь на Волгу, чей стон раздается…».
— Тоже мне Некрасов нашелся… А портянки стирать надо почаще, а то запах ему уныл. Не мне ты попался, сучонок.
И Бочажок мечтательно вздохнул.
3.
3.
Личный состав на просмотре кино.
Жаркое небо дивится в окно
На уставную заправку постелей.
Тихо кемарит дневальный без дела.
Он худосочен и стрижен под нуль
И под восьмерку ремень затянул.
В Ленинской комнате сонная тень,
Стенды суровые смотрят со стен.
Маршал крепить и беречь призывает.
Кто-то в курилке гитару терзает.
Рыжий ефрейтор грустит над письмом.
Машка-дешевка забыла о нем.
4.
Я помяну добром казенный дом
И хлопоты фальшивые, и дам
Из шулерской колоды сновидений,
За то, что был я молод, и за то,
Что на разводе духовой оркестр
На фоне непомерного заката
Ни в склад ни в лад прощался со славянкой.
Ну и за то, уж кстати, что славянка
меня не дождалась… Еще за то,
что утром благовония лились
Из розовой степи. И я зубрил
Законы злобы и стихосложенья.
На месте генерала я бы не преминул съязвить, что злобности-то автор, видать, обучился, а вот стихосложению что-то не очень, на троечку с минусом.
Но Василий Иванович сам был уже чересчур озлоблен, чтобы шутки шутить!
Казенный дом! Это он армию с тюрьмой, что ли, сравнивает?!
Выписывать дальше незамысловатые и однообразные реакции генерала смысла особого нету. Читатель проницательный сам их может представить, а другие обойдутся. И так уже эта глава непомерно раздулась, вот-вот лопнет, как лягушка (нет не крыловская, которая тягалась с волом, а настоящая, из детства, которую злые мальчишки, вставив в задницу соломинку, надули, и которую К.К. поминает в нижеследующих стихах — неточно и не очень умело).
Майский жук прилетел из дошкольных времен.
Привяжу ему нитку на лапку.
Пусть несет меня в мир, где я был вознесен
На закорки веселого папки.
В забылицу о том, как я нравился всем,
В фокус-покус лучей обожанья,
В угол, где отбывал я — недолго совсем
По доносу сестры наказанье.
Где страшнее всего было то, что убил
Сын соседский лягушку живую
И что ревой-коровой меня он дразнил,
Когда с ветки упал в крапиву я.
В белой кухне бабуля стоит над плитой,
Я вбегаю, обиженный болью,
Но поставлен на стул и читаю Барто,
Умиляя хмельное застолье.
И из бани я с дедушкой рядом иду —
Чистый-чистый под синей матроской.
Алычою зеленой объемся в саду,
Перемажусь в сарае известкой.
Где не то что оправдывать — и подавать
Я надежды еще не обязан!
И опять к логопеду ведет меня мать,
И язык мой еще не развязан…
В этом месте генерал потерял терпенье и скакнул к самому концу:
Вот родная земля со следами былой красоты,
Кою стерли с лица ее — значит, была макияжем.
И со звездами красными мирно ужились кресты
На кладбищах, где тоже костьми мы когда-нибудь ляжем.
И смешаемся с глиной, с родимой своею землей,
И она нам не пухом — матрацем казарменным будет.
И вповалку сгнием, и безликой солдатской гурьбой
Мы столпимся у входа, когда нас архангел разбудит.
В час, когда протрубят нам подъем, мы предстанем Отцу,
Как молитву, читая наколки свои: «Бог не фраер!».
— Опять двадцать пять!
Генерал перевернул еще одну страничку, но последнее стихотворение, на мой взгляд, совсем неплохое, он прочесть уже не успел.
Вот родная земля со следами былой красоты,
Кою стерли с лица ее — значит, была макияжем.
И со звездами красными мирно ужились кресты
На кладбищах, где тоже костьми мы когда-нибудь ляжем.
И смешаемся с глиной, с родимой своею землей,
И она нам не пухом — матрацем казарменным будет.
И вповалку сгнием, и безликой солдатской гурьбой
Мы столпимся у входа, когда нас архангел разбудит.
В час, когда протрубят нам подъем, мы предстанем Отцу,
Как молитву, читая наколки свои: «Бог не фраер!».
— Я тебе не помешаю? — раздался за спиной у Василия Ивановича тихий голос ядовитой змеи, не иначе — черной мамбы.
— Ай! — по-бабьи вскрикнул Бочажок. — Я это… Ты не подумай… я просто… я хотел…
Взгляд был еще страшнее голоса. Помолчали.
— Ну если ты закончил, я бы попросила тебя, если не трудно, конечно…
— Ну прости, ну прости! Ну что ты сразу… Я просто хотел узнать, кто он такой, ну не надо так, Аня!
— Я могу остаться одна?
Генерал опустил свою бедовую головушку и вышел — красный, как рак, немой, как щука, и беспомощный, как лебедь, запряженный за каким-то хером в непосильный воз.
ГЛАВА 10
Не стоит восставать против обычаев страны, в которой живешь; это ничего не принесет, кроме страдания: а в таком маленьком городке, как наш, все сразу становится известным, все передается из уст в уста..
Ж. де Сталь в переводе М. Черневич
От каких же ничтожнейших случайностей и бессмысленных мелочей зависит подчас наше благополучие! И даже не утлому челну в нелюдимом море оно подобно, а непрочному и невесомому воздушному шарику, на котором Бибигон отважился покорять воздушный океан.
Задумайся об этом, о, проницательнейший из читателей, и не возносись духом, не кичись Евклидовым умом, не надо. На всякого мудреца у нашей быстротекущей жизни довольно глупостей, и буквально на каждую хитрую жопу отыщется у нее что-нибудь эдакое — с винтом!
Вот не купи генерал этих моченых яблок в «Мечте рыбака» или купи их хотя бы не в таком раблезианском количестве (даже Степка до сих пор не справился), Анечка бы не вспомнила о них и не почувствовала бы уже в зрительном зале неодолимое желание, осталась бы смотреть смешное кино, Василий Иванович успел бы замести следы — и не разразилось бы никакой катастрофы, и все было бы хорошо! Но что проку мусолить эти бесконечные бы да кабы! Только еще больнее и обиднее от этого.
И как будто и не было сладостной и краткосрочной семейной идиллии, все тут же вернулось на круги своя и вращалось теперь в этих замкнутых и порочных кругах, как заевшая пластинка или как танк с перебитой гусеницей в кино про войну.
Правда, в отличие от первых дней своего пребывания под отчим кровом, Анечка не валялась целыми днями на неубранной кровати, а стала все время, остающееся после выполнения домашних обязанностей (которые она отрабатывала теперь со злобной щепетильностью), проводить на свежем воздухе или в Машкиной библиотеке.
Гуляла она, действительно, в старых валенках с калошами и в мамином пуховом платке, не том белом, который был совсем уж тоненький и ажурный, а в обыкновенном темно-сером, да еще и повязывала она его как-то по-старушечьи. Хотела ли она своим колхозным видом эпатировать гарнизонное общество или просто было ей глубоко начхать, но результатом такого неглижирования стали обидные сплетни о генеральской скупости. Вроде, не самая бедная семья, могли бы, кажется, дочку приодеть и поприличнее, ходит, как пугало огородное!
Да еще и Степка стал щеголять в Анечкиных любимых джинсах (на ней-то они уж давно не сходились) — настоящих, фирменных, тертых до белизны и в некоторых местах даже залатанных замшей от старых перчаток! А поскольку он по недосмотру отца ходил не в зимнем пальто, а в демисезонной курточке типа матросского бушлата, сшитой Травиатой Захаровной из старой шинели и уже коротковатой, то эти заплатки бросались в глаза и подливали масла в огонь гарнизонного злоязычия.
Не любили Василия Ивановича в поселке, уважали, боялись, но не любили. Большинство сослуживцев и соседей разделяло мнение, высказанное однажды пьяным Пилипенко:
— Хороший ты командир, Василий Иваныч, ничего не скажешь, офицер — первый сорт, комар носа не подточит! Это да! Но человек! Ты не обижайся — дрянь-человек! Души в тебе нет, ну нету души, понимаешь? Один гонор!
Ну а гонор каждому нормальному человеку хочется сбить, поэтому слухи о генеральской скаредности распространялись с энтузиазмом и выслушивались с удовольствием.
До Василия Ивановича, впрочем, и тем более до самой Анечки эти поносные речи не доходили, одна Лариса Сергеевна переживала и огорчалась за соседей и пыталась оспаривать бабьи пересуды.
А когда февральское солнышко стало совсем уж по-весеннему сиять в безоблачной лазури и отражаться от снежных и ледяных покровов, Анечка добавила к своему наряду последний пугающий штрих — огромные пластмассовые солнцезащитные очки, тоже мамины. Старуха Маркелова, столкнувшись с ней в дверях подъезда, охнула и долго крестилась и шептала ей вслед.
Вот в таком виде Аня, наведя порядок в квартире и приготовив обед (первое, второе и даже третье — компот из сухофруктов или кисель, так что никто ни в чем не сможет упрекнуть, ешь, папочка, на здоровье!), ежедневно отправлялась на прогулку.
Ну первое и третье, говоря по правде, стряпалось не каждый божий день — раза два, а то и раз в неделю. Да и котлеты или там вуснежская свежая рыба, поставляемая пьяницей и, видимо, браконьером Фрюлиным, жарились тоже с расчетом и на завтра, и на послезавтра, так что не такую уж непосильную ношу взвалила Анечка на свои хрупкие плечи, как это казалось удрученному генералу, который пару раз даже осмелился упрашивать дочку не надрываться так, но ответа не удостоился и теперь шпынял Степку за то, что мало помогает сестре, хотя тот помогал как раз очень много, тот же фарш прокручивал именно он, и в магазин бегал, и полы мыл по субботам, Аня только пылесосила зачем-то каждое утро.
Выполнив свой ежедневный долг (нет, все-таки похожа она на своего зануду-отца), Анечка выходила из дому и, шествуя важно, походкою чинной, с холщовой хипповской сумкой через плечо (маминого изготовления, разумеется) направлялась к Вуснежу.
Войдя в рощу, Анечка оглядывалась и, если никого вокруг не было видно, осторожно садилась на ледовую дорожку, по которой, помните, пронесся в ночи ее безутешный отец, и устремлялась на попке вниз.
Завитки каракуля замедляли скольжение, поэтому спускалась она с безопасной, но все равно приятной и волнующей скоростью. Перед трамплином Аня тормозила калошами и варежками, поднимая искрящуюся снежную пыль и однажды напугав и тут же обрадовав дурака Тома, который обслюнявил ей все лицо и долго не давал подняться, восторженно лая и напрыгивая на хохочущую и отбивающуюся будущую мамашу, пока его не оттащил и не наказал хозяин.
Встав и отряхнувшись, Анечка доставала из сумки портативный радиоприемник «Кварц» в кожаном чехольчике, вешала его на шею и дальше шла уже под музыку толстых или завывания жуков.
Бедный Василий Иваныч! Он, конечно, уже свыкся со своим музыкальным одиночеством, но от этого ситуация не становилась менее трагичной или даже трагедийной.
И было мукой для него, что людям музыкой казалось! — если позволительно так вот использовать волшебные строки царскосельского лебедя.
Впрочем, сейчас транзисторная музыка никого мучить не могла, потому что Анечка сворачивала не направо, где располагался пляж и, так сказать, променад и где даже зимою можно было встретить прогуливающихся обитателей городка или патруль, выслеживающий нарушителей дисциплины, а налево, к устью впадающей в озеро речки Мережки, куда вела узенькая тропка, неизвестно кем и зачем проложенная.
Так вот неспешно, торжественною иностранкою брюхатая Анечка несла легкий крест одиноких прогулок еще километра полтора, забиралась в места совсем уж безлюдные и устраивала бивак под огромной старой сосной на крутом берегу, полусгоревшей от некогда ударившей в нее молнии.
Из сумки извлекались китайский термос, бутерброды и книжка «По направлению к Свану», сама сумка служила подстилкой, Анечка удобно усаживалась, привалившись спиною к сосне, наливала кофе с молоком, а иногда какао и читала или просто сидела и глазела на небо, на снежное озеро, на далекие фигурки любителей подледного лова и на солнце, которое уже припекало, не считаясь с календарем и температурой воздуха. Холодно совсем не было, но все-таки боязно было уснуть, и Анечка то и дело трясла головой, отгоняя медовую дрему и нахальных воробьев и снегирей, нацелившихся на остатки бутербродов.
Так что, вздумай Морозко протестировать нашу героиню: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?», она легко бы прошла это испытание.
Хотя Анечка, не обладая кротостью сказочной падчерицы, скорее всего, ответила бы: «Извините, дедушка, но, мне кажется, это не ваше дело!».
Впрочем, часа через два настойчивый мороз все-таки добирался до Анечкиной пятой точки, да и четыре остальные начинали постепенно холодеть.
Анечка поднималась и отправлялась в обратный путь.
В Машкину библиотеку она добиралась обычно к концу обеденного перерыва, пила с подругою чай, выслушивала гарнизонные новости и сплетни, а потом ложилась на потертый диван в …, вот не знаю, как назвать эту комнатку — подсобка, что ли? ну неважно, Анечка укладывалась с книжкой или журналом и чаще всего тут же засыпала, иногда до конца рабочего дня.
Но однажды она, придя в библиотеку, была неприятно удивлена — Машка была не одна и, кажется, гостью свою не очень ждала и обрадовалась ей меньше обычного.
За столом на Анином месте сидел солдатик, при появлении генеральской дочери вскочивший и покрасневший.
«Ваш нежный рот сплошное целованье!» — усмехнулась про себя Анечка.
Губы у Блюменбаума были, действительно, нежные, ярко-розовые, немного пухлые, как у молоденькой и невинной девушки или вообще у дитяти. Да и ресницы девчачьи — будто накрашенные и завитые. И брови пособолинее Анечкиных. Вот так солдат! Глаза только мелковаты. И нос смешной, коротенький, совсем не семитский. И румянец такой — маков цвет просто.
Генеральская дочь была не права, отказывая Леве в типично еврейской внешности. Она судила по друзьям-товарищам своего К.К., в компании которого она по сути впервые столкнулась с представителями этого, не устающего изумлять титульную нацию народа. Большинство ее знакомых принадлежало к двум гораздо более распространенным типам еврейских мужчин — или долгоносая, пучеглазая мелкота, или этакая ближневосточная жовиальность-брутальность.
Лева же принадлежал к гораздо реже встречающемуся подвиду, главной отличительной особенностью которого является какая-то, действительно, младенческая и женственная белизна и нежность кожи и прямо-таки фаюмская волоокость и миловидность.
Мне кажется, что возлюбленный героини «Песни песней» был именно таким, тогда понятно, почему, заглядевшись на него, она жалуется на свою черноту, и отчего так взволновалась ее внутренность, и как не устерегла она виноградника своего.
Приводим описание:
«Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других: голова его — чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза его — как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его — лилии, источают текучую мирру!»
Годам к тридцати — тридцати пяти эти красавцы обычно превращаются в лысеющих толстячков, но в ранней молодости они дивно хороши, так что даже возникают сомнения в их стопроцентной маскулинности, но это обычно бывает сущей напраслиной.
— Познакомьтесь, — сказала Маша, — Лева, Аня.
Лева кивнул и сказал:
— Очень приятно.
— Будешь чай? Или есть кофе растворимый.
— Чай. Я тебе плюшки принесла. Соседка напекла.
— Везет тебе.
— Ага. Только Степка почти все сразу стрескал. Вот только две и осталось. (На самом-то деле осталось четыре, но Анечка не удержалась и умяла под сосной две штуки.)
— Слушай, сегодня в Доме офицеров «Раба любви». Пойдем?
— Нет. Я уже видела.
— Да я тоже видела! В городе на прошлой неделе. Но все равно! Такой фильм сколько хочешь смотреть можно. Такая красота! Так все снято замечательно. Я, когда смотрела, прямо тебя вспоминала, думаю вот, наверно, Ане понравится!
— Это почему же?
— Ну ты же это вот все любишь, ну, этот период!
— Гражданскую войну?
— Ну нет, не войну, а вообще это время, ну, начало века, декадентство всякое… — Машка видела, что чем-то не потрафила строгой подружке, и смутилась. — Ну Ахматова там…
— При чем тут Ахматова, не понимаю! — сказала Анечка, помешивая ложечкой в стакане. — Фильм мерзкий, лживый насквозь, типичный совдеповский агитпроп.
— Ну что ты, Ань, ну почему?
— А потому, что убийц представляет невинными жертвами, а белогвардейцев кровожадными зверями! — Аня злобно передразнила артистку Соловей: — Господа, вы звери! — И все это в Крыму, где красные тысячи офицеров, тысячи! замучили и расстреляли! Топили в море, резали. И не только офицеров, всех — женщин, стариков. Этот ваш Михалков хуже всяких Вознесенок. Там хоть можно спросить, как Бродский: чего больше — мужества или холуйства? А тут холуйство чистое и беспримесное. Весь в папу!
— Ну Ань! — только и сказала бедная Машка.
Была она девушкой, конечно, свободомыслящей и вольнолюбивой, Сталина горячо ненавидела, над Брежневым хохотала, но комиссары в пыльных шлемах и комсомольские богини, трогательные Искремасы и адъютанты его превосходительства, да и Ленин в октябре и в 1918-м — это было все-таки святое, ну, не святое в буквальном смысле, но родное и хорошее. Нельзя же все черной краской…
— Ну ведь так красиво все…
— Ой, Машка, ну чего там красивого? Пошлость одна. Этот красавчик-подпольщик в белом. Как в анекдоте… И все, главное, так сделано, чтобы показать, какие молодцы большевики. А белые — или палачи из контрразведки, или такие дурачки и недотепы.
Блюменбаум наконец преодолел смущение и сказал:
— Странный у вас какой-то критерий. Это ведь не документальное кино.
— А в художественном, значит, врать можно?
— Да это ведь вообще не о том. Фильм ведь про любовь!
— И что? «Любовь Яровая» тоже про любовь. И «Кубанские казаки».
Вот какая у нас принципиальная и дерзновенная девочка. И неважно, что она пересказывает близко к тексту разглагольствования своего старшего товарища, ничего страшного, она ведь не просто так попугайничает, она теперь и сама в точности так же чувствует и понимает!
А жесткость ее суждений связана была не только с желанием покрасоваться и поэпатировать Машку и этого румяного рядового, но, главное, с тем, что Кирилл дал ей в тот же вечер прочесть показания писателя Ивана Шмелева, и забыть этого она уже не смогла. Я их приведу, чтобы Анечкин пафос не казался вам таким уж тупым и диким. По-моему, они страшнее его «Солнца мертвых». Если кто уже читал, пропустите.
«1. Мой сын, артиллерийский офицер 25 лет, Сергей Шмелев — участник Великой войны, затем — офицер Добровольческой армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом, служил в Армии Врангеля в Крыму, в городе Алуште, при управлении коменданта, не принимая участия в боях. При отступлении добровольцев остался в Крыму. Был арестован большевиками и увезен в Феодосию «для некоторых формальностей», как, на мои просьбы и протесты, ответили чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников, чиновников. Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и расстреляли. Я тогда этого не знал. На мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, мне отвечали усмешками: «Выслали на север!». Представители высшей власти давали мне понять, что теперь поздно, что самого «дела» ареста нет. На мою просьбу Высшему Советскому учреждению ВЦИК ответа не последовало. На хлопоты в Москве мне дали понять, что лучше не надо «ворошить» дела, — толку все равно не будет. Так поступили со мной, кого представители центральной власти не могли не знать.
2. Во всех городах Крыма были расстреляны без суда все служившие в милиции Крыма и все бывшие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся в политике.
3. Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до подштанников, босых, голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные одеяла, что подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих послали в шахты.
4. Всех, кто прибыл в Крым после октября 17-го года без разрешения властей, арестовали. Многих расстреляли. Убили московского фабриканта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных, — за то, что они приехали в Крым из Москвы — бежали.
5. В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла идти — ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех.
6. В г. Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата, Дмитрия, лично мне известных. Первый служил писарем при коменданте города. Их обвинили в разбое, без всякого основания, и, несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в Ялте без суда. Это происходило в ноябре 1921 года.
7. Расстреляли в декабре 1920 года в Симферополе семерых морских офицеров, не уехавших в Европу и потом явившихся на регистрацию. Их арестовали в Алуште.
8. Всех бывших офицеров, как принимавших участие, так и не участвовавших в гражданской войне, явившихся на регистрацию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них — инвалидов Великой войны и глубоких стариков.
9. Двенадцать офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии в январе-феврале 1922 года и открыто заявивших, что приехали добровольно с тоски по родным и России и что они желают остаться в России, расстреляли в Ялте в январе-феврале 1922 года.
10. По словам доктора, заключенного с моим сыном в Феодосии, в подвале Чека, и потом выпущенного, служившего у большевиков и бежавшего за границу, за время террора за 2–3 месяца, конец 1920 и начало 1921 года, в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке, Старом Крыму и проч. местах было убито без суда и следствия до 120 тысяч человек — мужчин и женщин, от стариков до детей. Сведения эти собраны по материалам бывших союзов врачей Крыма.
11. Террор проводили по Крыму — председатель Крымского военно-революционного комитета венгерский коммунист Бела Кун. В Феодосии — начальник Особого отдела 3-й стрелковой дивизии 4-й армии тов. Зотов и его помощник тов. Островский, известный на юге своей необычайной жестокостью. Он же и расстрелял моего сына.
Свидетельствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких расстрелянных. Было много расстреляно татар. Одного учителя-татарина, бывш. офицера, забили насмерть шомполами и отдали его тело татарам.
12. Мне лично не раз заявляли на мои просьбы дать точные сведения, за что расстреляли моего сына, и на мои просьбы выдать тело или хотя бы сказать, где его зарыли, уполномоченный от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии Дзержинского Реденс сказал, пожимая плечами: «Чего вы хотите? Тут, в Крыму, была такая каша!..».
13. Как мне приходилось слышать не раз от официальных лиц, было получено приказание из Москвы — «Подмести Крым железной метлой». И вот старались уже для «статистики». Так цинично хвалились исполнители — «Надо дать красивую статистику». И дали. Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 года по февраль 1922 года».
А потом Анечка прочла и «Окаянные дни», нынче удивительным образом экранизированные все тем же Михалковым, и совсем уж страшный «Красный террор» Мельгунова, который, будь моя воля, изучали бы на уроках истории в старших классах (и не только в России).
И поскольку моя воля хотя бы на этих страницах является единственным формообразующим принципом, я в слепой надежде втемяшить в голову читателя, что такое хорошо и что такое плохо, помещаю в книжку отрывок и из этого документального кошмара.
А композиционная стройность и стилистическая сообразность пусть идут лесом.
Слушайте, детишки.
Начну с материалов «Особой Комиссии». Дeло № 40 — «Акт расслeдования о злодeяниях, учиненных большевиками в городe Таганрогe за время с 20 января по 17 апрeля 1918 года».
«В ночь на 18 января 1918 года в городe Таганрог началось выступление большевиков, состоявших из проникших в город частей Красной армии Сиверса…
20 января юнкера заключили перемирие и сдались большевикам с условием беспрепятственнаго выпуска их из города, однако это условие большевиками соблюдено не было, и с этого дня началось проявление исключительной по своей жестокости расправы со сдавшимися.
Офицеров, юнкеров и вообще всeх, выступавших с ними и сочувствовавших им, большевики ловили по городу и или тут же на улицах расстрeливали, или отправляли на один из заводов, гдe их ожидала та же участь.
Цeлые дни и ночи по городу производились повальные обыски, искали вездe, гдe только могли, так называемых «контрреволюционеров».
Не были пощажены раненые и больные. Большевики врывались в лазареты и, найдя там раненого офицера или юнкера, выволакивали его на улицу и зачастую тут же расстрeливали его. Но смерти противника им было мало. Над умирающими и трупами еще всячески глумились…
Ужасной смертью погиб штабс-капитан, адъютант начальника школы прапорщиков: его, тяжело раненного, большевистские сестры милосердия взяли за руки и за ноги и, раскачав, ударили головой о каменную стeну.
Большинство арестованных «контрреволюционеров» отвозилось на металлургический, кожевенный и, главным образом, Балтийский завод. Там они убивались, причем большевиками была проявлена такая жестокость, которая возмущала даже сочувствовавших им рабочих, заявивших им по этому поводу протест.
На металлургическом заводe красногвардейцы бросили в пылающую доменную печь до 50 человeк юнкеров и офицеров, предварительно связав им ноги и руки в полусогнутом положении. Впослeдствии останки этих несчастных были найдены в шлаковых отбросах на заводe.
Около перечисленных заводов производились массовые расстрeлы и убийства арестованных, причем тeла нeкоторых из них обезображивались до неузнаваемости.
Убитых оставляли подолгу валяться на мeстe расстрeла и не позволяли родственникам убирать тeла своих близких, оставляя их на съeдение собакам и свиньям, которые таскали их по степи.
По изгнании большевиков из Таганрогского округа полицией в присутствии лиц прокурорского надзора с 10 по 22 мая 1918 г. было совершено вырытие трупов погибших, причем был произведен медико-полицейский осмотр и освидeтельствование трупов, о чем были составлены соотвeтствующие протоколы…
Допрошенное при производствe расслeдования в качествe свидeтеля лицо, наблюдавшее за разрытием означенных могил, показало, что ему воочию при этом раскрытии пришлось убeдиться, что жертвы большевистского террора перед смертью подвергались мучительным страданиям, а самый способ лишения жизни отличается чрезмeрной, ничeм не оправдываемой жестокостью, свидeтельствующей о том, до чего может дойти классовая ненависть и озвeрение человeка.
На многих трупах, кромe обычных огнестрeльных ранений, имeлись колотые и рубленые раны прижизненного происхождения, зачастую в большом количествe и разных частях тeла; иногда эти раны свидeтельствовали о сплошной рубкe всего тeла; головы у многих, если не большинства, были совершенно разможжены и превращены в бесформенные массы с совершенной потерей очертаний лица; были трупы с отрубленными конечностями и ушами; на нeкоторых же имeлись хирургические повязки — ясное доказательство захвата их в больницах и госпиталях».
Вот такую зарю нового мира приветствовали наши милые Искремасы, и вот такую молодость убивали на самом деле на широкой площади, и вот что на этом самом деле означал вдохновенный авангардистский призыв «Клином красным бей белых!». Кстати, среди жертв киевской ЧК, эксгумированных белогвардейской следственной комиссией, нашли и труп с вбитым в грудь клином.
Так что не только Ахматова и патлатые жуки стояли между генералом и его дочерью, но и вот это непоправимое знание. Тургеневские отцы и дети отдыхают, да и дети цветов со своими буржуазными фатерами курят марихуану в сторонке. Нет, не только с жиру бесилась Анечка, и папины надежды на то, что она вот-вот перебесится и придет в советскую норму, были наивными и несбыточными.
Справедливости ради надо отметить, что, невзирая на всю свою идеологическую предубежденность, «Неоконченную пьесу для механического пианино» Аня, пусть неохотно и против собственной воли, все-таки полюбила и даже посмотрела два раза.
В библиотеке, меж тем, пролетел тихий ангел или, если угодно, родился мент.
Машка мучительно искала какую-нибудь другую тему для общего разговора, не столько убежденная аргументами подруги, сколько боясь раздражить свою антикомсомольскую богиню.
Анечка сидела мрачнее последней тучи рассеянной бури и размышляла о том, что опять, как всегда, глупо и смешно погорячилась, тем более при незнакомом человеке. И чего она вообще тут сидит с этими дурачками и несмышленышами! Ей рожать не сегодня завтра, и вообще непонятно, как жить дальше. И захотелось Анечке поплакать, и чтоб хоть кто-нибудь понял и пожалел.
Ибо сказано: «Гормональные изменения во время беременности приводят к тому, что настроение беременной женщины резко меняется едва ли не каждый час». (http://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Psihoemocionalynye_ rasstroystva-pri_beremennosti-Neobhodimosty_ih_korrekcii/#ixzz4BNM88RcP)
Лева же никак не мог решить, ловко ли ему будет взять оставшуюся плюшку (другую уже давно оприходовала гостеприимная хозяйка). Я сам помню, какими все в армии становятся сладкоежками и как мы с сержантом Сазоновым высасывали тягучее сгущенное молоко из пробитой штык-ножом банки и заедали его овсяным печеньем. И это в казахстанскую одуряющую жару и в пыльной каптерке! Непостижимо! Не хватает, что ли, чего-то в солдатском рационе или просто тоска по гражданской жизни принимает такую странную извращенную форму?
Машка наконец нашлась:
— Смотрела позавчера «Вокруг смеха»?
— Нет.
— Ой, там этот Сан Саныч Ахмадулину пародировал. — (Машка знала, что Анечка Изабеллу Ахатовну недолюбливает — с подачи своего завистливого К.К.) — Я начала не помню, но в конце так смешно —
Нет, смысла я не понимал,
Но впечатленье колдовское!
Машка рассмеялась, а Лева с Аней улыбнулись.
— Странно, что он свои шуточки пародиями называет. Да и что там у них пародировать? — опять вспомнила и воспроизвела Аня. — Они же и без того смехотворные. — (Анечка для красоты часто говорила «смехотворный», вместо «смешной», а вместо «дурак» — «имбецил» или «шизоид», а иногда употребляла даже слова «парадигма» и «имманентный».) — Та же Ахмадулина — она ведь сама уже готовая пародия. Пародия интересна, когда берут настоящего поэта…
— Ахматову, например, да? — подлизывалась Машка.
— А я знаю на Ахматову, — сказал Лева и неожиданно продекламировал:
У попа была собака,
Он ее любил.
Она съела кусок мяса —
Он ее убил!
А под окном шелестят тополя —
Нет на земле твоего кобеля!
— Ой, ну ты что, Лева… — испугалась Машка, но Анечка хмыкнула и сказала: — Правда, смешно. Хотя, конечно, тоже никакая не пародия. А кто автор?
— Не знаю. Фольклор.
Едва за Блюменбаумом хлопнула дверь, Большая Берта насела на подружку:
— Ну? Что? Как он тебе?
— Ничего, — сдержанно сказала Аня. — Хорошенький.
— Правда же? Прямо картинка! Так бы его и… и Маша сделала пальцами, как будто тискала котенка или щенка, и засмеялась.
— Да ты ж выше его на полголовы!
— Ну при чем тут?.. Не на полголовы, а на два с половиной сантиметра.
— Ты измеряла, что ли?
— Почему измеряла, спросила.
— Ты у него спросила, какого он роста?!
— А что такого… И между прочим, Пушкин был ниже Натальи Николаевны.
Аня фыркнула:
— Пушкин!
— Да! Картина даже есть… И еще этот… Господи, как же?.. И у вас, кстати, Травиата Захаровна тоже вон насколько выше была…
— Я смотрю, ты уже и замуж собралась?
— Да ну тебя! Скажешь, — ответила, покраснев удушливой волной, Маша, а дочь генерала подумала про себя: «Да тебе-то что? Завидки берут?».
Так проводила свои дни наша Анечка, и неплохо было бы, конечно, теперь описать будничный день Василия Ивановича, показать генерала при исполнении служебных обязанностей и воинского долга. Не все же в его жизни сводилось к выяснению тягостных отношений с детьми!
Ведь целую дивизию, да еще какую — противокосмической обороны! — доверила ему наша советская Родина! Ключи от неба звездного!
Ну так как же проходили труды и дни генерал-майора Бочажка? Как именно крепил он обороноспособность страны и повышал боевую и политическую подготовку личного состава?
Вопросы резонные и в какой-то степени интересные и важные, но ответов вы не дождетесь.
Во-первых, военная тайна, а во-вторых, тайна сия мне неведома, так что совершить национал-предательство и выдать ее вам я не смогу, даже если бы очень захотел.
Вот если бы Василий Иванович был политработником, как мой папа, я бы хоть что-то знал о его службе, а так, что это была за противокосмическая оборона (тогда она была частью ПВО) — хрен ее знает, хотя я и сам служил в такой именно части, но в роте связи, на АТС, так что ни к какому сверхсекретному вооружению допуска, слава Богу, не имел.
Поэтому придется нам ограничиться выходными и праздничными днями и долгими зимними вечерами.
В один из таких вечеров генерал раньше обычного (то есть часов в десять) вышел из своего прокуренного кабинета, решив перед сном прогуляться и проветрить тяжелую голову.
С этою целью он спустился к озеру у солдатской купальни и побрел одиноко вдоль берега в сторону поселкового пляжа.
В лунном сиянии было тихо и прекрасно.
Все без исключения исполнено было неведомой генералу, но властной и непреложной предустановленной гармонии — и твердь со звездами, и люминесцентные снега Вуснежа, и далекие огоньки на другом берегу, и черные стволы прибрежных сосен, и шубертовская «An die Musik», которую Бочажок не столько сам напевал, сколько припоминал пение Павла Лисициана, совершенно не смущаясь неуклюжестью перевода:
Бесценный дар! Как часто в дни печали
Ты, исцеляя боль сердечных мук,
Уносишь мысль в заоблачные дали,
Лишь твой заслышу сердцу милый звук,
Лишь твой заслышу волшебный звук.
И, часто внемля вздохам арфы нежной,
Я, восхищенный, в облаках парю.
За этот дар, за этот дар бесценный,
О музыка, тебя благодарю,
За этот дар благодарю!
Но как писал самый остроумный из завсегдатаев ресторана ЦДЛ, — новые песни придумала жизнь!
И генерал уже издалека заслышал эти песни и нестерпимо фальшивое дребезжание гитары.
На заснеженном лунном пляже под черным спасательским грибком расположились какие-то бездельники и безбожные безумцы, пиршеством и песнями разврата вовсю ругающиеся над тишиною и благолепием морозной ночи.
Противный и мучительно знакомый мальчишеский голос запевал:
У берега качался буй!
К нему подплыл какой-то
А, с берега на это глядя,
Ему кричали: — Не балуй!..
Никогда не мог понять генерал распространенное выражение «свинцовые мерзости жизни» (у Горького, кстати, сказано «свинцовые мерзости дикой русской жизни», ну да ладно).
Почему свинцовые-то? Что же в этом металле мерзкого? В сознании Бочажка он был связан или с пулей-дурой, которая смелого боится, или с тяжестью, ни та, ни другая омерзения у Василия Ивановича не вызывали. Свинец смертельный надо было встречать грудью и вести бой, пусть даже и неравный, до победного конца или до последней капли крови, а тяжесть следовало преодолевать, взваливать на себя, стойко сносить и ни в коем случае не перекладывать на чужие плечи. Какие ж это мерзости? Ровно наоборот.
На месте великого пролетарского писателя генерал бы написал «грязные мерзости жизни», или «мерзкая грязь жизни», получилось бы не так красиво, но зато точно! Грязь (всякая, не только физическая) — вот что действительно вызывало у нашего героя омерзение, негодование, недоуменную тоску и даже страх — уж очень она иногда была густая, прилипчивая и неистребимая.
Ужасный был чистюля Василий Иванович и, как часто за глаза отмечал подполковник Пилипенко, чистоплюй! Просто Мойдодыр какой-то абстрактно-идеалистический, а не советский, умудренный марксистско-ленинской диалектикой командир.
И сейчас его окатили именно этой мерзостной грязью, плеснули из параши прямо в лицо, и мойдодырский долг повелевал немедленно смыть эту вонь и уничтожить ее источник!
Неотвратимо надвигающегося генерала никто из несовершенолетних дебоширов не видел и не слышал.
А справа молот, слева серп —
Это наш советский герб!
Хочешь, сей, а хочешь, куй —
Все равно получишь …
Все вразнобой заорали: «Деньги!», захохотали и загалдели.
— Не-не! Погодите! Там дальше еще —
У атамана Казалупа
была …
— Это что тут такое?!
Медиатор еще по инерции тренькнул по струнам, но веселия глас уже смолкнул.
Никто из хулиганов даже не выкрикнул волшебного слова «Атас!» или «Шухер!».
Пьяная компашка замерла, пораженная ужасом, но в ту же секунду и отмерла и задала такого стрекача, что о преследовании не могло быть и речи. Да и не хватало еще генерал-майору гоняться по снегу за этими шмокодявками. То, что его интересовало, он, к сожалению, рассмотреть успел, и тот, на кого была направлена благородная ярость Василия Ивановича, никуда от него деться не мог.
Не видя уже никакой красоты и не слыша никакой тишины и музыки, генерал направился домой и, едва открыв дверь, рявкнул:
— Степан!!
Из туалета медленно вышел бледный, почти синий Степка, взглянул на отца и стал икать.
Бочажок подскочил к сыну, ухватил за грудки и тряхнул так, что Степкины зубы явственно клацнули.
— Тварь! Тварь! Тварь! — кричал генерал и тряс, и тряс ватного сына, и уже бил его спиной и затылком об стену.
Но тут его самого толканули острыми кулачками в спину!
— А ну прекрати!! Ты что?! Озверел совсем?! Отпусти! Отпусти его, тебе говорят!!
Анечка, выскочившая в одной ночной рубашке, оттаскивала генерала за хлястик шинели, наконец оторвала его и чуть не упала.
— Тварь! — генерал еще раз припечатал сына к стене и отпустил.
— Это подло! Подло! Оскорблять того, кто не может ответить! — кричала Анечка, заслоняя своим телом (главным образом животом) икающего брата.
Генерал, не глядя на нее, вперив налитый кровью взор в окончательно одуревшего Степку, отдувался и подбирал слова:
— Таких, как ты… Вот таких скотов, как ты!.. Я всю жизнь таких вот… ненавидел! И презирал!
— А он, — взвилась дочь, которую никто за язык не тянул, — а он будет всю жизнь презирать таких, как ты!!
Как же ты, девочка моя, жалеть будешь потом об этих словах! Просто сгорать будешь от непоправимого стыда. Уж поверь, я по себе знаю.
Генерал наконец оторвал взгляд от сына и взглянул на дочь. Аня глаза свои бесстыжие не отвела.
И тут, как Валаамова ослица, возопил Степка:
— Дура ты, Анька! Дура проклятая! — и, обращаясь уже к спине уходившего к себе генерала, пообещал: — Я не буду, пап, не буду! — но к чему относилось это обещание — к Анечкиному ли страшному прогнозу или к распитию спиртных напитков и исполнению хулиганских песен — было неясно, думаю, и к тому, и к другому.
И вот Анечка стоит уже в коридоре одна, никак не может отойти от случившегося и чувствует вдруг…
— Ой! Ой, мамочка! Ой! Ну рано же еще! Что же это?! Мамочка! — и уже вслух и панически громко: — Папа!! Папа!!
Выскакивает полураздетый генерал, кричит: «Что?! Что, Анечка?! Уже?! Что уже?!. Не бойся, не бойся!! Все в порядке!! Девочка моя!! Больно?! Я сейчас!!», бросается к телефону, поднимает несчастного Григорова, гонит Степку за Корниенко, зачем-то просит заспанного соседа, да не просит — требует, чтобы тот ехал с ними, бегает вокруг Анечки, как заполошная курица, орет на Степку, на Григорова, явно сходит с ума и трусит гораздо больше самой первородящей, всю дорогу до города сидит, развернувшись к Анечке и держа ее за руку, всю ночь изводит медицинский персонал роддома, выкуривает полторы пачки, пытается вспомнить «Отче наш», пока наконец, под утро, Анечка не рожает ему внука, который, хотя и недоношенный на полмесяца, но и по весу — 3 кг 240 грамм, и по росту — 45 см — вполне нормальный, здоровый и покамест очень спокойный.
Конец первой книги