Опубликовано в журнале Интерпоэзия, номер 3, 2005
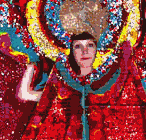
МОНТРЕ
Отрывок из письма
“Меня огорчило, что Америка такая плотоядная и присвоила себе Набокова, во всех немецких справочниках так и написано: «американский писатель».
Давным-давно, еще тогда, когда город назывался Ленинград, но уже можно было делать экскурсии не только о Пушкине и Достоевском ( это еще называется «начало перестройки» )маленькая группа людей сочиняла экскурсию с длинным названием «Россия в судьбе и творчестве Набокова», будучи не без основания уверенной, что все ключи к его творчеству лежат буквально у нас под ногами, их нужно только обнаружить, на связке были: клинопись птичьей прогулки по снегу, показанная матерью, — во дворе дома, где он появился на свет, вполне доступны были все маршруты его прогулок с няней, стояли целы и невредимы дома предков: деда со стороны отца — дом министра юстиции на улице Ракова, недалеко от Русского музея, огромный доходный дом купца Рукавишникова на Адмиралтейской набережной — деда со стороны матери, и сейчас не изменило своего профиля «учебного заведения» Тенишевское училище, куда его привозили в одном из первых автомобилей в Петербурге, а потом на нем же и отвозили домой; ничем не примечателен стоит дом в переулке около Витебского вокзала, если не знать, что там было издательство, где вышла первая книжка стихов Сирина, изданная на деньги отца… чтобы показать и рассказать все это, требовалось около четырёх часов, а потом ехать на юг, по дороге читать стихи и рассуждать о романах, выхватывая на ходу то название станции, вошедшей…, то сохранившийся железнодорожный мост, упомянутый…пока не покажется на холме в Рождествено дом с бельведером, который Набокову подарил его дядя Василий на восемнадцатый день рождения и от этого подарка он не получил никакого дополнительного удовольствия, а только сказал «этим местом и так владела душа», (уже здесь в Германии, я узнала, что дом этот не уберегли от пожара в конце девяностых, его больше нет), прогулка по парку, где я всегда читала, написанное им гораздо позже, в эмиграции: «В листве берёзовой, осиновой, в конце аллеи у мостка — вдруг падал свет от платья синего, от василькового венка… твой образ легкий и блистающий, как на ладони я держу и бабочкой неулетающей благоговейно дорожу» (такие вот его юношеские «сады надежды», только у Вас с именами и разочарованиями), дальше — пешком по берегу Оредежи, этот путь был буквально! восстановлен по его роману «Другие берега», оставалось только удивиться подробностям, которые хранила долгие годы его память — по лесу, который когда-то был «таинственным Вырским парком» на холмик (тоже бывший тогда Парнасом), с него были видны огромные, покрытые мхом, правильной формы камни фундамента, сгоревшего во время войны, загородного вырского дома его родителей. И я не помню случая, чтобы у людей, очень часто далеких от литературы и вовсе ,может быть, не читавших ни одного романа Набокова (тогда как-то больше популярны были «Дети Арбата») не теплели глаза или даже не наворачивались слезы, когда они слушали стихотворение «С серого севера вот пришли эти снимки, — жизнь успела не все погасить недоимки, — знакомое дерево вырастает из дымки, — вот на Лугу шоссе, дом с колоннами, Оредежь, отовсюду почти — мне к себе до сих пор еще — удалось бы пройти. — Так бывало купальщиком — на приморском песке — приносится мальчиком кое-что в кулачке. -Всё от камушка этого — с каймой фиолетовой — до стёклышка матово-зеленоватого — он приносит торжественно. — Это Батово. Это Рождествено. (Монтрё, 1967). Речь шла о фото, которые послала ему Н.К.Телетова, прочитав «Другие берега» какими-то как всегда тогда «правдами и неправдами», она поняла — как это может быть важно ему — увидеть. Он откликнулся стихотворением, этими же «правдами и неправдами», чтобы не повредить ей — через третьи руки передал, но ей все равно это стоило потери преподавательского места в университете. Как все изменилось с тех пор и в жизни и в литературе.
Монтрё стало доступно для «украинских лахудр», как следует из Вашего стихотворения. Когда я там была, меня Бог от таких впечатлений миловал, только смешанные чувства были при виде «бронзового писателя», сидящего в холле отеля, слишком уж натурально как-то, а, может, тени «русской ветки» не достает… А когда мы усталые возвращались, то оставалось рассказать — как сложилась «судьба писателя» в эмиграции. Когда меня спрашивали — почему Монтрё, никто не спрашивал — про Берлин, Париж и Америку, то я признавалась, что не знаю, точнее, я многого тогда не знала о Монтрё, просто неоткуда было. Набоков сам запустил такую версию, обычную для него мистификацию, будто «во всем виноват » Питер Устинов, актер, который пригласил вместе отдохнуть там. Устинов вернулся в Америку, а Набоков задержался до самой смерти. Но как-то с трудом верилось. Во всяком случае, теперь я думаю, что роль, которую Набоков дал сыграть Устинову в своей судьбе — не самая плохая в его актерской биографии.
А теперь, наберитесь терпения немного, хочется рассказать «почему Монтрё», что в выборе этого места на самом деле скрывается, но тут важны детали и их количество, я уже достала свои «материалы», положила на стол, тут по памяти цитировать не получится, как стихи. Итак, Монтрё…
Фешенебельное место, и оно сливается с Вевё и Клараном. Для первых поколений русских путешественников это были места литературных поклонений, здесь «витает дух» героев Руссо. Карамзин смотрел на каменные утесы Мельери. Жуковский остается здесь по нескольку месяцев, переводит «Шильонского узника», оттуда пишет письма своему воспитаннику, будущему императору Александру-освободителю, развивая в них «горную философию».
В 1836 г. в Вевё приезжает Гоголь, он пишет оттуда Жуковскому: «Осень в Вевё наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло и я принялся за «Мертвых душ», которых было начал в Петербурге… Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая оригинальная куча! Вся Русь явится в нём!… Это будет моя первая порядочная вещь, вещь, которая вынесет моё имя.» Ещё одна цитатка: «Что тебе сказать о Швейцарии? Едешь, всё виды да виды, в конце концов тошно от них делается. Если бы попалось наше равнинное подлое местоположение с деревянным полуразвалившимся домом, то я был бы способен воспринять его как новый вид.» Сравните с набоковским: «Вот кажется всю кровь бы отдал, чтобы снова увидеть какое-нибудь болотце под Петербургом».
Лето 1857 года в Кларане проводит Л.Толстой. Он почти ежедневно пешком ходит в Монтрё, а возвращение с прогулки выглядит так в описании Александрин Толстой: «После чаю Лев, не обращая никакого внимания на многочисленную публику, бесцеремонно садится за фортепьяно и требует от нас, чтобы мы начинали петь… Мы пели «Боже, царя храни», русские и цыганские песни — короче всё, что приходило на ум Льву Николаевичу.» Толстые жили в отеле Кетерер. Мне больше нравится как сам Толстой писал: «Удивительное дело, я два месяца прожил в Кларан, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые и далью синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно, с силой неожиданного, действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе, и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго-долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, всё глядя на эти берега и это озеро, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу.»
Бывали там Тютчев и Вяземский.
Герцен сетует о наплыве русских, устремившихся на берега Женевского озера в 60-е годы Х!Х века: «Прежде было покойно и хорошо на берегах Лемана, но с тех пор как все застроили подмосковными домами и в них выселились из России целые дворянские семьи — нашему брату там не рука.»
Великосветское общество останавливается в отеле «Три короны», но курортные местечки приходятся по вкусу так же бабушкам и дедушкам русской революции, Бакунин издает там журнал «Народное дело».
Лето 1868 года проводит в Вевё Достоевский, об этом напоминает мемориальная доска на доме, где он жил. Из писем его: «Что касается до Вевея… в самом роскошном балете такой декорации нету, как этот берег Женевского озера, и во сне не увидите ничего подобного. Горы, вода, блеск — волшебство. Рядом Монтрё и Шильон (Шильонский узник, не помните ли старый перевод Жуковского?)», пожив немного: «… и русских газет нет, и книжная лавка одна. Галерей, музеев и духу нет. Бронницы и Зарайск — вот вам Вевей. Но Зарайск, разумеется, и богаче и лучше.» Месяцы жизни Достоевского наполнены работой над «Идиотом» и мучительными воспоминаниями о смерти почти новорожденной дочери в Женеве.
В Вевё есть русская православная церковь, построенная на деньги Шуваловых арх. Ипполитом Монигетти. Там венчался, например, филосов Лосский.
Ник. Бердяев жил в том же отеле, что и Толстой. Бывал в Кларане и друг отца Набокова П.Милюков, обязанный, собственно, ему жизнью.
В Кларане есть концертный зал Auditorium Stravinski, он там написал «Весну священную», «Петрушку» и др. В Монтрё много раз бывал Чайковский. Рахманинов.
И ещё там в разное время «бывали» и «живали»: Мандельштам, Б.Поплавский, Бунин, А. Белый, Л.Андреев, М.Горький и даже Демьян Бедный (до революции), зато потом он напишет, обращаясь на ты к Набокову: «Да вы вольны в Берлине фантазирен, но чтоб разжать советские тиски, вам и тебе, поэтик бедный Сирин, придётся ждать до гробовой доски». Поэтического дара нет, а пророческий, получается, что есть.
Трудно предположить, что Набоков не знал, что в клинике Валь-Монт, что над Монтрё, провел свои последние недели перед смертью Рильке. Он там тоже был и тоже перед смертью.
Уж не говоря о том, что на кладбище, на котором Набоков хотел быть и был похоронен, покоится так же прах его двоюродной бабушки. Раз уж в Россию никак нельзя, да и что от нее осталось, так хоть среди «своих» теней.
И на прощанье могу рассказать, какой меня ждал небольшой сюрприз в Лозанне, такое забавное созвучие, напоминание о моем детстве, которое прошло «за тридевять земель» оттуда, вполне в набоковском духе. Знаменитая коллекция бабочек хранится во Дворце Рюмина, а это моя настоящая фамилия, от рождения, у меня фамилия и имя почти зеркально отражались, как крылья у бабочки, и почему-то мне было это приятно.”
Марина Шубина эссеист, искусствовед, живет в Мюнхене.

