Заметки
Опубликовано в журнале Иерусалимский журнал, номер 62, 2019
Среди неизвестных читателю стихотворений Слуцкого, предложенных Андреем Крамаренко к публикации в ИЖе, было и такое – явно посвященное Анне Ахматовой:
* * *
Королева архипелага,
голубого с трауром флага,
ровно жизнь – спустить не желавшая
ни в которые времена
и не умершая, а павшая,
словно мачта или страна.
Как империя, как башня –
словно мантия, старый халат,
а меня принимала домашне
средь Полянки, не средь палат.
Трёх мужей и сына единственного
ради слова её таинственного,
чем-то равного слову «сезам»,
взяли, думали: быть слезам.
Королева малого острова,
велика была её власть.
Много было горького, пёстрого,
не они – она дождалась.
А сухие глаза – бесслёзные –
были грустные, стали грозные,
и презрение губы свело.
Кто согнулись, кто сломились,
Не рассчитывали на милость:
точно знали – быть не могло.
Не прикладывался я к иконе
в этой церковке среди скал,
но в жестоком её законе
поученья себе искал.
Не прикуривал от горенья,
комплименты не говорил…
Только это стихотворенье
поздней ночью сотворил.
Поминальный ноктюрн Слуцкого подводит итоги его былой дружбе с Ахматовой и охлаждению их отношений. «Нас Найман поссорил», – сказал он будто бы одному мемуаристу (правда, не во всем надежному) – этот мелкий эпизод рассказан в воспоминаниях Анатолия Наймана. По формуле Давида Самойлова, «она отзывалась о нем с неизменным уважением, хотя несколько отстраненно. Они не могли сойтись, и знакомство расстроилось по какому-то пустяку».
Отношение Ахматовой к Слуцкому постепенно менялось. В декабре 1963 года Юлиан Оксман записал:
Кстати, она очень резко и презрительно сказала о стихах Слуцкого «Мой хозяин меня не любил» и «Мы все ходили под богом», что это, может быть, не плохо по замыслу, но даже не похоже на стихи.
В том же году Ахматова сказала Натану Готхарту: «От него ждали большего».
Андрей Сергеев записал:
Я Слуцкому говорю, зачем он печатает плохие стихи.
– А чтобы не забыли.
– Но, по-моему, если печатать такое, как раз забудут.
Михаил Ландман запомнил:
Когда напечатали его стихотворение «Бог ехал в пяти машинах», удивленно произнесла: «Раньше оно казалось значительным. Есть, очевидно, стихи, которые так и должны оставаться рукописными, – подумала и добавила: – Запретными».
Слуцкий тоже находился в раздвоенных чувствах по отношению к феномену литературного многолетья Ахматовой. В рецензии на ее книжку 1958 года (эта рецензия не прошла в печать, положение поэтессы было тогда еще двусмысленным, ждановское постановление клеймом сверкало на ней) Слуцкий действовал как заступник, но, надо полагать, не кривил душой перед своими читательскими симпатиями:
С незапамятных времен русские женщины любили и были любимы, расставались и вновь встречались с мужьями, провожали их на войну, радовались их победам, оплакивали их гибель. Многие из этих женщин писали стихи. Некоторые – хорошо.
Лучше всех писала Анна Ахматова.
Дочь певучего народа, сложившего тысячи грустных песен и веселых частушек, она нашла новые слова, неслыханные доселе, чтобы по-своему сказать о своей любви. Надо ли говорить, что любовь, переполняющая сердце Ахматовой, шире и глубже только личной женской любви?
И ее печатали после работы – машинистки всего Советского Союза. Переписывали в тетрадки, учили наизусть школьницы…
Недавно мне пришлось работать в Серпухове. Это – большой рабочий город со многими текстильными фабриками и со старинным Кремлем. Ведущие профессии здесь – прядильщицы, мотальщицы, ткачихи. Женщин куда больше, чем мужчин. Так вот, в огромной городской библиотеке новая книга Ахматовой – из числа самых любимых, самых спрашиваемых. Было время – Ахматова была любимой поэтессой петербургских снобов. Совсем не потому, что она писала для них. Потому что серпуховские текстильщицы не умели читать. Революция открыла перед ними двери школ и университетов. Прядильщицы и ткачихи прочли и Пушкина, и Лермонтова, и Маяковского. Сейчас они читают Ахматову и плачут ее слезами, радуются ее радостями…
Но к позднему творчеству Ахматовой Слуцкий относился настороженно. Кинорежиссер Григорий Козинцев записал в дневнике:
Приходил Слуцкий. Он, как и Эренбург, не только не любит, но и попросту не понимает «Поэму без героя». «У Ахматовой, – говорит он, – вероятно, был ключ, а я, человек достаточно искушённый в поэзии, не смог его отыскать».
Вот к эпохе ранней Ахматовой, к окружавшему ее контексту и отсылает отвергнутая строчка в черновике первопубликуемого стихотворения, толкующая об отбитом для себя независимом острове: далеко далеко на Таити.
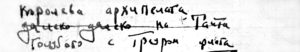
Слуцкий, как известно, был незаурядным знатоком поэзии начала прошлого века, поэтов, выбившихся в великие, и поэтов, запертых в загоне для малых (чего стоит его апология Владимира Пяста!). Вот и в этой строке подразумеваемый в конвое ассоциаций Гумилев (цепочка довольно усложненная, вполне в манере «Поэмы без героя») вызывается из небытия через отсылку к экзотическому имени, побывавшему в обработке у гумилевских современников – не только Надежды Тэффи, сочинившей мадригал певице Каза-Розе (Быть может, родина её на островах Таити…), но и у только в наши дни покинувшего свой загончик Александра Беленсона:
ТАИТИ
Со мной простись, моя Таис:
Готов корабль отплыть в Таити,
Где томно гнёт к земле маис
Свои оранжевые нити.
Печальна ты? Так не таись –
Матросы, без меня плывите:
Уста мне слаще, чем маис,
Таис желанней, чем Таити!
Ночные мысли путаются, как в слагавшейся в бессонную ленинградскую послеежовскую ночь нелегкой для расшифровки «Поэме без героя».