Опубликовано в журнале Иерусалимский журнал, номер 57, 2017
В девяносто первом, когда я купил коричневый трехтомник, это было скорее любопытство. В ту пору меня, как и многих романтичных сверстников, завораживал таинственный Тарковский (как и фильмы его сына), восхищал легкостью письма и закрученностью фразы Бродский.
Трехтомник был огромным, местами непонятным, трудным для чтения, непроходимым. Песня, которую тогда написал, казалась исключением, подтверждающим правило – такие стихи нельзя спеть. (Известная песня «Лошади в океане», в отличие от стихотворения, мне и сейчас не очень нравится.) Должно было прийти понимание этой поэзии, чтобы возобновились попытки соединить ее с музыкой.
Понимание пришло с возрастом, с опытом чтения. Для меня как обывателя был важным не столько выдающийся вклад поэта в развитие стихосложения, сколько его непоколебимая позиция в отстаивании незыблемых человеческих ценностей: справедливости, милосердия, добра, любви и непримиримая борьба с «мировым злом» – со всем, что эти ценности разрушает.
Время вообще высвечивает масштаб поэта. Сегодня все очевидней становится, что Слуцкий – один из важнейших маяков не только поэзии, а русской культуры вообще, что вектор, им заданный, – это путь сохранения в человеке человеческого, путь к выздоровлению общества.
Несколько лет назад я решил проверить предположение, что не все стихи поэта опубликованы. Поиски оказались успешными, часть результатов представлена в этом журнале.
А первая моя публикация[1] неизвестных стихов и дневниковых записей Б. С. была посвящена его жене и другу Татьяне Дашковской. Привожу ее в сокращении.
Красавец-майор, на которого заглядывались многие московские невесты, будучи во всем максималистом (Не стояло Люськи ни одной / в телефонной книжке записной… или А я был брезглив, вы, конечно, помните…), ждал настоящего чувства. И любовь пришла – на всю оставшуюся жизнь.
Знакомство случилось на Пушкинской площади. Уже довольно известный («Мне кажется, всем ясно, что пришел поэт лучше нас…» – Михаил Светлов о Б. С. на заседании секции поэзии Союза писателей), Слуцкий, беседуя с молодым поэтом, заметил, что тот поздоровался с проходящей мимо женщиной, и как бы в шутку сказал: «Если познакомите с ней – дам вам рекомендацию в Союз писателей». Знакомство состоялось и вскоре переросло в любовь и счастливый брак. По словам племянницы поэта Ольги Слуцкой, это была идеальная пара: оба умны, красивы, трогательно заботливы не только друг о друге, но и о близких своей половины.
Счастье длилось десять лет и обрушилось в один день – когда у Татьяны обнаружили неизлечимую болезнь. Поэт бросился в отчаянную борьбу за жизнь любимой. Нужны были деньги на оплату новейших лекарств, больниц и санаториев, и Слуцкий писал многочисленные рецензии и статьи, переводил и переводил.
Горький вопрос, сформулированный Тарковским: Для чего я лучшие годы / продал за чужие слова? – Бориса Абрамовича не смущал.
Наоборот, своими переводами поэт гордился: Работаю с неслыханной охотою / Я только потому над переводами, / Что переводы кажутся пехотою, / Взрывающей валы между народами.
Слуцкому удалось по тем временам невероятное – устроить Татьяне лечение в лучшей парижской клинике. Борьба, итог которой был заранее известен обоим, продолжалась десять лет.
Потрясенный смертью любимой, поэт два с половиной месяца свое горе выплакивал стихами[2] и умолк на все оставшиеся девять лет.
Вот три стихотворения из этих «двухсот», найденных мною в архивах.
* * *
Одиночество возобновилось.
Прерывалось на двадцать лет,
Тани нет. Тани нет. Тани нет.
Целый мир в его грозном блистаньи
не настолько велик. Очень мал.
И не выбралось место для Тани –
уголок, где б ее отыскал.
* * *
Верующим проще и способней,
что же делать мне, если спросонья,
спьяну, с горя и с отчаянья
все равно не в силах верить я.
Вера – это холод кирпичей
той стены, что за твоей спиною.
Что же делать мне, если ничей
голос не беседует со мною?
Не беседует, не говорит,
не советует, не упрекает
и в стихов моих не лезет ритм,
свечкою со мною не горит
и грехов моих не отпускает.
8.2
ДАР
– Куплю ему ушанку-шапку,
чтобы носил, когда умру,
чтоб знобко не было и зябко,
не простужался на ветру.
Так не сказала, а подумала,
махнула весело рукой,
и тотчас же за шапкой дунула,
и простояла день-деньской.
Сопротивлялся – настояла,
упрямая была она
и в очереди простояла
с утра до самого темна.
Как эта шапка тяжела!
Как мало от неё тепла!
21.4
Трудно переоценить роль в судьбе наследия Б. С. его верного помощника – Юрия Леонардовича Болдырева, которому мы обязаны многочисленными публикациями и книгами поэта. Незадолго до своего ухода Болдырев в интервью делился планами на будущее, в которые входило издание тематических сборников стихов Б. С. Один из таких сборников, посвященный «еврейской теме» в творчестве поэта, надеюсь, будет издан в «Библиотеке Иерусалимского журнала».
Скорбь о жертвах нацизма, государственный и бытовой антисемитизм – истоки большинства «еврейских» стихов Б. С. И тема эта нисколько не противоречила его служению идее интернационализма, советскому Отечеству и русскому языку.
Вот один из известных шедевров Слуцкого:
* * *
Черта под чертою. Пропала оседлость:
шальное богатство, веселая бедность.
Пропало. Откочевало туда,
где призрачно счастье, фантомна беда.
Селёдочка – слава и гордость стола,
селёдочка в Лету давно уплыла.
Он вылетел в трубы освенцимских топок,
мир скатерти белой в субботу и стопок.
Он – чёрный. Он – жирный. Он – сладостный дым.
А я его помню ещё молодым.
А я его помню в обновах, шелках,
шуршащих, хрустящих, шумящих, как буря,
и в будни, когда он сидел в дураках,
стянув пояса или брови нахмуря.
Селёдочка – слава и гордость стола,
селёдочка в Лету давно уплыла.
Планета! Хорошая или плохая,
не знаю. Ее не хвалю и не хаю.
Я знаю немного. Я знаю одно:
планета сгорела до пепла давно.
Сгорели меламеды в драных пальто.
Их нечто оборотилось в ничто.
Сгорели партийцы, сгорели путейцы,
пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,
сгорели, утопли в потоках летейских,
исчезли, как семьи Мстиславских и Шуйских.
Селёдочка – слава и гордость стола,
селёдочка в Лету давно уплыла.
Интересно проследить, как создавался еще один шедевр. Первоначальный вариант начинается «фирменным» слуцким звуком – Халдеи хлеба не сеют.
Осознанно или нет, поэт, предвидя реакцию черносотенцев, камуфлирует содержание аллитерациями.
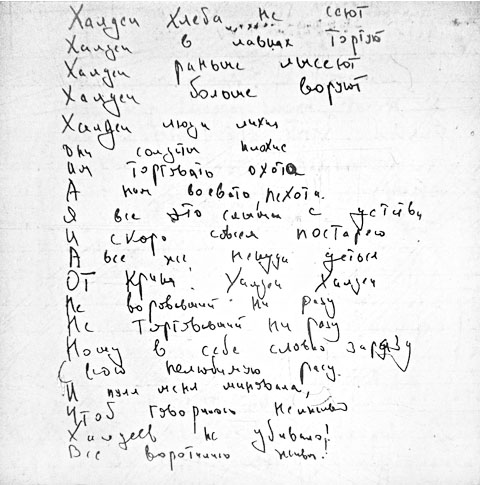
Так выглядел публикуемый впервые вариант, написанный в 1955 году. Но уже к концу 50-х по Москве ходил другой, тот, который нам известен. Работая над стихотворением, поэт отбрасывает страх и обнажает мысль. Стоит отметить, что в России это стихотворение было опубликовано лишь в 1987 году.
В процессе поисков были и «побочные» интересные находки. Например, трогательное письмо-стихотворение молодого Иосифа Бродского (коль уж мы его помянули), написанное и отосланное Мастеру сразу после их встречи. Оно еще интересно тем, что существенно отличается от впоследствии отредактированного и сокращенного (почти на треть) и опубликованного варианта, который легко найти в интернете.
А вот как выглядело стихотворение в том письме (курсивом выделено то, что И. Б. сократил при публикации):
* * *
Лучше всего
было спать на Савёловском.
В этом полузабытом сержантами
тупике Вселенной
со спартански жёсткого
эмпээсовского ложа
я видел только одну планету:
оранжевую планету циферблата.
Голубые вологодские Саваофы,
вздыхая, шарили
по моим карманам,
а уходя,
презрительно матерились:
«В таком пальте…»
Но четыре червонца,
четыре червонца
с надписями и завитками…
Я знаю сам,
где они были,
четыре червонца,
билет до Бологого.
Это были славные ночи
на Савёловском вокзале,
ночи,
достойные голоса Гомера.
Ночи,
когда после длительных скитаний
разнообразные мысли
назначали встречу
у длинной колонны Прямой кишки
на широкой площади Желудка.
Но этой ночью
другой займёт мое место.
Сегодня ночью
я не буду спать на Савёловском
вокзале.
Сегодня ночью
я не буду
угадывать судьбу
по угловатой планете.
Сегодня ночью
я возьму билет до Бологого.
Этой ночью
я не буду делать
белые стихи
о вокзале,
белые, словно простыни гостиниц,
белые, словно бумага для песен,
белые, словно снег,
который попадает на землю
с неба и поэтому (??) – белый.
(На рассвете
мы оставляем следы
в небе.)
До свидания, Борис Абрамыч!
Запомните на всякий случай:
Хорошо спать
на Савёловском вокзале.
Впрочем,
времена
действительно меняются.
Возможно, скоро
будет лучше на Павелецком…
До свидания, Борис Абрамыч!
До свидания. За слова –
спасибо.
Извините за письмо.
Но ведь это
всего лишь три-четыре минуты –
четыре минуты,
как четыре червонца –
билет до Бологого.
Двести семьдесят восемь километров
от Бологого до Ленинграда.
For ever your
8.IV.60 Москва.
Почтамт. И. Бродский
По мере удаления от нас 23 февраля 1986-го, даты окончания земного пути Бориса Слуцкого, все отчетливей проявляются две тенденции в отношении к его наследию. С одной стороны, среди редеющего круга профессионалов растет понимание значения поэта, становится все более очевидным, что речь идет о явлении гения. С другой – круг его читателей становится все уже. Причин хватает: информационный потоп, всевластие рынка со всеми вытекающими…
И потому сегодня особенно важно пробуждать интерес к настоящей поэзии и к поэзии Слуцкого в частности – поскольку ритмизированная и рифмованная речь помимо прочего обладает развивающим (либо отупляющим) и воспитывающим (либо разлагающим) эффектом.
Или, по Бродскому, – эстетика мать этики.
Властью песен быть людьми / Могут даже змеи. / Властью песен из людей / можно делать змей (Новелла Матвеева).
Речёвки и кричалки типа «москаляку-на-гиляку» заводили толпу на Майдане – пример программирования, направленного на формирование примитивного и деструктивного сознания. Воздействие этих мантр глубоко, потому еще немало крови прольется от их внедрения.
Ярчайшим противоположным примером является поэзия Слуцкого – совершенство и разнообразие форм, глубокое по мысли и этике содержание нацелены на формирование человека мыслящего и, что важнее, человека нравственного.
И закончу еще одним известным его стихотворением:
* * *
Меня не обгонят – я не гонюсь.
Не обойдут – я не иду.
Не согнут – я не гнусь.
Я просто слушаю людскую беду.
Я гореприемник, и я вместительней
радиоприемников всех систем,
берущих все – от песенки
обольстительной
до крика – всем, всем, всем.
Я не начальство: меня не просят.
Я не полиция: мне не доносят.
Я не советую, не утешаю.
Я обобщаю и возглашаю.
Я умещаю в краткие строки,
в двадцать плюс-минус десять строк
семнадцатилетние длинные сроки
и даже смерти бессрочный срок.
На всё веселье поэзии нашей,
на звон, на гром, на сложность, на блеск
нужен простой, как ячная каша,
нужен один, чтоб звону без.
И я занимаю это место.